Текст книги "На шаткой плахе"
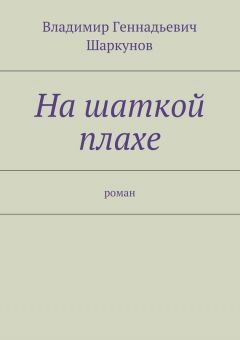
Автор книги: Владимир Шаркунов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
17
– Бродяги! – крикнул я на весь «кичман», когда кум остановил меня у камеры, где сидели педерасты. – В десятую поднимают!
Я крикнул это вовсе не из боязни за себя, а для того, чтобы мои кореша, которые уже не первый месяц сидели в БУРе, знали куда меня поднимают.
Но «буровики» поняли это по-своему. Загрохотали двери камер. Удары мисками о внутренние железные двери, крики, многоэтажная матерщина заглушали все. Из каждой камеры летели проклятья:
– Что делаете, сволочи!?
– Кровопийцы!
Кум, пытаясь перекричать бунтарей, начал что-то объяснять прапорщику, который с ключами от камер стоял рядом. Но тот ни черта не мог расслышать, и кум просто подал знак рукой, мол, открывай. Прапорщик Босый (такую кличку дали зеки из-за полного отсутствия на его голове волос) вибрирующей рукой едва попал в замочную скважину.
Я понимал, что Пекин, поднимая меня в десятую, мстил мне за тот давнишний инцидент с голодовкой. Отыграться задумал, сучара.
Всем было известно, что за контингент сидит в десятой, которая на протяжении вот уже ряда лет служила неизменным пристанищем, нарушающих режим содержания педерастов. Поднимать их в другие камеры опера не решались. Знали, что там им покоя не будет. И уж если кумовья по своей опрометчивости проморгают и «петя» попадает в камеру к уркам, то ему невольно приходится исполнять роль проститутки. Петю не обижают, нет. Напротив, нередко в ущерб желудку, жертвуют своей кровной пайкой лишь бы «петя» не похудел, не потерял товарного вида.
Правда, за всем этим, возможен и подвох. Бывает, что кумовья специально подсаживают «девок» к блатным, с тем, чтобы втихую подпасти и уличить того, от кого бы они желали избавиться. И если им это удается, то урку пускают под раскрутку по 121 статье (мужеложство). То есть, кумовья используют педераста как посредника, после чего этапируют его на другую зону, чтобы не закололи.
Я переступил чуть возвышающийся над полом порог. В камере было трое. Двоих я знал по зоне, и они меня конечно тоже. А вот третьего, как не напрягал память, припомнить не мог. Их в каждом отряде десяток-полтора, где ж их упомнишь. Я так же знал, что те двое были из моего отряда и работали в первом цехе, в пескоструйке, и сидели наверняка, за отказ от работы. Пескоструйка – это не макаронная фабрика, не всяк выдюжит. Третий был хлипенький. «Если придется бодаться, прикинул я, устосаю всех троих».
– Ну что? – сказал я, оглядывая своих сокамерников. – Как жить-то будем?
– Как жили, так и будем, – огрызнулся тот, третий, исподлобья глядя на меня. – Или ты с собой новые правила распорядка принес?
– Ага, – сказал я, и резко запрыгнул на нары, которые были открыты, что категорически запрещалось в дневное время. Я это хорошо знал, потому что уже приходилось сидеть в БУРе. Но на девок сей запрет, по-видимому, не распространялся. Девки, они и есть девки, им всегда снисхождение. – С этого дня я буду вашей мамкой. Заживе-е-ем, скажу я вам.
– Что-то я не въеду? – у этого третьего была явная склонность козырнуть жаргоном. Никак на главного кочета тянул. – Что ты уши-то шлифуешь?
– Не въедешь, говоришь? – ухмыльнулся я. – Объясняю. Слушай внимательно и ничего не упусти. Поскольку я буду вашей мамкой, а вы моими детишками, то вам, для того чтобы расти здоровыми, необходимо припадать к титьке, и я указательным пальцем ткнул вниз. – Теперь въехал?
– Так я думал.., – замямлил тот.
– Что я петя, да? – продолжил я его мысль. – Но, как говорится, ботинки жмут и нам не по пути.
– А зачем они к нам-то тебя?
– Ты будто не знаешь? – я по-турецки уселся на нарах. – Разве кум не цынканул вам, чтобы вы из меня такого же сделали а?
Педерасты молчали. Вполне возможно они ничего и не знали. Уж больно кислыми выглядели.
«Ну Пекин, – злился в сердцах я. – Гомика из меня захотел сделать. Погодь, тварь, придет когда-нибудь и тебе каюк».
Да, кумовья прибегали и к таким мерам перевоспитания блатных. Ничем не чурались. Укрощение строптивых – это их прямая работа, святая обязанность. За это они получают заработную плату. Поэтому действуют всеми дозволенными и недозволенными методами. А хозяину не важен процесс, ему гораздо важнее видеть результат проделанной операми работы. Порядок, тишина и покой в зоне – вот что для хозяина главное.
Тем временем в изоляторе восстановилась тишина. Угомонились зеки, успокоились.
После всей этой нервозной передряги мне страсть как захотелось курить. На киче, откуда меня только что подняли в БУР, я отсидел пятнадцать суток и почти все на голяке.
У «девок» же ничего брать нельзя. Им давать можно, а вот у них брать нельзя – «зафоршматишься». Тогда ты будешь никому не нужен. С тобой не только перестанут общаться, но и никогда не позволят сидеть за одним столом в столовой, прогонят за тот, где сидят опущенные и педерасты.
Таковы волчьи законы преступного мира. И ничего, к сожалению, не изменить. Все как в карточной игре: проиграл – будь любезен, заплати.
Видя, что обстановка в камере несколько нормализовалась, я подошел к двери и негромко крикнул:
– Седьмая? А, седьмая?
– Говори, говори, – отозвались из седьмой, будто ждали, что я подкричу.
По голосу я узнал Теху. Серегу Техина, корефана. Мы крутились в одном кудле.
– Теха! Вы там на счет ушей что-нибудь придумайте. А то вообще труба, хоть караул кричи. Ну и со всеми причиндалами – сам понимаешь.
– Ну, ништяк, ништяк, – пообещал Теха, и не упустил момент подковырнуть. – А тебе подфартило, братан. Один среди «девок». Хоть бы к нам одну заслал, кровушку разогреть, а?
В соседних камерах конечно же слышали разговор, и по изолятору прокатился дружный смех.
– Тебе там это…, – услышал я голос Винта из пятой, – самому-то в душу не заглянули? – и он издевательски заржал. Еще пятью минутами раньше все готовы были перегрызть куму глотку, стервенея от бессилия, а сейчас острили, смеялись, будто ничего и не произошло… Такой вот народ – зеки.
– А ну прекратили! – рявкнул на «продоле» Босый. – Ржете, как лошади! Сгною на киче!
Вскоре тот же Босый открыл кормушку и передал мне махорку, «тарочки» и спички. Я по-шустрому замотал косяк, и жадно затягиваясь, начал «нарезать тусовки».
Педерасты, все трое, как горькие сироты сидели на корточках у стенки и о чем-то вполголоса разговаривали. Ясное дело, их не устраивала сложившаяся ситуация. Они по-видимому соображали: если я останусь в камере, им это будет не с руки. На нарах не поспишь, за тумбой не поешь.
– Слушай! – вдруг обратился ко мне один из них. – Если мы сейчас начнем ломиться, тебя ведь должны будут перевести?
– Ваше дело, – сказал я, продолжая ходить взад-вперед по камере. – Ломитесь. Авось чего и выгорит.
Они все встали, подошли к двери и принялись подзывать дежурного, крича:
– Старшой! Подойди к десятой! Слышь, старшой?
Через пару минут шебуршнула резинка глазка и солдат, помощник Босого, рыкнул:
– Что орете? Кого надо?
– Прапорщика позови!?
Скоро подошел Босый.
– В чем дело?
– Гражданин прапорщик, – в один голос заговорили педерасты. – Вызывайте капитана Пекина. Пусть он переводит от нас этого, – и они показали на меня.
– Что? Не щупает? – гоготнул Босый. – Видать вы ему не по вкусу пришлись!
– Если через пять минут не вызовешь, – предупредили они, – вынесем двери.
– Дубье! Эти двери бульдозером не вырвешь! – сказал Босый. – Лбы расшибете, бестолочи!
«Бестолочи» не стали больше с ним разговаривать и присели у дверей. Но Босый похоже не стремился к взаимопониманию. Он хлопнул резинкой глазка и удалился, звонко стуча коваными сапогами о пол в коридоре. Ему видимо и в голову не могло прийти, что педерасты отважатся… Но не тут то было. Они как по команде встали, взяли из шкафа миски, и началось.
Минута, другая, третья. Эффекта никакого. Но они продолжают упорно атаковать двери.
Еще прошло минут восемь. Они уже все в поту, однако, не прекращают начатого дела. Еще пара минут. И тут вдруг резко открылись двери. В коридоре стояли Пекин, Босый и его помощники – два солдата.
Педерасты тяжело дышали и рукавами смахивали пот с лица. Все молчали. Пекин, с едва заметной ухмылкой, смотрел то на педерастов, то на меня, соскочившего, в последнюю секунду, с нар.
– Медведев! – приказным тоном сказал он, и мотнул головой. – Выходи!
Значит, Пекин все это время был в изоляторе. За десять минут он не мог тут нарисоваться. Сидел, гнида, тихо себе в дежурке и ждал, что же со мной сделают педерасты. Жаждал реванша за мое прошлое, мракобес.
– О-о, бродяга! – обрадовался, как родному, Винт, когда я вошел в камеру. – Приветняк, стало быть! Ну, теперь все путем! Располагайся, ты дома!
– Заиграло, видно, очко у кума, – пожимая мне руку, сказал Цыпа, высокий и не обиженный здоровьем парень. – Ну, как, жив – здоров?
– Да все ладком, – не скрывая радости, сказал я.
И Винта и Цыпу я знал, как отче наш. Крутились мы вместе и, естественно, наши взгляды на тутошную жизнь ни в чем не расходились, за исключением разве что мелочей.
Помимо Цыпы и Винта в камере были еще трое. Но те из другого кудла и тоже конечно правильные. Одного из них я хорошо знал. Кликуха Туз, заправило в своем косяке. А знал я его по той простой причине, что во всех всевозможных разборках и передрягах в зоне Туз всегда начинал первым вести базар от имени тех, с кем состоял в одной ватаге.
Ни один из этой троицы не подал мне руки. Беда какая.. Главное, я был среди своих.
И все ж я надеялся, что кум поднимет меня в седьмую, там сидели закадычные дружки. Да и седьмую в рабочку выводят, ящики колотить – все разнообразие… Но кум поступил по-своему и поднял в пятую.
Перед тем как меня перевести в БУР, мне зачитали постановление, в котором говорилось, что я понесу наказание сроком на шесть месяцев. Дольше в БУРе и не имели права держать. По закону.
Потянулись долгие, однообразные дни и ночи. Как-то само собой складывалось, что, оказавшись в одной камере, одна троица почти не вела разговоров с другой. Все базары велись исключительно в своем кругу. И даже ночью, на сплошных нарах одна троица спала у одной стены, другая у другой. Сказывались конфликты в зоне, которые не всегда заканчивались взаимопониманием. Но уговор в БУРе никаких разборок – был тверд. Тут все одинаково страдают. Каждый обязан делиться друг с другом, и даже с врагом. Если тяжко придется педерасту, и ему обязан помочь каждый, ибо и он также загнан администрацией в угол и страдает не меньше остальных.
В одну из ночей я не мог сомкнуть глаз, как не пытался. Не моглось что-то. Память заныла. Мне вспомнился дом с палисадником, где когда-то я посадил черемуху и две яблоньки-ранетки, и конечно же, мать и отец. На воле я не испытывал такого тонкого, до боли в сердце, нежного и трепещущего чувства к своим родителям, как здесь в этих стенах. Ничего-то я на воле не понимал, не умел правильно оценить материнскую ласку и отцову строгость. Заносчив был, самоуверен…
За три с малым года, что я находился в неволе, мне лишь раз посчастливилось побывать на личном свидании. В самом начале срока, и благо еще, что кумовья каким-то образом, прозяпали. Свидания я был лишен, но списки вывесили гораздо раньше, вот мне и повезло. Сутки… миг радости.
Как сейчас помню, в июне это было, двадцать седьмого числа тысяча девятьсот семьдесят шестого года.
Когда я вошел в барак, где по обе стороны коридора располагалось десятка полтора комнат для свиданий, то сразу увидел мать. Она стояла посреди коридора и смотрела на двери. Ждала, бедная. Низенькая, в видавшем виды ситцевом платье и серых старомодных туфлях, она казалась такой убогой и униженной, что только от одного ее вида у меня влагой наполнились глаза. Я подошел к ней и остановился, с трудом сдерживая слезы.
– Мама! Ты не узнаешь меня?
– Сына, – одними губами выговорила она, и уронила голову мне на грудь. – Сынок…
Я обнял мать и чуть не разрыдался.
– Сынок, родной, – так же тихо проговорила она, и я почувствовал как мать повисает у меня на руках. – Я и не признала тебя.. Вот эть, жизь-то как крутит… Ты уж прости меня, старую, сына…
– Пойдем в комнату, мам?! – в самое ухо, сказал я ей. – Люди ж смотрят.
В коридоре стояли другие, приехавшие на свидание, и тоже поджидали своих сыновей, мужей, братьев. Я не хотел перед чужими выказывать слез. Мне казалось, что на нас смотрят во все глаза. А того не соображал я, что тем, другим, было не до нас, поскольку каждый ждал своего мужика, неотрывно глядя на входные двери.
Выручил отец. Он вышел из комнаты, и увидев своих, помог мне увести мать. При этом он лишь мельком взглянул на меня, будто вчера виделись. Но в комнате отец обнял меня и крепко поцеловал три раза. Даже слезы выкатились из глаз, чего раньше я за ним никогда не замечал. Знать, тоже не железный.
Отец, как заправский каторжанин, уже успел вскипятить в поллитровой банке воды и заварить чифирку.
– Индийского привез! – похвастал он. – Чуешь, запах какой?
Пока мать сидела на кровати и оправлялась от встречи, по-прежнему тяжело вздыхая, я «тусанул» заваренный чай. Затем, дав ему отстояться, налил в стакан и протянул отцу.
Когда же отец, прерываясь для разговора, выпил содержимое стакана, я не без удивления спросил его:
– У тебя машина-то, пап, не заклинит?
– Сердце, что ли?
– Ну да.
– Да я чифиру и водки столько выпил, тебе не переплыть будет. – Улыбаясь в усы, он вставил сигарету в мундштук, и прикурив, глубоко с усладой затянулся, – А сердце у меня – дай бог каждому.
– Не помню я, чтобы ты дома чифирил?
– Вот-те раз! А на Оби, когда в Низямах жили, разве не помнишь? Должен помнить, ты уж большенький был. Семь лет к ряду, пока в рыбаках ходил, все крепкий чай пил. На сора я тебя не однажды брал, как ты не помнишь? Бывало, сутками у «запора» рыбу черпаешь… Без чая никак, а чай-то какой был? Тоже не помнишь? Китайский. В таких расписных, жестяных баночках. Ты тут его и в глаза не видел. То был чай! Индийского пожалуй, получше.
– И че ты ему всяку ерунду несешь, – перебила его мать. – Парень-от худющий, ровно ухват, а он ему чай «андейский». – Она подошла к столу, на который они выложили привезенное съестное, и принялась варганить обед.
Колбаса, отварная курица, разные банки, торт, конфеты, чего только не было на столе,
– Вы давайте, ешьте, че подала, – сказала мать. – А я пойду на кухню, колбаски с яйцами поджарю. Я уж тут успела, обсмотрелась.
Она вышла, прихватив все необходимое.
– Ну что сын? – отец вопросительно посмотрел на меня. – Обмоем встречу?
– Что? Пронесли?
– Как написал, так я и сделал.
Отец взял со стола пол-литровую банку вишневого компота. В его здоровых, натруженных, с побитыми и корявыми пальцами руках ее было не видно. Без особых усилий, большими пальцами он сорвал крышку. Налил полстакана и протянул мне.
– Спирт, что ли?
– Не повезу ж я бормотуху, – и тем же способом открыл вторую банку. – На, запьешь. Это клюква. Мать сама закатывала.
Я осилил лишь половину налитого и, почувствовав жжение в горле оторвался, быстро запив морсом.
– У-у, – промычал я. – Аж слезу вышибает. Крепкий зараза!
– Да ну! Не может быть! – улыбнулся отец, и налив до половины в тот же стакан, разом опрокинул содержимое в рот. Крякнул и сказал: «Спирт как спирт».
Я закусил кружком колбасы, а отец, смотрю, о закуси и не помышлял. Да он и прежде-то не особо себя этим баловал.
Перед свиданием я рассчитывал набить желудок до отказа. Но теперь, глядя на все это съестное изобилие, мне ничего не хотелось. И такой феномен объяснению не поддается. Во всяком случае – мне.
– А денег часом не пронесли? – спросил я отца.
– Сотню, – сказал он. – Две по пятьдесят.
– Вот это хорошо, – обрадовался я, будто деньги сейчас были для меня главным.
За все время свидания я так толком ничего и не ел. Мать только расстроил – напрасно на кухне хлопотала. Ну не мог я, что тут поделаешь.
А перед тем как проститься, я по отдельности сложил пятидесятки таким образом, что они представляли собой небольшой квадратик, затем обернул их целлофаном и, перетянув ниткой, проглотил. Иначе в зону не пронесешь. При выходе шмонали особенно тщательно, не то что когда запускали. Заставляли приседать по нескольку раз – авось чего в жопу заначил. Как-то у одного выудили из задницы восемьсот рублей в трубочку свернутых и ниткой перевязанных. Нашел нычку, олух. Вот с тех пор и заставляют приседать и чуть-ли не туда заглядывают.
Уже в отряде я через силу выдул около трех литров воды и, затолкав в рот пальцы, вырыгал и воду и деньги.
…Два года минуло с той поры, как я виделся с родителями. Но я никак не мог забыть какой за год, за один лишь год стала моя мамка. Отец, тот вроде ничего, не изменился. Видно было, что здоровье у него прекрасное. Такой же подвижный, уверенный в себе. Ни единого седого волоса. Лицо чистое, только по краям губ две давнишние морщины, убегающие за ноздри. И непременно усы – сколько его помню… А вот мать сдала крепко. Раньше морщин на ее лице я не замечал, а возможно и не обращал внимания. И все одно, на свидании она показалась мне старушкой. Морщины изрядно изрубцевали ей лицо. Под глазами темные, словно синяки, обвислые мешки. А волосы.. какие у мамки были волосы! Я всегда восхищался, что они у нее длинные, густые и черные точно смоль. И вдруг, всего-то за один год стали сплошь седыми, берестяного цвета.
Я помнил и то, как мать говорила мне, чтобы слушался начальников, жил спокойно, никуда не лез. Даже узнала у кого-то, что если буду вести себя хорошо, через три года вывезут на поселение. Мол там, на поселении, будет намного лучше и мы сможем чаще видеться. На это я ответил ей так как подсказывала совесть: «Не могу я, мама, слушаться начальников. Вы уж простите меня, но весь срок мне придется отсидеть от звонка до звонка. Я уже до конца срока лишен всего – и свиданий и посылок. Отоварку кровную не вижу. Здесь за все наказывают. Не по форме одет, получи; поперек слово сказал, получи; в столовую без строя, получи; пуговка не застегнута, получи. Словом, администрация делает все, чтобы обратить человека в скотину».
Мать, конечно, в слезы. Отец, тот, молчал. Но когда пришел час прощаться, он сказал мне:
– Смотри, сын. Жизнь один раз дается, – как-то по книжному сформулировал он. – Я – то мужик, выдюжу, а вот мать раньше срока может… Ты уже давно не пацан, понимать обязан. Она днем и ночью на свет божий сырыми глазами смотрит. Изведет она себя.
– Хорошо, пап. – Меня окрикнул прапорщик, который дожидался в дверях коридора. – Я понимаю… я буду..
Я еще раз обнял родителей, развернулся и зашагал к выходу. В дверях, не выдержав, я обернулся и увидел, как мать протянула руки и сделала шаг в мою сторону.
– Ждите меня! – дрожащим от волнения голосом крикнул я, крепко, до боли в зубах стиснув челюсти. – Ждите…
Прапорщик подтолкнул меня в спину и захлопнул дверь. Дверь, за которой остались два милых моему сердцу человека. Только здесь я осознал в полной мере, что они значат для меня. Может и к лучшему, что жизнь меня шмякнула о самое дно?
18
В коридоре взревел зуммер, извещающий о подъеме. Послышались голоса и топот сапог. Пришел зоновский наряд во главе с прапорщиком.
В ШИЗо они приходят в целях, так сказать, безопасности. Дежурный по изолятору и двое солдат, его помошники, не имеют права открывать буровские камеры (в дневное время могли), и выпускать людей для того, чтобы те в шесть утра сносили в каптерку матрасы, которые брали из каптерки же, накануне, перед отбоем. А еще, наряд пособлял с выводом буровиков на работу (под этой же крышей небольшой тарочный цех), а так же при съеме.
Зэк– человек ненадежный. За ним глаз да глаз нужен – хоть и сидит он за семью замками.
После подъема, когда матрасы были сданы, а зоновский наряд покинул изолятор, Туз настроился кипятить воду в алюминиевой кружке, подвесив ее на кран над толчком. Листы из «Нового мира», горели за милую душу. Чаек в камере пока крутился.. За деньги его трелевали и прапоры и солдаты. Денежки они уважали. И они же брали у буровиков конверты с письмами, своей рукой вписывали адрес, на который родители или друзья должны были послать денежный перевод, запечатывали и кидали в почтовый ящик, уже там, за забором. За услуги, обычно, брали половину. Если приходил перевод на сотню, зэк получал пятьдесят и, на эти же пятьдесят, тому же прапору заказывал чай. Цыны были вполне приемлимы – пять рублей за две плахи чая. И, что характерно, чай носили самый поршивый, Редко, кто приносил путний. Суки-что скажешь!
Е стественно, за связь с зэками по головке никого не гладили. Но, тем не менее, деньги делали свое дело. И если не все, то добрая часть из числа военнослужащих колонии испытывали ну просто неземную любовь к рубликам.
…Все в камере делилось по братски. Вот и сейчас, все шестеро сидели за тумбой чифирили, передовая кружку по кругу.
Одна троица волком смотрит на другую, но вслух никто и словом не обмолвиться, чтобы выказать неприязнь к сокамернику. Уговор, все разборки на зоне, соблюдается свято.
Взбодрились чифирком – понялось настроение. Много ли зэку надо? Чифирнул – и волокешься, как вошь по темени.
Подъехал луноход. Открылась кормушка и в проеме показалась пухлая рожа Пони.
– Ну что там у нас на завтрак? – полюбопытствовал Винт. – Похоже блинчики?
– Только квашеные и пошинкованные, – сказал баландер.
– Ух ты-ы! – Винт хотел ухватить Пони за щеку, но тот увернулся. – Когда нибудь я натру тебя чесночком и слопаю. У —ух, вкусненький! – И Винт заржал.
Квашеная капуста, залитая горячей водой, ежедневно входила в утреннее меню и порядком поднадоела. Однако, приходилось есть – куда деваться.
Отзавтракав, мы надумали перекинуться в картишки. Устроились под самые двери, с тем, чтобы нас не смогли застукать врасплох. Другая троица решила щегольнуть знаниями и, с умными мордами, копела над кроссвордом в «Строительной газете».
В пылу игры Цыпа с Винтом так заспорили, что мне пришлось успокаивать их.
– Хорош орать, спалят же!
– Так он чем взял? – возмущался Винт, кивая на Цыпу. Он же королем, а не дамой! Король то вот, у меня!
– Протютюхал, все! – уперся Цыпа. – Взял в руки портянки, не хрен варежку разевать!
Тут загремела кормушка. Я успел сунуть свои карты под мусорный бачек и встал. Цыпа с Винтом тоже подпрыгнули, но карты остались у них в руках, за спиной.
– Во что играем? – с ехидцей поинтересовался прапорщик Краснов, шныряя глазами по камере. – Уж не в очко ли?
– Какая игра, гражданин прапорщик! – нагнувшись к кормушке, врал Цыпа. – Так сидим, базарим, волю вспоминаем. – Я слышал как вы базарили! – сказал Краснов. – Где картишки то?
– Да внатуре, гражданин прапорщик, – жестикулируя свободной рукой, Цыпа продолжал врать. – Какой смысл мне помелом шлепать. Что то ты напутал?
– Я вот сейчас на тебя и на Зарова, – он пальцем указал на Винта, – рапорт «напутаю», и пойдете у меня на кичу отдыхать! Понял? Так что, пока я добрый, гони карты сюда!
И надо же, в это самое время в изолятор пришла смена и вместе с ней наряд салдат, чтобы произвести развод в рабочку седьмой, девятой и кичевской– шестнадцатой камеры.
– Ну-ка, все сюда! – крикнул прапорщик Краснов солдатам. – Живее, живее..
Когда подбежали солдаты он, видимо, кому то из них отдал ключи и, не отрывая глаз от Цыпы, рявкнул:
– Открывай!
Мигом открылись обе двери.
– Все в коридор! – это он уже в наш адрес. – Лицом к стене!
Пока одни солдаты обыскивали нас, другие наводили шмон в камере. Не прошло и минуты, как карты были найдены.
– Ну вот, – Краснов подошел к Цыпе и показал ему колоду. – А ты говорил, базарили.
Спорунов увели на кичу. А когда поменялась смена, и буровиков вывели в рабочку, Цыпа подкричал:
– Нам с Винтом по десять суток отвешали. В третьей чалимся.-, оба.
– Все понял! – отозвался я, и не упустил момента подначить. – Может вам и туда портянки подогнать? Волю повспоминаете, побазарите..
– Ты.. Миша! – забуксовал Цыпа, задетый подковыкой. – Вот Краснов на смену заступит, я ему чистосердечно во всем признаюсь и попрошу его, чтобы он тебя к нам устроил. Вот тогда мы с Винтом тебе о воле расскажем!
– Я куму пожалуюсь! – крикнул я. – У меня защита надежная!
В изолятора заржали.
– Сгною на киче! – заорал прапорщик Босый, заступивший на смену.
– Это чья там жопа урчит? – изменив голос, крикну я. – Чоп поставь, простудишь!
– Сгною!! – пуще прежнего заорал Босый. – Всех сгною!
Он побежал рыскать по глазкам, в надежде отыскать того, кто кричал. Но его попытка изобличить крикуна не увенчалась успехом, и он, матерясь, удалился восвояси.
Теперь я остался один – свой среди чужих. С сокамерниками почти не разговаривал, за редким исключением. Большую часть времени я проводил за чтением газет и журналов. Читал по многу и все подряд. А когда уставал от заумных фраз, ложился на пол и дремал. Благо, пол был деревянный.
С того дня, как посадили на кичу «картежников», мы все, не сговариваясь, перестали есть пайковой сахар., припасая его на тот день, когда шулера поднимутся в хату. И обеденное масло, что по пять грамм пологалось в кашу, сливали в одну кружку. Таково правило. Сам страдаешь, но встретить того, кто находится в еще более жостких условиях, обязан по человечески.
Наконец то время пришло-Цыпе и Винту осталось сутки до подъема в хату. И тут случилась непредвиденная бякушка. В камеру, перед самым обедом вошел тот, кого я никак не предпологал увидеть здесь, да еще в таком виде.
Держась за правый бок, в камеру вошел Жаба, закадычный друган Туза. Жаба был тубик, и от того видимо, худой, буровская жизнь. Лагерные коновалы, прада, не знали о его болезни. Ему каким то образом удавалось скрывать это от них. Сам он родом был из Тюмени, и его родные частенько передовали ему барсучье сало и разные дефицитные колеса. Он и лечился самостоятельно. Но нельзя сказать, чтобы Жаба шел на поправку, скорее всего то, что ему передовали, служило лишь поддержкой и только. Болезнь была запущена. Однако, хреновое здоровье не мешало ему быть порядочной сволочью. В нашем кудле его ненавидели все, без исключения. Знали, что Жаба лиса, затесавшаяся в волчью стаю. Молотнуть его намеревались многие, и не однажды. Но Жаба всегда выскальзывал налимом, как только чуял неладное. Казалось бы, выходит в третью смену, в промзону, молоти его. Нет. Он либо исчезал, какДжин, либо возле него, невесть откуда, появлялся дежурный наряд. Никак не получалось проучить эту мразь. И вот те на! Жаба вошел, уделанный чище лошади. Лицо сплошной вздутый синяк. Глаз не видно – так, смотровые щели. И судя по тому, как он кособоко вошел, ребра ему расчесали-будь здоров.
При виде Жабы у Туза округлились глаза. Возможно, в первый момент, он не узнал своего другана. Не зная, что сказать, он помог Жабе присесть на лавку у тумбы, с другой стороны которой сидел я.
– Братан! – не своим голосом проговорил Туз, заглядывая Жабе в лицо. – Кто тебя?
Жаба молчал. Казалось, он вот-вот разревется.
– Говори братан! Говори! – просил его Туз и, присев рядышком с ним на корточки, трясущимися руками начал заматывать косяк. Газета у него не клеилась, махорка то и дело просыпалась на пол. Но снова и снова досыпалее и продолжал слюнявить газету. В конце концов получилось. Он прикурил самокрутку и, раскурив, протянул Жабе. – Хапани, братан!
Тот взял косяк и, с трудом разомкнув губы, сделал несколько затяжек подряд.
– Ты говори, братан! Не молчи! – снова просил его Туз. – Кто посмел на утебя рку поднять? Какая сука?
– Вон, – Жаба кивнул на меня. – Теха со своими на рабочке/
– Кто-о-о?– Туз зверем уставился на меня. – Теха?!
«Ну вот, подумал я, кажись приехали. Если в счастье не везуха, значить в горе подфартит. Седловину то мне сейчас расчешут от всей души. Четверо, в восемь кулаков… Волокуша.»
Туз, будто его скипидаром укололи, затусрвался по камере. Я сидел, как сжатая пружина, готовая разжаться в любую секунду. Изподлобья стреляя на Жабу, думал: «Чуть что, наворочу этому инвалиду от всей души, до кучи, а там будь что будет.
– За что они тебя? – спросил Туз, продолжая тусоваться.
– Я не знаю, – промямлил Жаба.
– Так, ни за что ни про что, били? – вклинился я. – Нотак не бывает. Не чеши.
А ты бы, вообще, помело попридержал, – повышенным тоном сказал мне Туз.
– Ты мне рот не затыкай, – я строил из себя парня, которому на все плевать.
– Теха не вкурсе, что разборки в изоляторе падло? Так что ли?
– Я бы не сказал.
– Не сказал. Мы ведь тоже можем тебя сейчас отстегать. И мама родная не узнает.
– Можете, – возрожать было бессмысленно. – Только ты маму не трогай. Лады?
– Короче, Теха еще поплатится. – Туз явно снизил обороты, успокоился. – За этот безпредел он ответит. Лично я, пайкой клянусь, не прощу.
У меня отлегло от сердца. Тух, похоже, не собирался устраивать бойню. Что то удерживало его. «Хочет показать себя истинным каторжанином? Мало вероятно. Нет, тут что то другое. Завтра утром мои кореша поднимаются с кичи. Вот что его пугает. Цыпа, машина дай бог, и если он начнет работать своими заготовками, то Тузу с кентами, камера покажется с замочную скважину. Допустим, молотнут они меня сегодня, завтра Цыпа с Винтом их на больничку отправят. Ну Туз. Хитер в расчетах».
Вечером (из разговора своих сокамерников), я окончательно убедился, какая ж все-таки мразь этот Жаба. Да и Туз, получалось, не лучше. Оказалось, Жаба за какой то порожняк угорел на пять суток. А с минимальным сроком наказания, как правило, садили в шестнадцатую камеру, которая находилась на буровском положении, и ее контингент выводили на работу в тот же цех, куда и буровские хаты. Вот Теха с кентами и не упустил случая. Тут уж Жабе деваться было некуда. И что интересно – за пять лет Жаба ни разу не попадал в ШИЗо.
И вдруг, дал маху. Даже не верилось. Но как говорится: «сколько ниточка не вейся, а у волка когти длиньше». И, ведь, не подкричал Тузу, что на киче парится. Гаденыш. Я все, пусть и не до конца, понимал, но вот одно меня сбивало с понталыку. Если у Жабы пустяшное наказание (пять суток), то на каком таком основании прапорщик посадил его к нам, в буровскую камеру? Непонятно, что за трюк? Может их связывают какие то родственные отношения? Сплошной туман.
Скоринько Жаба сам признался, что попросил прапорщика, чтоб тот пасадил его вкамеру, где сидит Туз.
Вовсе галимотья сплошная. Что значит – попросил? В этом заведении можно попросить только пиз..лей – и никак не меньше. Одно слово – сказка.
До меня таки дошло. Я знал, что прапорщик не имеет права решать такие вопросы, поскольку он, всего-навсего, надзиратель. Куда и кого сажать решают опера и кумовья, но уж никак не надзиратели.
Ночью я не спал. Все ж ощущение у меня было не из приятных. Один против четверых – это не шаньги штэвкать. Урэкают – и забуду как подстрижен.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































