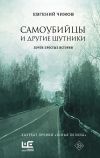Текст книги "Гения убить недостаточно"

Автор книги: Владислав Отрошенко
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
Итальянская Книга мертвых
Эпиграфом к этому сочинению могли бы послужить строки из стихотворения Николая Заболоцкого, написанного в 1936 году:
И я – живой – скитался над полями,
входил без страха в лес,
и мысли мертвецов прозрачными столбами
вокруг меня вставали до небес.
В книге Франко Арминио «Открытки с того света»[29]29
Franco Arminio. Cartoline dai morti (букв. «Открытки от мертвых»). Nottetempo, 2010. Далее сочинение цитируется по русскому изданию: Франко Арминио. Открытки с того света / пер. с итал. Геннадия Киселева. М.: Ад Маргинем Пресс, 2013.
[Закрыть] мы имеем дело не только с мыслями мертвецов, но и с их памятью.
Память умерших, по внутреннему сюжету сочинения, чудесным образом зафиксировала сам момент умирания. Арминио поставил себе задачу изобразить изнутри – голосами, так сказать, потерпевших – все вариации этих моментов, немыслимых для живого – живущего – сознания.
Сверхкороткие рассказы, которые действительно можно уместить на стандартную почтовую открытку, а некоторые даже на обрывок телеграфной ленты, представляют собой в прямом смысле (название ничуть не обманывает) послания с того света. Безумные, комичные, гнетущие, поэтичные, ужасающие, идиотские, окрыляющие, отвратительно банальные и ошеломляюще необычные сообщения мертвецов о своих смертях. О том, как это было, – без всяких заголовков, предысторий, подводок, дальнейших сюжетных развитий. А просто – бах! – вот так оно случилось. Или, лучше сказать, так накрыло человека внезапно смертного это великое и грозное оно.
Я вышел из бара и свернул не на ту улицу. Дул сильный ветер и валил снег. Сердце под пальто заледенело.
Поплавав в море, я вышел на берег и стал вытираться.
Я упал на песочный замок.
Или вот так:
Я умер три тысячи лет назад. Я был пастухом, как и все.
Я заснул, а корова наступила мне на живот.
Булгаковский Воланд, случись ему объявиться в сегодняшней Москве, мог бы почитывать, сидя на скамейке на Патриарших в ожидании случайной встречи с отрицающими Бога литераторами, не «Литературную газету», а именно “Cartoline dai morti”.
О Боге персонажи «Открыток…» – что естественно в их положении – время от времени вспоминают.
«Я пошел в кузнечную мастерскую. Мы говорили о перилах. Разве можно верить в Бога, когда человек умирает, говоря о перилах», – сокрушается один потерпевший.
Другой, словно соглашаясь с ним, заключает: «Смерть – прескверная вещь. Скверно даже не то, что люди умирают, а то, что можно умереть в любую минуту. Не может быть никакого Бога. Никакой Бог не допустил бы моей смерти в три часа дня на адриатической автостраде в районе Сенигалии».
Третий, напротив, отлично с Богом знаком. «Если хотите знать, Бог всё время в черной водолазке», – сообщает отправитель «открытки». И на этом таинственно замолкает, демонстрируя ослепительную убежденность в достоверности транслируемого образа, свойственную как просветленному, так и помраченному сознанию.
Будто персонажи рассказа «Бобок» Достоевского, покойники Арминио продолжают жить, лежа под могильными плитами, под землей, в ячейках колумбария, – продолжают чувствовать, думать, видеть, хотеть. Но в отличие от мертвецов «Бобка», которым дано лишь немного времени сознательной жизни в могилах для спасения души и которые одинаково распутны и беспечны, мертвецы «Открыток…» разные – грустные, веселые, тупые, остроумные, философски настроенные, сварливые, воодушевленные, подавленные, наблюдательные. Никакими сроками их посмертное существование не ограничено. Души их свободны от выбора между спасением и адом – ни того, ни другого для них нет. А есть только посмертные будни, тягучие и затягивающие, способные сгладить и притупить всё – даже пережитую травму смерти. Какой бы болезненной она ни была, она со временем забывается умершими, как и травма рождения живущими.
Я здесь, в самой верхней нише северной стены кладбища.
Сквозь щель в нишу забивается снег и лежит тут месяцами.
На могильных досках таких, как я, изображают с длинными закрученными усами. Я даже не помню, как умер.
В темном гробу одна рука лежит с одной стороны, другая – с другой. Они никогда не коснутся друг друга.
Я умер через пять минут после того, как меня похоронили.
Смесь черной иронии со светлым юмором (и наоборот) делает «Открытки…» удивительно гибкими и всеохватными в передаче того, как преломляется тот свет в кристалле обыденного сознания. Арминио с особой проникновенностью передает нелепое и неотчетливое самоощущение смерти своих персонажей; таким же убийственно неотчетливым в них было чувство жизни.
Нас было двое братьев – Пинуччо и Тонино. Я был Пинуччо, и я умер. Насчет Тонино не знаю.
Я умер на стадионе. Моя команда выигрывала и тянула время, удерживая мяч в центре поля.
Я был священником. Я никогда не верил ни живым, ни жизни. Честно говоря, я ждал чего-то большего от смерти.
Что же касается мыслей, встающих «прозрачными столбами до небес», то у мертвых Франко Арминио они могут быть такими:
Нет даже небытия – по крайней мере, мне так кажется.
Или такими:
Мы всё те же, всё тот же десяток человек, которые тысячелетие за тысячелетием рождаются и умирают.
Но все это не имеет значения. Потому что:
Кончается тем, что в один прекрасный день на твоей могильной плите загорает ящерица.
Итальянскую Книгу мертвых, написанную поэтом и публицистом родом из городка Бизачча в Кампании, который любит бродить по заброшенным деревенькам своей области (чтоб заселить их, по его выражению, «собственным духом»), нельзя, конечно, сопоставить ни по древности, ни по сакральным функциям, ни по значению для истории мира с тибетской Книгой мертвых. Но как и тибетская, итальянская способна оказать своеобразную помощь беспокойному человеческому духу, тысячелетиями пытающемуся понять, что такое смерть, и делает она это по-своему, по-итальянски, – удивляя художественным блеском и щегольской лапидарностью.
Принцип точного искажения
Есть рисующие писатели. Есть пишущие художники. Юрия Петкевича нельзя отнести ни к тем, ни к другим. Он – писатель-художник. Порядок слов в этой паре, связанной дефисом, можно свободно менять. Он зависит от того, что в данный момент происходит, – публикация прозы Петкевича или выставка его картин.
Является ли его проза продолжением его живописи? Или Петкевич берется за кисть и краски, чтобы дописать свои рассказы? Ответить на вопрос, что первично в нем – дар писателя или дар художника, – невозможно. Можно только установить несомненную связь между кистью и пером художника-писателя. Достаточно взглянуть на картину под названием «Похороны». Ее восприятие вызывает те же эмоциональные нарушения, что и сцены похорон, описанные в прозе Петкевича: внутреннюю улыбку, затаенный смех, хотя сюжет картины полностью соответствует ее названию. Изображена похоронная процессия. Она движется по сельской дороге. Несут крест. Несут гроб. В принципе, ничего смешного. Но что-то смешит, даже радует.
Выразить это что-то, что пронизывает «Похороны» кисти Петкевича идиотски праздничным настроением, в словах почти невозможно – то ли в красках есть какая-то неуместная яркость и веселость, то ли в образе гроба затаилось что-то клоунское, то ли в общем строе процессии пробиваются вихри деревенской гулянки. Может быть. Однако ни в коем случае я не назвал бы «Похороны» шутовской картиной. Это очень серьезная картина. В ней есть своя неизбежная – обязательная, урочная – печаль. Но солнечного смеха больше. И вместе со смехом она вызывает то уникальное чувство – чувство неуязвимости для смерти, – ради которого рисуются картины и пишутся писания. По отношению ко всему, что касается смерти, смех человеческого существа, обреченного умирать, должен быть странен для ангела Азраила. «Похороны» смешны. Психологи бы назвали такой ненормальный контакт с художественным полотном, изображающим смерть в ее наиболее узнаваемых и гонимых из сознания образах, нарушением фоновых ожиданий.
Нарушение присутствует во всем, что выходит из-под кисти Петкевича. Его живопись принято определять (с подбадривающего согласия самого автора) как примитивизм. Однако у Петкевича нет устойчивого стиля, который позволил бы определить всю его живопись тем или иным искусствоведческим термином. Случайного и неосведомленного посетителя любой его выставки, забежавшего на минутку, можно было бы легко мистифицировать, выдав ее за выставку нескольких художников, работающих в разных манерах. Стилевое единство, как и единую технику исполнения, в живописи Петкевича проследить невозможно. Единство прослеживается на уровне ви́дения и чувствования мира. Его картины объединяет тот особый искажающий взгляд, под воздействием которого реальность обнаруживает иные свойства и формы, ускользающие от трезвого взгляда обыденного сознания. Помимо состоявшихся художников, таким взглядом обладают дети и блаженные разного генезиса – от юродивых Христа ради до чань-буддийских монахов.
Феномен и парадокс Петкевича состоит в том, что именно искажающая сила взгляда приводит его к проникновенной точности. Образцом этой точности могут служить два портрета – «Дедушка» и «Бабушка».
Причина, по которой эти картины, изображающие двух стариков, кровно близких автору, способны заворожить любого зрителя, состоит в том, что в них запечатлена сама сущность глубокой старости.
Увидена неуловимая и таинственная черта, за которой при жизни кончается земная жизнь. Увидена не то чтобы готовность к небытию, а само небытие, которое смотрит остановившимися глазами бабушки – сквозь мир, сквозь жизнь, сквозь зрителей портрета – и затягивает в себя – в бесчувственность, в слепоту, в немоту, в глухоту – через темный провал открытого рта дедушки.
Апология беспричинного обмана
Великий французский историк Марк Блок с грустью и негодованием признавал, что к свидетельствам – к этому жизненному эликсиру истории – примешан «вредоносный яд».
Мистификация, фальсификация, подлог – вот разновидности этого яда, которым во все времена угощали историков, так сказать, антиисторики.
К последним Марк Блок относил даже Юлия Цезаря, который в свои знаменитые «Записки о Галльской войне» сознательно вплел множество искаженных и недостоверных фактов. При этом сам Цезарь, надо заметить, всегда оставался в представлении Блока фигурой в высшей степени достоверной. «Нельзя найти что-либо более несокрушимое, – уверял историк, – чем фраза: “Цезарь существовал в действительности, а не являлся плодом фантазии тех, кто описал его жизнь”».
На это, конечно, можно было бы возразить, что достаточной несокрушимостью обладает и такая фраза: «Некоего Цезаря, фантастически развратного и чудовищно алчного полководца, первоначально измыслил в припадке ядовитого задора поэт Катулл, чью выдумку подхватили Светоний, Тацит и Плутарх».
Но серьезный историк никогда бы не принял подобного возражения. В лучшем случае он назвал бы его искренним заблуждением, в худшем – заведомой ложью, в еще худшем – агностицизмом, релятивизмом и прочими укоризненно-научными словами, которыми обозначается род философского недоверия человеческим знаниям. Никакой объективной исторической истины, утверждали проповедники этого недоверия (Шопенгауэр, Ницше, Лев Шестов), не существует. Во всяком случае, познать ее невозможно. Да и не нужно. Ибо истина бесполезна для полноценной жизни в мире – в мире, который, быть может, каждому из нас (и каждому на свой манер) воображается, снится, представляется, настойчиво разворачивается в нашем единственно достоверном сознании, которое причастно божественной воле и потому способно отчетливо сфантазировать даже такой абсурд, как историческое прошлое, якобы без нас существовавшее в некоей автономной действительности.
Ее-то, эту неистово суверенную, ни от кого и ни от чего не зависящую действительность, и обожествлял классический европейский ученый Марк Блок, сочинивший в средине XX столетия свой самый вдохновенный труд: «Апология истории».
«Апология» – значит «защита». «История» – значит «история, научная дисциплина». Но историк защищал не просто историю. Он защищал саму возможность достоверного познания прошлого, то есть действительности. Действительности редчайшего свойства – исчезнувшей, призрачной, эфемерной, известной нам лишь по некоторым свидетельствам. Но свидетельства всегда «отравлялись ядом».
О «ядах» и «отравителях» Марк Блок поведал в особом разделе своей «Апологии» – «Разоблачение лжи и ошибок». Он нарисовал впечатляющую картину: обманы и подлоги поджидают исследователей на каждом шагу, предлагая их научному вниманию всё что угодно – весьма содержательные письма французской королевы Марии-Антуанетты, умело сработанные в XIX веке и в знаменитом издании 1864–1883 гг. ловко перемешанные (эффективный прием мистификации) с подлинными; великолепную тиару легендарного скифского царя Сайтаферна – чудо искусства III века до Р.Х., – любовно изготовленную в 1895 году одесским ювелиром Рухомовским и проданную им после длительных уговоров и переговоров взыскательному, но не скаредному Лувру за 200 тысяч франков; сфабрикованное в 1894 году грандиозно скандальное дело французского офицера Альфреда Дрейфуса, будто бы продавшего Германии военные секреты Франции…
Обманам и обманщикам несть числа. Но обманы можно классифицировать (обман в авторстве, в дате, в содержании и т. д.), дать им соответствующую оценку и даже научить исследователя извлекать из них пользу, т. е. глубже проникать в «историческую атмосферу», выявляя за обманами политические, экономические, социальные и прочие корыстные цели. Все это Марк Блок и делает обстоятельно, пока речь не заходит о тех странных обманах, которые вызывают у здравомыслящего историка лишь саркастическое изумление. Ибо в этих нелепых обманах, попирающих сам принцип разумности мошеннических действий, обманщики бессмысленно расточают свои таланты и знания. Зачем? Для чего?

Для чего немецкий ученый Альберт Тизенгаузен сочинил на отличном греческом языке «Историю Востока» и приписал ее авторство какому-то фиктивному Санхониатону, тогда как этот недюжинный труд мог бы составить ему при жизни репутацию выдающегося эллиниста? С какой целью крупнейший французский искусствовед Франсуа Ленорман, будучи уже старцем, осыпанным академическими почестями, подобрал где-то на полях Франции несколько обычных мусорных черепков и старательно описал их как греческие древности? Что за диковинная причуда заставляла прославленного английского поэта Томаса Чаттертона упорно выдавать «Бристольскую трагедию», «Эллу» и другие свои сочинения за якобы найденные им рукописи средневекового монаха? Зачем Проспер Мериме выступил в 1827 году мнимым переводчиком с хорватского пригрезившихся ему «Гуслей, или Избранных песен иллирийцев» – произведений славянского народного творчества, в подлинность которых верил еще Пушкин, но уже не верил Марк Блок.
Что ж, строгие историки немилосердно разоблачили и эти возвышенно свободные от всякой практической цели обманы, растерянно назвав их «беспричинными актами лжи».
Никто не в состоянии защитить от вездесущей достоверности эту тонкую материю – вдохновенную и бескорыстную ложь, или, лучше сказать, священное право на обладание воображаемой действительностью. Разоблачили, развенчали, уличили… Но – слава Богу – не объяснили. И значит, все ж таки остается надежда, что беспричинные обманы надежно защищены от посягательств истины самой своей беспричинностью.
Гения убить недостаточно
Считается, что романы Томаса Вулфа, несмотря на их отдельность, образуют единую, слитную Книгу. Так он писал. Так мыслил писательство. На отдельные книги вулфовскую Книгу делили редакторы, разбирая десятки тысяч исписанных им страниц. Как уверяет один из них, Вулф и сам называл «просто Книгой» груду рукописей, из которых извлекал свои произведения, а отдельными изданиями они выходили только для удобства.
Он словно ткал из слов неразрывный невод. Им руководила, по его собственному признанию, «безумная жажда поглотить всю вселенную человеческого опыта».
И все же в Книге Вулфа выделяется один роман. Он носит название «Взгляни на дом свой, ангел» (Look Homeward, Angel). Это роман-ракета, который одним рывком и безвозвратно преодолевает гравитационное поле обыденного сознания, хотя и повествует об обыденном. История провинциального семейства – каменотеса Оливера Ганта, его жены Элизы и их шестерых детей, младший из которых – Юджин – в центре повествования, – написана с библейской вдохновенностью и поэтичностью. Написана слогом взрывным и проникновенным одновременно – проникающим в тайны жизни и смерти, рождения и времени.
Роман был дебютным – Вулф начал писать его летом 1926 года в Лондоне, когда ему было двадцать шесть лет. Он находился в состоянии, которое можно назвать контролируемым сумасшествием. Контроль состоял лишь в том, что он, нацелившись всем существом на работу – спасаясь ею, – не давал себя уничтожить «мощной энергии и огню собственной юности», которыми питалась рождавшаяся книга. Работа продолжалась, как он утверждал, даже во сне; сновидения, если и прерывали ее, не приносили отдыха, они были подобны горячечному бреду. Он использовал для письма огромные гроссбухи. Писал карандашом. Слова лились таким стремительным потоком, что многие он не успевал дописывать до конца. «Кипевшая во мне лава должна была вырваться наружу, теснившиеся слова должны были быть произнесены», – говорил он об этой книге, создававшейся «в некой обнаженной ярости духа».
Зимой того же года Вулф вернулся в Америку. Он продолжал работать в режиме безумия и отрешения от реального мира, который казался ему в это время призрачным.
Спустя два года в Нью-Йорке, на Восьмой авеню, в съемной мансарде полузаброшенного дома, где не было отопления и канализации – только электричество и вода, – он закончил книгу. Или, как выразился сам Вулф, «книга закончила меня». Говоря об «Ангеле», он всегда и с полной убежденностью утверждал, что «книга сама себя написала».
Пока шел этот таинственный процесс самонаписания, Вулф, еще не издавший ни единой строчки, но ощущавший чудотворную энергию романа, пребывал в странной уверенности, «что всё будет хорошо и должно идти хорошо». Когда же работа романа над самим собой при помощи юных сил Вулфа была закончена, всё пошло совсем не так хорошо, как им обоим – роману и Вулфу – верилось.
Редакторы американских издательств, ознакомившись с рукописью, вынесли книге смертный приговор. Дебютанту, чье сердце еще дрожало от бессонных ночей, от пережитой бури вдохновения, длившейся тридцать месяцев, от письма «на пределе духовных способностей, на износ» (только так, считал Вулф, и нужно писать), рецензенты отвечали в том совершенно будничном духе, что их издательства уже имели несчастье выпустить в свет себе в убыток подобного рода неумелые, написанные по-любительски и слишком автобиографичные опусы.
«Ангел» был повержен.
Он был низвержен с небес на суровую землю американского книжного бизнеса. Роман ждала горькая судьба – погребение в братской могиле безвестности, где покоились с миром тысячи рукописей.

Вулф смирился. После того как он поставил точку в романе, в нем всколыхнулось всё то, чему он «не давал хода», пока работал на износ в огромной грязной мансарде на Восьмой авеню, – «сомнения, неверие, безнадежность». Он чувствовал себя настолько опустошенным и усталым, что теперь, когда рассеялось «идеальное чувство созидания», которое поддерживало дух, он обреченно поверил, что его детище заслуживает бесславной гибели, в чем отзывы рецензентов прочно убедили Вулфа, заставив даже раскаиваться в сотворении чудовища:
«Что же это такое нашло на меня и заставило потратить два-три года жизни на создание этого левиафана и что за помрачение сознания внушило обманчивую надежду найти издателя и читателей для моей книги».
С такими чувствами и мыслями Вулф покинул Америку. Он пустился странствовать без всякой цели по Европе. О написанной книге он «почти забыл».
Дальнейшее можно было бы назвать чередой случайностей, если бы в ней не просматривалась целеустремленность, присущая Провидению.
Уезжая в Старый Свет, Вулф оставил рукопись романа Алине Бернштейн – музе-любовнице, с которой он познакомился на пароходе во время первого вояжа в Европу. Именно благодаря Алине (театральной художнице на девять лет старше), чей муж был состоятельным биржевым брокером, Томас Вулф не пал духом от сокрушительного безденежья и лютого одиночества, пока писал, «пожираемый мощным пламенем мечты», свой первый роман в манхэттенской мансарде на серых листах, разлинованных под бухгалтерскую цифирь.
Алина передала рукопись американскому критику и литературоведу Эрнесту Бойду. Он был человеком основательным, слыл профессионалом, успел поработать редактором в крупнейших американских газетах. Главным образом его интересовала новая ирландская литература – он был ирландцем по происхождению. Но жена Бойда – Мадлен – была довольно бойким литературным агентом, имевшим связи с респектабельными издательствами Нью-Йорка. Ей-то Эрнест и передал в свою очередь – вероятно, даже не читая, – свалившуюся на него огромную рукопись безвестного автора родом из провинциального городка Эшвилл в Северной Каролине.
Очутившись в скором времени в издательстве «Чарлз Скрибнерз санз» (Charles Scribner’s sons) с целью пристроить какую-нибудь рукопись, Мадлен Бойд встретилась там с любезным и задумчивым человеком по имени Максвелл Перкинс – старшим редактором. Расписывая ему достоинства дебютных романов, имеющихся у нее в «портфеле», – авось что-нибудь зацепит Перкинса, – она несколько раз упомянула историю «потаенной жизни» сына каменотеса из Северной Каролины Юджина Ганта, написанную с поразительной энергией неким Томасом Вулфом. Перкинс молча и терпеливо слушал говорливую миссис Бойд, пытавшуюся пересказать вулфовский роман, и вдруг прервал ее: «Почему ты не занесешь его мне, Мадлен?»
Мадлен занесла.
Неизвестно, вчитывался ли Перкинс, получив увесистую рукопись, в предательски искренние авторские «Замечания для издательского рецензента», предварявшие роман и не сулившие его издательской судьбе ничего хорошего. «Замечания» должны были с порога поставить крест на дебютанте. В самом деле, что должен был думать любой оказавшийся на месте Перкинса редактор о рукописи в 1200 машинописных страниц, которую предстоит прочесть (а может, лучше сразу – в корзину?), когда сам автор заявляет: «Я никогда не относился к этой книге как к роману. Уверен, что такая книга живет в каждом из нас»… «Может быть, в книге нет четкой фабулы» и т. п.
Но Перкинс был не любым редактором. Он был редактором от Бога. Не в смысле его профессиональных талантов, которые не подлежат сомнению, а в том смысле, что он был послан Вулфу Богом. Дьявол своего посланника, который должен был подтолкнуть Вулфа на короткую дорогу к смерти, еще держал в глубокой тени.
Когда поздней осенью 1928 года Вулф, находившийся в Вене, вдруг получил письмо от издательства «Чарлз Скрибнерз санз», подписанное самим мистером Перкинсом – редактором Фицджеральда и Хемингуэя, в гениальность двадцативосьмилетнего писателя верила только его школьная учительница из родного Эшвилла Маргарет Робертс, с которой он аккуратно переписывался, доверяя ей творческие тайны, да Алина Бернштейн, преданная писателю и душой, и телом.
Письмо Перкинса привело его в состояние горячечного воодушевления. Вулф не находил себе места. Он едва справлялся с приступами взрывного волнения, задыхался от чувства радости. Перкинс писал, что Вулф сотворил «удивительную книгу, которая просто не может оставить равнодушным ни одного редактора», и спрашивал, когда автор может прибыть в издательство для переговоров.
Это было нечто невероятное. Вулф так и оценивал то, что с ним произошло: «свершилось самое настоящее чудо».
Вулфа, уже впавшего в уныние, покорно принявшего убийственный вердикт рецензентов, измученного до бессилия своим неусыпным гением, который заставлял его дышать день и ночь вулканическим жаром вдохновения – а теперь, как казалось, навсегда покинул выжженную душу вместе с юношескими устремлениями к любви и счастью, – Вулфа ждали слава и насыщенная жизнь: «надежды, томления, радости, чудеса». А главное, Вулфа ждали «десять тысяч листов бумаги, покрытых десятью миллионами слов», выведенных его рукой.
Перкинсу суждено было стать ангелом-спасителем романа. А также ангелом-открывателем писателя Томаса Вулфа. И ангелом-хранителем его гения.
Собственно, и само название – «Взгляни на дом свой, ангел» – было выбрано или, лучше сказать, зорко высмотрено Перкинсом из целого набора названий, срывавшихся с пера Вулфа в процессе письма, как вырываются из уст спящего бессвязные фразы в моменты сноговорения – «Один… Один…», «Постройка стены», «О, затерянный».
Получив письмо Перкинса, Вулф готов был сию же минуту мчаться в кассу за билетом на пароход. Но плыть домой было невозможно. Еще до прихода чудесного известия из Нью-Йорка ему в пьяной драке на ярмарке в Мюнхене сломали нос и разбили голову – едва не забили насмерть. Неделю он провел в госпитале. И теперь вынужден был оставаться в Вене под наблюдением врачей, о чем он и написал Перкинсу, заверив, что немедленно отплывет в Америку, как только позволит состояние здоровья.
Через две недели он уехал из Австрии в Италию. Там провел еще три недели. После чего отплыл из Неаполя в Нью-Йорк.
В первый день 1929 года, сразу же после звонка Перкинсу, Вулф примчался к нему в издательство и предстал перед глазами редактора от Бога. «Ему чуть за сорок, но он выглядит моложе, в его манере одеваться и вообще держаться есть удивительное изящество, и всем своим видом он внушает спокойствие», – описывал он школьной учительнице посланника Небес[30]30
Колину Фёрту, убедительно сыгравшему роль Перкинса в фильме Майкла Грандаджа «Гений» (Genius, 2016), несомненно было знакомо это описание, которому английский актер в точности соответствовал. К сожалению, фильм не затронул трагический поворот в отношениях Перкинса и Вулфа, оставив за кадром главную драму в жизни писателя, о которой речь пойдет ниже.
[Закрыть].
Год спустя он скажет Перкинсу: «Вы – краеугольный камень моего существования».
Этот год вместит в себя многое. Сокращенный до приемлемого объема совместными и мучительными усилиями редактора и автора – Перкинс в процессе работы невозмутимо терпел «гнев, отчаяние, припадки безумной ярости» Вулфа, не желавшего никаких сокращений, – роман «Взгляни на дом свой, ангел» будет принят к публикации в старейшем и славившемся на всю страну издательстве «Чарлз Скрибнерз санз». В октябре 1929 книга выйдет в свет. Рецензии посыпятся как из рога изобилия – в «Ситизен», в «Нью-Йорк Таймс», в «Нью-Йорк Геральд Трибьюн», в лондонской «Таймс». Критики – в их числе и сам глава Гильдии американских литераторов Карл Ван Дорен – обнаружат в «Ангеле» и красоту, и глубокий смысл, и жизненную силу. Вулф станет «модной диковинкой, о которой все говорят»; его засыпят письмами, визитками, приглашениями на светские коктейли и богемные вечеринки; его будут разрывать на части. Он прослывет, по его собственному выражению, «Великим Американским Писателем».
Всё это было бы невозможно, если бы Перкинс – что тоже было настоящим чудом – не постиг сущность писателя Томаса Вулфа, особенности его дара, свойства его гения и природу вдохновения.
Благодаря Максвеллу Перкинсу и сам Томас Вулф научился понимать многие вещи о себе как об авторе. Перкинс объяснил Вулфу, что тот не принадлежит к «флоберовскому типу писателя». Вулфу вовсе не нужно, подобно Флоберу и родственным талантам, доводить каждую свою работу до совершенства, это даже губительно для него как для писателя. Вулф должен, настаивал Перкинс, свободно и до конца излить из себя раскаленную лаву слов, не заботясь о тщательной отделке каких-то отдельных частей непрерывного творения. Превращать эти части в книги – вливать в издательские формы огненное вещество вулфовской прозы – это дело Перкинса.
Именно Перкинс был первым, кто понял, что Вулф «умел писать лишь одну-единственную книгу об огромной, вольно раскинувшейся, мятежной земле – Америке, – какой ее видел Юджин Гант», его бесценный герой, собственное я писателя, пропущенное сквозь горнило воображения. Жизнь Юджина Ганта Вулф жаждал воссоздать «в исчерпывающей полноте», так, чтобы в опыте существования этой необыкновенной души, воплощенной в сыне каменотеса из Северной Каролины, «кристаллизовалась вся ткань Вселенной, весь материальный образ мира».
К лету 1934 года, когда Вулф закончил вторую книгу – «О времени и о реке», он уже усвоил стараниями Перкинса непреложную истину о своем даре:
«Я всегда делаю слишком много: я пишу миллионы слов, чтобы выделить и оформить книгу в несколько сот тысяч. Похоже, это свойство моего творческого начала: оно должно реализовываться в бурном потоке продукции…»
Впрочем, нельзя сказать, что именно сам Вулф по своей писательской воле закончил второй роман.
Поток письма, которым владел Вулф – или который владел Вулфом, – был подобен горной реке или времени. Этот «бурный поток» мог остановить только Перкинс – человек-плотина или серафим во плоти, обладавший несокрушимой волей и таинственными полномочиями регулировать то, что по своей природе регулированию не поддается.
Когда рабочие занесли в служебный кабинет Перкинса многочисленные ящики и коробки с вулфовской рукописью, выполненной простым карандашом, – Вулф продолжал использовать именно этот пишущий инструмент, потому что он позволял быстро и без осечек наносить знаки на бумагу, не расцарапывая ее в приступе вдохновения, – объем книги составлял 2 миллиона слов, что равнялось примерно 7 тысячам машинописных страниц.
Началась изматывающая работа писателя и редактора по сокращению и перекомпоновке текста. Она шла ежедневно с утра до вечера и сопровождалась, как и в случае с «Ангелом», сценами буйных протестов Вулфа и проявлениями фантастической невозмутимости Перкинса.
В октябре 1934 года Вулф запросил у Перкинса тайм-аут. Писатель устал. Ему нужно было отдохнуть. Он уехал в Чикаго, чтобы по возвращении, набравшись сил, продолжить вместе с Перкинсом работу над рукописью.
Но посланный Вулфу неумолимый редактор лучистой наружности вдруг понял, что работу нужно остановить. Извержение вулкана по имени Томас Вулф должно было на время прекратиться. Лава слов должна была застыть, явив миру удобную для восприятия форму.
Вернувшись через две недели из Чикаго, отдохнувший и готовый к дальнейшей работе Вулф был повержен в неописуемое изумление. Перкинс в его отсутствие «хладнокровно и решительно» отправил рукопись в типографию. Над ней уже трудились наборщики и в редакцию поступала верстка. Вулф негодовал, протестовал, бушевал, требовал остановить печать, заявляя, что книга еще не готова, что над рукописью необходимо работать еще шесть месяцев. На всё это Перкинс спокойно возражал в том духе, что книга совершенно закончена и ни в какой дальнейшей доработке не нуждается. Мало того, если уступить требованиям Вулфа и дать ему запрашиваемые шесть месяцев, то по прошествии этого времени Вулфу потребуется еще шесть месяцев, а потом еще – и так до бесконечности, потому что именно так, напомнил Перкинс, устроен писатель Вулф, пишущий непрерывную книгу и не умеющий останавливать процесс письма.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.