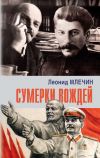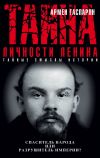Текст книги "Ленин. Человек, который изменил все"

Автор книги: Вячеслав Никонов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 77 страниц) [доступный отрывок для чтения: 25 страниц]
Безапелляционность суждений Ленина поразительна. Воронский полагал, что Ленин «убеждал, подчиняя слушателей своему хотению и тем, что он не сомневался»352. Он редко испытывал сомнения в собственной правоте, даже если потом видел и свои ошибки. Однако для признания ошибок требовалось время. Так, свою чрезмерную левизну в предреволюционный период Ленин признает только в 1921 году в записке, адресованной участникам III конгресса Коминтерна: «…Когда я сам был эмигрантом (больше 15 лет), я несколько раз занимал “слишком левую” позицию (как я теперь вижу)»353.
Его въедливый американский биограф Луис Фишер, встречавшийся с Лениным, писал: «Придя к какому-либо мнению, Ленин считал его непоколебимым и защищал его от человеческих доводов и перед лицом неопровержимых фактов, пока оно не заменялось новым взглядом, который Ленин защищал с той же убежденностью. Сомнения занимали мало места в умственном хозяйстве Ленина… Сотрудничество требует определенного компромисса, а этого слова не было в политическом лексиконе Ленина. Он был политическим изоляционистом, пахарем на одинокой борозде»354.
Действительно, если политика – искусство компромисса, то это не про Ленина. Он, писал Струве, «был лишен абсолютно всякого духа компромисса»355. Потресов утверждал: «В пределах социал-демократии, или за ее пределами, в рядах всего общественного движения, направленного против режима самодержавия, Ленин знал лишь две категории людей и явлений: свои и чужие. Свои, так или иначе входящие в сферу влияния его организации, и чужие, в эту сферу не входящие и, стало быть, уже в силу этого одного трактуемые им как враги»356.
Многие видели Ленина раздраженным и даже взбешенным. Но при этом, похоже, никто не видел его испуганным и смятенным. Ленин, при всей его неврастении, был волевым человеком. Зиновьев называл его «не только гигантом мысли, но гигантом воли, не только великим теоретиком, но и настоящим вождем»357. От вождя у Ленина были также безграничное властолюбие и совершенно сознательная и подчеркнутая неразборчивость в средствах. «В своем отношении к людям Ленин подлинно источал холод, презрение и жестокость, – утверждал Струве. – Мне было ясно даже тогда, что в этих неприятных, даже отталкивающих свойствах Ленина был залог его силы как политического деятеля: он всегда видел перед собой только ту цель, к которой шел твердо и непреклонно… Резкость и жестокость… была психологически неразрывно связана, и инстинктивно и сознательно, с его неукротимым властолюбием»358.
Ленин был внимательным читателем не только Маркса и Энгельса, но и Макиавелли, которого цитировал не раз, порой не называя его имени. Потресов видел: «Цель оправдывает средства!.. Ленин был неукоснительным последователем этого макиавеллевского рецепта политики. Он как нельзя более удачно сумел его сделать основой для деятельности всей той части партии, которая пошла за ним и впоследствии преобразились из социал-демократии в коммунистическую бюрократию советской деспотии и авантюристов Коминтерна».
Но даже многие оппоненты Ленина ощущали на себе обаяние именно харизматической личности. Так, Потресов признавал, что «ни Плеханов, ни Мартов, ни кто-либо другой не обладали секретом излучавшегося Лениным прямо гипнотического воздействия на людей, я бы сказал – господства над ними. Плеханова – почитали, Мартова – любили, но только за Лениным беспрекословно шли, как за единственным бесспорным вождем. Ибо только Ленин представлял собой, в особенности в России, редкостное явление человека железной воли, неукротимой энергии, сливающего фанатическую веру в движение, в дело, с не меньшей верой в себя»359.
Что уж говорить о соратниках. Луначарский утверждал: «Очарование это колоссально, люди, попадающие близко в его орбиту, не только отдаются ему как политическому вождю, но как-то своеобразно влюбляются в него»360. Валентинов свидетельствовал: «Сказать, что я в него “влюбился”, немножко смешно, однако этот глагол, пожалуй, точнее, чем другие, определяет мое отношение к Ленину в течение многих месяцев»361. И подтверждал, что «к Ленину что-то притягивало». Что «когда Ленина величали “стариком”, это, в сущности, было признание его “старцем”, то есть мудрым, причем с почтением к мудрости Ленина сочеталось какое-то непреодолимое желание ему повиноваться»362.
Ленин импонировал своим сторонникам и почитателям живостью, непосредственностью, оптимизмом и своеобразным чувством юмора. «Он умел с одинаковым увлечением играть в шахматы, рассматривать “Историю костюма”, часами вести спор с товарищем, удить рыбу, ходить по каменным тропам Капри, раскаленным солнцем юга, любоваться золотыми цветами дрока и чумазыми ребятами рыбаков, – будет вспоминать Горький. – А вечером, слушая рассказы о России, о деревне, завистливо вздыхал:
– А мало я знаю Россию. Симбирск, Казань, Петербург, ссылка и – почти все!
Он любил смешное и смеялся всем телом, действительно “заливался” смехом, иногда до слез. Краткому, характерному восклицанию “гм-гм” он умел придавать бесконечную гамму оттенков, от язвительной иронии до осторожного сомнения, и часто в этом “гм-гм” звучал острый юмор, доступный человеку очень зоркому, хорошо знающему дьявольские нелепости жизни»363. Луначарский писал, что Ленин «был живым, веселым – мажорным человеком»364.
Был ли Ленин великим оратором? Если понимать под ораторским искусством специальные риторические приемы, образность, пафос, поставленный голос, искрящийся юмор, отточенные метафоры, умение заставлять толпу неистовствовать, то скорее ничем этим Ленин не владел. Ему далеко в этом отношении было не только до Муссолини, Гитлера, Керенского или Троцкого, но и до Бухарина, Зиновьева или Луначарского. Даже Крупская весьма сдержанно описывала качества мужа как оратора: «Голос был громкий, но не крикливый, грудной, тенор… Голос выразительный, но монотонный… Речь простая была, не вычурная и не театральная, не было “естественной искусственности”… Перед всяким выступлением очень волновался: сосредоточен, неразговорчив, уклонялся от разговоров на другие темы, по лицу видно, что волнуется, продумывает. Обязательно писал план речи»365.
Луначарский подтверждал: «Владимир Ильич терпеть не мог красивых фраз, никогда их не употреблял, никогда не писал красиво, никогда не говорил красиво и даже не любил, чтобы другие красиво писали и говорили, считая, что это отчасти вредит деловой постановке вопроса» 366. А Соломон так и прямо писал: «Он был очень плохой оратор, без искры таланта: говорил он хотя всегда плавно и связно и не ища слов, но был тускл, страдал полным отсутствием подъема и не захватывал слушателя».
Формально несильный оратор, Ленин тем не менее неплохо знал психологию масс и был в состоянии электризовать дружественные аудитории и вызывать шок в недружественных. Тот же Соломон признавал, что «в России и до большевистского переворота, и после него толпы людей слушали его внимательно и подпадали под влияние его речей», и это объяснялось тем, что «он говорил всегда умно, а главное, тем, что он говорил всегда на темы, сами по себе захватывающие его аудиторию…»367. Большое впечатление на слушателей в его выступлениях производили абсолютная безапелляционность и относительная (в сравнении со многими другими интеллигентами-революционерами) простота. Сталин говорил: «Необычайная сила убеждения, простота и ясность аргументации, короткие и всем понятные фразы, отсутствие рисовки, отсутствие головокружительных жестов и эффектных фраз, бьющих на впечатление, – все это выгодно отличало речи Ленина от речей обычных “парламентских” ораторов»368.
Академик Пивоваров считает главной ударной чертой Ленина, позволявшей ему добиваться успеха, «гениальное упростительство»: «Упростить ситуацию до абсурда, свести многообразие и сложность к элементарному, принципиальную поливариантность истории – к прямой, как полет пули, линии»369.
Описание Ленина как оратора оставил Троцкий – сам мастер красноречия: «Оратор продумал заранее свою мысль до конца, до последнего практического вывода, – мысль, но не изложение, не форму, за исключением разве наиболее сжатых, метких, сочных выражений и словечек, которые входят затем в политическую жизнь партии и страны звонкой монетой обращения. Конструкция фраз обычно громоздкая, одно предложение напластовывается на другое или, наоборот, забирается внутрь его. Для стенографов такая конструкция – тяжкое испытание, а вслед за ними – и для редакторов. Но через эти громоздкие фразы напряженная и властная мысль прокладывает себе крепкую, надежную дорогу…»370.
У Ленина в выступлениях было немало узнаваемых привычек. «Говоря или споря, Ленин как бы приседал, делал большой шаг назад, одновременно запускал большие пальцы за борт жилетки около подмышек и держа руки сжатыми в кулаки. Прихлопывая правой ногой, он делал затем небольшой быстрый шаг вперед и, продолжая держать большие пальцы за бортами жилетки, распускал кулаки, так что ладони с четырьмя пальцами изображали растопыренные рыбьи плавники. В публичных выступлениях такая жестикуляция имела место сравнительно редко. При разговорах же, особенно если Ленин вдалбливал своим слушателям какую-нибудь мысль, в каждый данный момент он всегда бил словом только в одну мысль, эта жестикуляция, этот шаг вперед и шаг назад, игра сжатым и разжатым кулаком – происходила постоянно»371.
Ленин умел – точно, лучше других идеологов партии – находить для партии деньги. И мы это еще увидим. А денег партии революционной, подпольной, которой надо организовать укрытия, явки, транспорт, типографию, литературу, оружие, готовить боевиков, содержать кадры, нужно много. Ленин не столько зарабатывал сам, сколько подвигал других обеспечивать своей партии финансовую основу. В стране было немало состоятельных людей, готовых жертвовать на дело борьбы с самодержавием. Так, из среды старообрядческого бизнеса шла финансовая поддержка и большевистских организаций, которые через Максима Горького получали деньги от текстильного короля Саввы Морозова, нефтяного магната Дмитрия Сироткина и других372. Благодаря контролю над партийной кассой – секретными счетами в швейцарских и французских банках – Ленин, даже потерпев тактическое поражение, сохранял за собой «силу кошелька».
Ленин прекрасно понимал, что кадры решают все, и умел использовать людей. Отбирал сам и очень строго, хотя и нередко ошибался. «Ленин недоверчив, мало, вернее, совсем не доверяет рекомендациям, суждениям даже близких товарищей, полагаясь только на свой глаз и слух»373. Предпочитал тех, кто уже чего-то добился. «Увлечение людьми, проявившими решительность или просто удачно проведшими порученную им операцию, свойственно было Ленину в высшей степени до конца его жизни, – подтверждал Троцкий. – Особенно он ценил людей действия»374.
Валентинов был «несколько смущен атмосферой поклонения, которой его окружала группа, называвшая себя большевиками… Никто из его свиты не осмелился бы пошутить над ним или при случае дружески хлопнуть по плечу. Была какая-то незримая преграда, линия, отделяющая Ленина от других членов партии, и я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь ее переступил»375. Потресов не был в восторге от кадровой политики Ленина и писал, что он собрал много «энергичных, смелых и способных людей, наградив их, однако, в придачу к этим добрым качествам и недобрым – моральной неразборчивостью, часто моральной негодностью и непозволительным авантюризмом». «Он умел подбирать вокруг себя расторопных, способных, энергичных, подобно ему волевых людей, безгранично в него верящих и беспрекословно ему повинующихся, но людей без самостоятельной индивидуальности, без решимости и способности иметь свое особое мнение, отличное от мнения Ленина, и тем более способности отстаивать перед Лениным это особое мнение. Естественная и законная во всякой организованной партии дисциплина переходила здесь в полувоенную субординацию»376.
То, что у Ленина не было друзей, подтверждали многие. Дорогим другом он сам называл разве что Инессу Арманд. «Сколько я помню, у Ленина не было близких, закадычных, интимных друзей, – утверждал Соломон. – У него были товарищи, были поклонники – их была масса, – боготворившие его чуть не по-институтски и все ему прощавшие»377. Тэффи, наблюдая за общением Ленина с коллегами по партии, отмечала, что «каждый был только материалом, из которого вытягивал Ильич нитки для своей ткани… Друзей и любимцев у него, конечно, не было. Человека не видел ни в ком… Всякий был хорош, поскольку нужен делу. А не нужен – к черту. А если вреден или даже просто неудобен, то такого можно и придушить. И все это очень спокойно, беззлобно и разумно. Можно сказать, даже добродушно»378.
Ленин использовал людей. И был безжалостен ко многим использованным. «Не поддаться Ленину было нельзя, – утверждал Валентинов. – Не подчиниться ему – можно лишь разрывая с ним»379. Ленин сменит вокруг себя много команд. «Держался и двигался рядом лишь тот, кто понимал партийное дело правильно, и лишь – пока понимал, – напишет Солженицын. – …Уходили – все подряд, и какая сила уверенности нужна была – не усумниться, не закачаться, не побежать за ними мириться, но, провидя будущее, стоять и знать: сами возвратятся, сами очнутся, а кто не вернется – и пропади»380.
Отдельным ресурсом Ленина – и немалым – оказалась его супруга. Тыркова-Вильямс писала: «Не она ли первая признала в нем вождя? Признала и с тех пор стала его неутомимой, преданной сотрудницей»381. Крупская по-прежнему держала в своих руках очень многие нити, связывавшие эмиграцию с партийными ячейками внутри России. Троцкий подтверждал, что именно Крупская «стоит в центре всей организационной работы, принимает приезжающих из России товарищей, дает инструкции отъезжающим, устанавливает нелегальные связи, пишет конспиративные письма, зашифровывает и расшифровывает»382.
С Альпийских гор осенью 1904 года «Ильичи» спустились полными сил и смелых планов. И не одни.
Новая жизнь
План, как его описала Крупская, был дерзок: «Тем временем, когда ЦК в России вел двойственную примиренческую политику, комитеты состояли из большевиков. Надо было, опираясь на Россию, созвать новый съезд. В ответ на июльскую декларацию ЦК, которая лишала ВИ возможности защищать свою точку зрения и сноситься с Россией, ВИ вышел из ЦК»383.
Человеком, вновь внушившим Ленину уверенность в его силах, был Александр Александрович Богданов (Малиновский). Врач-психиатр и профессиональный революционер, он был известен в партийной среде как автор «Краткого курса экономической науки» и «Основных элементов исторического взгляда на природу». Имел обширные литературные связи в Петербурге и Москве, в частности с Горьким. «Около Ленина, твердо решившего организовать свою партию, не было ни одного крупного литератора, даже, правильнее сказать, кроме Воровского, вообще не было людей пишущих. Богданов, объявивший себя большевиком, был для него сущей находкой, и за него он ухватился. Богданов обещал привлечь денежные средства в кассу большевизма, завязать сношения с Горьким, привлечь на сторону Ленина вступающего в литературу бойкого писателя и хорошего оратора Луначарского (женатого на сестре Богданова), Базарова, молодых марксистетвующих московских профессоров»384. Именно Богданов уговорил Ленина вернуться в Женеву и взяться за дело.
Крупская рассказывала, что в горах «нервы у ВИ пришли в норму… Август мы провели вместе с Богдановым, Ольминским, Первухиными в глухой деревушке около озера Lac de Bre… Наметили издавать свой орган за границей и развивать в России агитацию на съезде. Ильич совсем повеселел… Осенью, вернувшись в Женеву, мы из предместья Женевы перебрались поближе к центру, ВИ записался в “Societe de Lecture”, где была громадная библиотека и прекрасные условия для работы»385.
«Как только Ильич окончательно решил действовать, его нельзя было узнать, – писал Лядов. – У него был уже готовый план. Мы вместе с вновь прибывшими из России товарищами образуем конференцию партработников, стоящих на позициях “большинства”. От имени этой конференции выступаем с воззванием… начинаем усиленную агитацию за созыв экстренного съезда. При сочувствии основных организаций созываем одну или ряд конференций в России, проводим на них нашу платформу, предлагаем им утвердить фракционный центр, который назовем Бюро Комитетов Большинства, и признать своим органом газету “Вперед”, которую сейчас начнет выпускать редакция из Ленина, Богданова, Луначарского, Ольминского и Воровского»386.
Ленин созвал собрание, которое сохранится в истории партии как «совещание 22-х большевиков», пригласив самых верных своих соратников. «Большевики-мужья с большевичками-женами придавали совещанию несколько “семейный” вид. В числе двадцати двух были Ленин, Крупская и только что приехавшая из Москвы сестра Ленина – Мария Ильинична; Богданов и его жена, Луначарский и его жена, Бонч-Бруевич и его жена (В. М. Величкина), Гусев и его жена, Лепешинский и его жена, Красиков, Воровский, Ольминский, Лядов-Мандельштам, Землячка (член ЦК, прибывшая из России)». Написавший это Валентинов на совещание приглашен не был. Увлекаясь философией, он имел неосторожность дать Ленину почитать показавшиеся ему интересными книги эмпириокритиков Маха и Авенариуса. После чего имел еще большую неосторожность поспорить с Лениным на философские темы, а затем даже пообщаться с Мартовым. Ленин навсегда отлучил Валентинова от круга соратников как «хлюпкого интеллигента, желающего топить партийные и революционные вопросы в морализирующей блевотине».
На совещании «Богданов сидел “одесную” Ленина в качестве главнейшего компаньона, persona grata организующейся новой партии»387. Приняли обращение «К партии», которое стало программой действий за созыв III съезда. «Ленин на конференции был особенно радостен, – заметила Розалия Самойловна Землячка (Залкинд, Демон, Осин, Роза). – Кончался период мелких дрязг, кружковщины, тяжелой, утомительной борьбы по мелочам с нечестными вылазками меньшевиков и примиренцев»388. На трех областных конференциях большевистских комитетов (Южной, Кавказской, Северной) было избрано Бюро комитетов большинства, которое этим и занялось389. Бауман получил задание создать в Москве Русское бюро ЦК, которое доводило бы указания Ленина до местных парторганизаций.
Тот писал Богданову 21 ноября: «Тактика меньшинства выяснилась вполне, в ее новом виде: полное игнорирование и замалчивание литературы большинства и существования большинства, устранение полемики из ЦО… Большинству необходимо выступить со своим органом: для этого недостает денег и корреспонденций»390. В декабре Богданов вернулся в Петербург. Михаил Покровский скажет: «А. А. Богданов – это был великий визирь этой большевистской державы. Поскольку он управлял непосредственно и постоянно сидел в России, тогда как Ильич до революции 1905 г. был в эмиграции, постольку Богданов больше влиял на политику партии…»391. Литвинову «была поручена “граница”, т. е. организация транспорта, перевозка и при содействии контрабандистов нашей большевистской литературы правильное снабжение ею парторганизаций на местах, а также организация перехода границы нашими людьми»392. Ленин информировал его 8 декабря: «Будь возможна конференция за границей, я бы был всецело за нее. В России же это дьявольски опасно, волокитно и малопроизводительно. Между тем Одесса + Николаев + Екатеринослав уже спелись и поручили “22-м” “назначить Организационный комитет”. Мы ответили рекомендацией названия “Бюро Комитетов Большинства” и семерки кандидатов (Русалка, Феликс, Землячка, Павлович, Гусев, Алексеев, Барон)”. В переводе с наивного конспиративного языка – Лядов, Литвинов, Землячка, Красиков, Гусев, Алексеев и Эдуард Эдуардович Эссен. «Бюро будет официальным органом объединения комитетов и фактически вполне заменит ЦК на случай раскола… За транспорт беритесь Вы, и поэнергичнее»393.
Большевистский центр расположился на углу населенными русскими эмигрантами «Каружки» (Rue de Carouge) и набережной реки Арвы. «Чуть не каждый вечер собирались большевики в кафе Ландольт и подолгу засиживались там за кружкой пива, обсуждая события в России, строя планы»394. 24 декабря он писал Марии Моисеевне Эссен: «Дорогая зверушка!.. У нас теперь подъем духа и заняты все страшно: вчера вышло объявление об издании нашей газеты “Вперед”. Все большинство ликует и ободрено, как никогда. Наконец-то порвали эту поганую склоку и заработаем дружно вместе с теми, кто хочет работать, а не скандалить! Группа литераторов подобралась хорошая, есть свежие силы, деньжонок мало, но вскоре должны быть. Центральный Комитет, предавший нас, потерял всякий кредит, кооптировал (подло – тайком) меньшевиков и мечется в борьбе против съезда. Комитеты большинства объединяются, выбрали уже бюро, и теперь орган объединит их вполне. Ура!.. Будьте бодры; помните, что мы с Вами еще не так стары, – все еще впереди»395.
Пока Ленин отдыхал в горах и за кружкой пива воссоздавал свою организацию, в России – и без его участия – зрела революция, основными движущими силами которой выступали эсеры, либеральные земцы, интеллигенция, финские и польские сепаратисты, японские и британские спецслужбы. В середине 1904 года, во многом из-за безрадостных новостей с Дальнего Востока, оппозиция стала чувствовать, что самодержавие – раненый зверь. 15 июля бомба, брошенная рукой эсеровского боевика Сазонова, разорвала около Варшавского вокзала в Петербурге министра внутренних дел Плеве (в 1904–1907 годах БО совершит более двухсот крупных терактов, включая убийство дяди императора, великого князя Сергея Александровича). Чернов писал об этом в восторженных тонах: «Метко нацеленный и безошибочно нанесенный удар сразу выдвинул Партию социалистов-революционеров в авангардное положение по отношению ко всем остальным элементам освободительного движения»396. Организатор теракта Азеф прибыл в Женеву «естественно, как триумфатор. Вся сколько-нибудь левая Россия праздновала гибель Плеве. Никогда авторитет эсеров не был так высок»397. Торжествовали и либералы из Союза освобождения – полулегальной партии, которая в 1905-м объединится с Союзом земцев-конституционалистов в Конституционно-демократическую партию (кадеты) во главе с Милюковым.
МВД возглавил Петр Дмитриевич Святополк-Мирский – либеральный бюрократ, настроенный на реформы, он разрешил проведение в ноябре 1904 года Земского съезда. Но интеллигенция уже требовала большего.
Годы царствования Николая II были ознаменованы блестящими интеллектуальными и духовными свершениями, получившими название «Серебряного века». Наша культура начала активно завоевывать Европу, ошеломленную дягилевскими «Русскими сезонами», живописью «Мира искусств» и авангарда, богатством новой литературы. Однако и яркие творцы этих свершений продолжали находиться в жесточайшей оппозиции режиму. Даже у богемы, почти поголовно сидевшей на кокаине, пускавшей себе в глаза атропин, чтобы зрачки были шире, говорившей звенящими и далекими «унывными» голосами, доминировали резко оппозиционные настроения. Как свидетельствовал певец Александр Вертинский, «каждый был резок в своих суждениях, щеголял надуманной оригинальностью взглядов и непримиримостью критических оценок»398. В смуту 1905 года русская интеллигенция шла под лозунгами «Долой самодержавие!», который становился объединяющим паролем для всей прогрессивной общественности.
Либералы решили «вступить в правильные сношения с революционными партиями», для чего отправились в Париж на съезд «оппозиционных и революционных партий». Милюков «мог заметить только, что около съезда особенно хлопочет финляндец Конни Циллиакус… Мысль о съезде явилась у поляков на амстердамском социалистическом съезде; прямая цель была при этом воспользоваться войной с Японией для ослабления самодержавия; Циллиакус снабдил оружием польских социалистов. Он же и ввел на съезд Азефа и, несомненно, участвовал в качестве “активиста”, в попытке осуществить, по его же словам, – “глупейший и фантастичнейший, но тогда казавшийся осуществимым” план ввезти в Петербург морем оружие в момент, когда там начнется восстание… Деньги, которые были нужны для пораженческих мероприятий, были получены Циллиакусом, целиком или отчасти, через японского полковника Акаши»399.
В самой России, в Санкт-Петербурге, в ноябре собрался Земский съезд, на котором впервые в российской истории легально прозвучали призывы к принятию Конституции и созыву парламента. Резолюции съезда стали распространяться по стране, будоража либеральную общественность. Следует заметить, что наши либералы, которые были вынуждены соперничать за симпатии народа с исключительно радикальными социалистическими организациями, сами занимали гораздо более левые позиции, чем аналогичные группы в Западной Европе. Так, они не имели ничего против экспроприации крупных помещичьих имений, государственных и церковных земель. Затем пошла «банкетная кампания» якобы по поводу полувека судебной реформы, когда оппозиционные речи произносились в виде тостов. Встал вопрос о союзе социал-демократии и либеральной оппозиции. Ленин «высмеял самую идею плана: подменить борьбу с царизмом дипломатической поддержкой бессильной оппозиции»400.
1905 год начинался для России трагически. 21 декабря 1904 года (3 января 1905 года) Николай II записал в дневник: «Получил ночью потрясающее известие от Стесселя о сдаче Порт-Артура японцам ввиду громадных потерь и болезненности среди гарнизона и полного израсходования снарядов!.. Защитники все герои и сделали более того, что можно было предполагать»401. Совершенно другие чувства падение Порт-Артура вызвало у оппозиции. Ленин был в восторге: «Капитуляция Порт-Артур есть пролог капитуляции царизма»402. Струве уверял, что народная Россия «разбужена от векового политического сна дальневосточной грозой», и предсказывал приход решающего момента в объединении всего общества против самодержавия403.
Делегация Союза Освобождения встречалась с руководителем крупнейшего профсоюза (легального, «зубатовского» – связанного с МВД) – Собрания русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга – отцом Григорием Гапоном. Он предложил проведение беспрецедентной акции – вручение 9 (21) января царю петиции с требованиями рабочих. Николай II уехал накануне в Царское Село. В его отсутствие петербургский градоначальник генерал Фултон применил оружие, чтобы не допустить демонстрантов на площадь перед Зимним дворцом. Около 200 человек было убито, 800 ранено.
Весть об этой трагедии, вспоминала Крупская, долетела до Женевы на следующее утро. «Мы пошли туда, куда инстинктивно потянулись все большевики… – в эмигрантскую столовую Лепешинских… Запели “Вы жертвою пали…”, лица стали сосредоточенны»404. В России пошли митинги протеста, рабочие стачки, кровавые столкновения демонстрантов с полицией – в Риге, Варшаве, Одессе. За один месяц бастовало больше людей, чем за предшествующее десятилетие. «Самодержавие ослаблено, – вдохновился Ленин. – В революцию начинают верить самые неверующие. Всеобщая вера в революцию есть уже начало революции». Но, признавал он, 9 января «обнаружило весь гигантский запас революционной энергии пролетариата и всю недостаточность организации социал-демократов»405. Как создать такую организацию и сделать ее массовой? Ответ Ленин рассчитывал получить у… Гапона.
Вскоре Гапон приехал в Женеву. Рассказывала Крупская: «Попал он сначала к эсерам, и те старались изобразить дело так, что Гапон их человек… В то время Гапон стоял в центре всеобщего внимания, и английский “Times” платил ему бешеные деньги за каждую строчку. Через некоторое время… пришла под вечер какая-то эсеровская дама и передала ВИ, что его хочет видеть Гапон. Условились о месте свидания на нейтральной почве, в кафе. Наступил вечер. Ильич не зажигал у себя в комнате огня и шагал из угла в угол. Гапон был живым куском нараставшей в России революции… и Ильич волновался этой встречей»406. Еще бы! Ведь этот священник вывел на улицы Петербурга 150 тысяч человек! Мария Ильинична напишет: «Брат проводил с ним долгие часы, расспрашивая о движении питерских рабочих…»407.
Ленин взялся наставить Гапона на марксистский путь истинный и 8 февраля писал в газете «Вперед»: «Пожелаем, чтобы Г. Гапону, так глубоко пережившему и перечувствовавшему переход от воззрений политически бессознательного народа к воззрениям революционным, удалось доработаться до необходимой для политического деятеля ясности революционного миросозерцания»408. Гапон оказался плохим учеником. «Он уделял немало времени, чтобы учиться стрелять в цель и ездить верхом, но с книжками дело у него плохо ладилось. Правда, он, по совету Ильича, засел за чтение плехановских сочинений, но читал их как бы по обязанности»409.
И у Гапона была собственная повестка. По его инициативе в Париже была организована конференция 18 российских социалистических организаций. Меньшевики побрезговали участвовать. Ленин принял приглашение сразу. Полагаю, ни он, ни даже Гапон не подозревали, что основными спонсорами мероприятия выступали все те же… японские спецслужбы. Российскому Департаменту полиции было известно о передаче японцами Гапону в Париже 50 тысяч рублей410. Конференция открылась 20 марта (2 апреля), из 18 приглашенных Гапоном партий приехали представители 11. Ведущую роль играли эсеры – Чернов и Брешко-Брешковская. Ленин расскажет: «Мы, представители и от редакции «Вперед», и от Бюро комитетов большинства, на конференцию явились. Мы здесь увидели, что конференция является игрушкой в руках с.-р.» 411.
Ленин конференцию покинул, не желая подыгрывать эсерам, в ряды которых Гапон вступил 1 мая. Но контакты с Гапоном и его соратниками у большевиков не прекращались. Теперь они касались отправки в Россию оружия. В центре операции был все тот же Циллиакус, много лет проживший в Японии. Этот борец за независимость Финляндии убеждал коллег-революционеров, что средства на оружие и другие цели поступают на имя Гапона от американской демократической общественности, восхищенной борьбой российских трудящихся за свободу. Коллеги верили или делали вид, что верили.
Подтверждала Крупская: «Гапон взял на себя задачу снабдить питерских рабочих оружием. В распоряжении Гапона поступали всякого рода пожертвования. Он закупал в Англии оружие. Наконец дело было слажено. Найден был пароход – “Джон Графтон”, капитан которого согласился везти оружие и сгрузить его на одном из островов невдалеке от русской границы… ВИ видел во всем предприятии переход от слов к делу. Оружие нужно рабочим во что бы то ни стало. Из всего предприятия, однако, ничего не вышло. “Графтон” сел на мель…»412.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?