Текст книги "Гипсовый трубач, или Конец фильма"

Автор книги: Юрий Поляков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
22. Последний русский крестьянин
…День стоял ясный и прохладный. Ослепительно белые березовые стволы напоминали солнечные щели в зеленом заборе. На дорожках, точно разноцветные заплатки, лежали, пристав к влажному от ночного холода асфальту, опавшие листья. На газоне, под елочкой, гордо и одиноко стоял большой мухомор с оранжевой, как у спасателя МЧС, шляпкой. Кучевые облака на эмалево-синем небе выглядели необыкновенно контрастно, можно было различить любую впадинку, выпуклость, завитушку, каждую отставшую туманность. В воздухе остро пахло грустной предосенней свежестью…
Некоторое время соавторы молча бродили по дорожкам, глубоко дыша и раскланиваясь со встречными ветеранами. Лица у стариков и старушек были светлые, безмятежные, словно впереди ожидала еще долгая-долгая, красивая, загадочная жизнь…
– А плютей здесь растет? – спросил вдруг Кокотов.
– Не встречал.
– А что вы решили с Ибрагимбыковым?
– Надо с ним заканчивать.
– Как?
– Я позвонил приятелю, мы во ВГИКе вместе учились. Теперь он работает на телевидении. Обещал сегодня прислать съемочную группу. Прежде всего к ситуации надо привлечь внимание! Общество должно содрогнуться оттого, что заслуженные старики могут остаться без крова над головой. Давайте сядем!
Режиссер и писатель направились к скамейке – такие раньше стояли во всех скверах. Длинные, трехметровые, глубокие, они были созданы из прочных, хорошо подогнанных под седалищный изгиб брусков, упиравшихся концами в фигурные чугунные боковины. Сколько сбивчиво-нежных объяснений слышали эти скамейки, сколько первых поцелуев помнят, счастливых содроганий хранят и сколько роковых разрывов не могут забыть! Но таких скамеек в парках и скверах теперь уж не сыщешь, их наша ненадежная эпоха променяла на короткие хлипкие лавчонки, готовые обрушиться под одной-единственной страстно целующейся парой.
– А почему Огуревич сам к общественности не обратится? – спросил Кокотов, усаживаясь.
– Да, тут что-то не так! – согласился Жарынин. – Но сейчас это не важно. Сейчас главное – начать, как говаривал лучший немец всех времен и народов!
– Кто это?
– Горби, коллега!
– Я вон про того спрашиваю! – уточнил писатель, показывая на странного человека, привинчивавшего что-то к отдаленной скамейке.
– А-а… Это Агдамыч. Последний русский крестьянин. Вы уже про него спрашивали!
– Да, действительно… Агдамыч… Странное прозвище!
– На самом деле его зовут Матвей Илларионович Адамов. «Агдам» же, если помните, – популярный и недорогой портвейн великой советской эпохи!
– Обижаете! Конечно, помню!
– А прозвали Илларионыча Агдамычем потому, что он, производя качественный самогон, сам предпочитал «Агдам».
– А почему он «последний крестьянин»?
– Говорят, впервые так его назвал Бондарчук (не лысый Федя, а сам великий Сергей Федорович!) после настоящей русской баньки, которую ему истопил Агдамыч. У него тут неподалеку, в лесу, своя усадьба была: изба, двор, постройки – вроде хутора. Еще от родителей досталась. Хозяйничали всерьез: коровка, кабанчики, овцы, гуси, кролики, куры. Ну, огород, конечно, и теплица. Держалось все, разумеется, на хозяйке – Анне Кузьминичне. Могучая была женщина! Сложите вместе двух Евгений Ивановн и прибавьте вашего покорного слугу – получите незабвенную Анну Кузьминичну. Какие пироги пекла, какие пироги! Агдамыч боялся ее страшно и был в ту пору таким работягой – залюбуешься! С утра у себя вкалывает, потом бежит сюда – плотничать и слесарничать: ему за это кухонные недоедки для свинок полагались. Творческая интеллигенция, в «Ипокренино» наезжавшая – славных стариков проведать или в свободных номерах отдохнуть, – часто к нему захаживала: за самогоном, сальцем, солеными огурчиками, парным мясом и молочком, или просто – чтобы первозданным сельским видом насладиться, детство вспомнить! Тогда ведь многие мэтры из крестьянского народа происходили. Это теперь у нас все заслуженные артисты из семей народных артистов…
Колодец у него, кстати, был великолепный – с настоящим «журавлем»! Помню, я еще во ВГИКе учился, засиделись мы как-то с другом и однокурсницей в ресторане Дома кино до самого закрытия, а душа продолжения просит. Э-эх! Поймали «левака», десятку в зубы – и к Агдамычу! Он нас, несмотря на поздний час, как родных принял, самогоном с сальцем наделил и на сеновал отправил. Просыпаюсь утром в сене. Аромат! Куры по двору бродят. На груди у меня полуголая однокурсница дремлет с той трогательной доверчивостью, какую может позволить себе только женщина, которой скрывать от тебя уже нечего. Значит, было, припоминаю. Было! Нежно бужу девушку… О, это утреннее, краткое и острое, подтверждение вчерашней новизны! Ну не важно… Вам, коллега, об этом лучше не слушать. Те м более что моя бывшая однокурсница – теперь мать-игуменья! Так-то! А вот с другом – беда, никак не можем растолкать: самогону с ночи обпился и закусывал плохо. Тогда мы с Агдамычем парня к «журавлю» привязали и в колодец опустили – по шею. Сразу очнулся!
В общем, был Агдамыч в творческих кругах фигурой известной. Шолохов, как-то с ним выпивавший, утверждал потом, что людей с такими выдающимися умственными способностями он встречал всего несколько раз в жизни! Но наши русские Ломоносовы, как сперматозоиды: из миллионов один до цели добирается, остальные гибнут невостребованные. М-да… Простите, Андрей Львович, опять я вас тревожу рискованными параллелями! Ну да ладно! И как-то так само собой получилось, что если какому-нибудь режиссеру срочно нужна для съемок деревенская натура, никто даже не задумывался: вперед, к последнему русскому крестьянину! Колорит, самогон и от Москвы недалеко! А в скольких эпизодах Агдамыч снялся – не сосчитаешь! «Отец, далеко ли до Лихачевки?» – «Да, почитай, милок, версты две станет!» Тогда ведь без деревенской темы ни один фильм не обходился, даже если кино про физиков-ядерщиков. Лохматит, лохматит себе ученый волосы в логарифмическом отчаянье, потом махнет рукой – и в деревню, на утреннюю речку, босиком по росе. Помните знаменитых лошадей под дождем у Тарковского в «Солярисе»?
– Еще бы! – воскликнул Кокотов.
– У Агдамыча снимали. Коней, правда, в колхозе взяли. И за эпизодические роли, и за аренду живописной натуры в те годы, между прочим, неплохие деньги платили. Со всего этого имели Адамовы хороший доход – даже «волгу» с прицепом приобрели: на рынок в Сергиев Посад (а по-старому – Загорск) продукты натуральные возить. Кстати, купить в ту пору ГАЗ-24 простому человеку было практически невозможно, эта машина предназначалась космонавтам, академикам, генералам, артистам, ну и торгашам, разумеется. Однако тогдашний повелитель Союза кинематографистов СССР Лев Кулиджанов чрезвычайно ценил Агдамыча за меткое народное слово и включил его в список лауреатов Государственной премии, которым по статусу полагалась «волга». Но и это еще не все! Иные чересчур разгулявшиеся и не рассчитавшие свои финансовые возможности творцы расплачивались за самогон, сало, сеновал и баньку шмотками, привезенными из загранкомандировок. И на праздники одевался последний русский крестьянин, доложу я вам, не хуже, чем преуспевающий кинооператор: кожаный пиджак, вельветовые брюки, тисненые мокасины и так далее. Цветных шейных платков а-ля Вознесенский, конечно, не носил: близость к земле не позволяла…
Но прав, прав старый пессимист Сен-Жон Перс: счастье – это всего лишь предбанник горя. Первый страшный удар по благоденствию Адамовых нанес капитализм с нечеловеческим лицом. Ну, кому, кому, скажите, срочно понадобится ночью ехать в лес за самогоном, если круглосуточные ларьки ломятся от алкогольной отравы? Кто в нищей стране будет задорого покупать на рынке натуральный творог или парную свинину? Ножки Буша и дармовые молочные продукты из Белоруссии погубили процветавший семейный бизнес! Про доходы от кино я даже не говорю! Экраны захватили бандиты, проститутки, менты, олигархи и извращенцы. События фильмов происходят теперь исключительно или в дорогих казино, или на помойках. Зачем, зачем им Агдамыч? Но семья Адамовых сопротивлялась, боролась, не сдавалась – они научились из первача с помощью желудевого отвара готовить виски и развозили напиток в окрестные палатки на реализацию. Достаток, конечно, из семьи ушел, но на еду хватало. Да только беда, как говорится, не ходит одна: Анну Кузьминичну положили в районную больницу на операцию – пустяковую. И черт дернул Агдамыча вместо аванса вручить врачам канистру желудевого скотча! Ну какой, скажите, русский человек, даже если он в белом халате, удержится от того, чтобы не выпить за успех начатого дела? В общем, зарезали спьяну бедную Анну Кузьминичну прямо на операционном столе, как овечку. Этого, второго удара Агдамыч не выдержал. Сначала спалил по неосторожности дом и поселился в бане, потом разбил спьяну ржавую «волгу», пропил вещи – свои и покойницы – и превратился в то, что вы теперь видите перед собой! – Жарынин театрально указал рукой и вытер лысину, вспотевшую от эмоционального повествования.
Потрясенный рассказом, Кокотов совсем другими глазами взглянул на Агдамыча. Последний русский крестьянин был одет в старую засаленную «олимпийку», зеленую брезентовую куртку с капюшоном и обут в кроссовки, такие грязные и истрепанные, словно в них, не снимая, совершен пеший переход от Карпат до Гималаев. На голове красовалась желтая лыжная шапочка с помпоном. В руке он держал плотницкий ящик-дощаник, оттуда торчали инструменты: молоток, топор, ножовка и гвоздодер, похожий на черную гадючку, поднявшую сплющенную головку. По всем признакам Агдамыч пребывал в состоянии бодрого работящего похмелья.
Подойдя к соседней скамейке, умелец извлек из дощаника небольшую латунную табличку, заигравшую на солнце, точно карась чешуей, приложил ее к брускам, полюбовался, потом вынул изо рта шуруп и начал прикручивать.
– Что он делает? – удивился Кокотов.
– Превращает с помощью этих табличек обычный парковый инвентарь в артефакт мирового значения. Огуревич придумал. Редкий жучила! Он, кстати, эти устаревшие скамейки задешево скупает и сюда везет.
– Скупает! Зачем?
– Скамейки идут на экспорт.
– Бросьте! Кому они за границей нужны?! – вскричал писатель, решив, что его нагло разыгрывают.
– Э, не скажите! В «Ипокренине» кто только не жил. Многие знаменитости наведывались. Мог, допустим, Лев Толстой сидеть здесь на скамейке?
– Не мог.
– Правильно. Соображаете! А Пастернак?
– Мог, вероятно…
– Ответ правильный. И Булгаков мог, и Станиславский, и Шостакович, и Шолохов… А «Ипокренино» как раз по пути в Сергиев Посад. Туристы иной раз заезжают. Среди них попадаются любители и даже знатоки. Две скамейки, на которых любил сидеть Пастернак, ушли в Америку. В Германию взяли скамейку имени Мейерхольда. А сколько скамеек Михоэлса ушло в Израиль! В последние годы в связи с обострением украинской государственности в Киев забрали четыре любимых скамейки Довженко…
– Минуточку! Но на них же не написано, кто на какой именно любил сидеть!
– Ошибаетесь! Написано. Сейчас убедитесь сами…
Последний русский крестьянин между тем, ввинтив четвертый шуруп и проверив, хорошо ли держится табличка, направился к скамье, на которой расположились соавторы. Когда он опасно приблизился, на них пахнуло особым тяжким духом, такой могла бы, наверное, издавать выхлопная труба испорченного автомобиля, если бы двигатель работал не на бензине, а на табачно-алкогольной смеси.
– Здоров, Агдамыч! – воскликнул Жарынин с той лейб-гвардейской развязностью, каковую отечественная творческая интеллигенция обычно напускает на себя, общаясь с народом.
– И вам не хворать! – степенно ответил мастер.
– Знакомься, мой соавтор – Кокотов! – представил режиссер.
– С приездом! Сочиняете, стало быть? – кивнул Агдамыч, вынул из дощаника начищенную табличку с отверстиями по углам и стал, щурясь, присматриваться к крашеным брусьям скамейки. – Где-то тут дырочки были? Ну, ничего, новые провертим.
– А кто едет-то? – спросил Жарынин.
– Вроде как америкосы опять…
– А кого привинчиваешь?
– Тама, – он махнул на соседнюю скамейку, – этот… как его… – Агдамыч изобразил прокуренными мозолистыми пальцами тюремную решетку.
– Солженицын? – подсказал Жарынин.
– Не-а. Хуже.
– Варлам Шаламов?
– Не-а. Лучше.
– Мандельштам?
– Он самый.
– А сюда кого привинтишь?
– Этого… – Агдамыч показал руками большой квадрат.
– Малевича? – Сразу догадался режиссер.
– Его. Ага, вот они – дырочки… – Мастер достал из дощаника и обтер рукавом табличку, на которой была выгравирована искусная, стилизованная под начало прошлого века надпись:
На этой скамейке любил сидеть великий русский живописец
Казимир Северинович Малевич (1878–1935)
– А он действительно любил тут сидеть? – усомнился Кокотов.
– А чего ж не любить: удобно и воздух, – ответил Агдамыч, отсчитывая четыре шурупа и вставляя их в рот.
– Это в источниках зафиксировано? – уточнил Андрей Львович.
– А как же! – вооружаясь отверткой, кивнул Агдамыч. – У нас все досточки на учете.
– Мой наивный друг, – покачал головой Жарынин, – восточная мудрость гласит: невозможно обнару– жить три вещи – след рыбы в реке, след змеи на камне и след мужчины в женщине. Я бы добавил четвертую: невозможно обнаружить след Малевича на лавке, на которой он никогда не сидел…
– Значит, обман?
– Почему сразу обман? Если «Черный квадрат» – не обман, то почему же скамейка, на которой мог сидеть, но не сидел Малевич, – обман? Это всего лишь несбывшаяся реальность.
– Правильно! – краем рта подтвердил Агдамыч, ввинчивая шуруп. – Вот к нам китаёзы приезжали. Галдят, где тут, мол, Островский сидел, который инвалид и про сталь сочинял?! Оч-чень они его там у себя уважают. Просто трясутся. Та к и сясякали: «Ососки элосы йоу и![Островский, Россия, дружба!] Ососки шу хэн хао![Островский, книга, хорошо!] Ососки до шао цянь?[Сколько стоит Островский?]» Две лавки увезли. Одну – в Пекин, другую – в Шанхай.
– Какая же у тебя память, Агдамыч! – похвалил Жарынин.
– Не жалуюсь. Память хорошая, а жизнь хуже…
– Ты же вроде увольняться собирался? Ругался: мало платят.
– Остался! – ответил мастер, заканчивая работу.
– Денег добавили?
– Не-а. Но Огурец обещал научить без водки похмеляться. У нас же, оказалось, внутри спирт имеется. Мы просто не знаем…
– Ну и как?
– Учусь. Дело-то серьезное.
– Значит, сам пока не можешь?
– Еще нет. Вкус водки уже могу себе нагнать, но крепости нету. В магазин хожу.
– А самогон? Ты же такую прелесть гнал!
– Дорог ныне ингредиент, Дмитрий Антонович. Магазин дешевле выходит. Только вот сегодня не хватает мне…
– Помочь?
– Не побрезгую.
– А сколько у тебя есть?
– Вот! – Мастер вынул из дощаника пустую водочную бутылку.
– Ну, неплохо! – усмехнулся режиссер и протянул ему сотню.
То т принял вспомоществование с благодарным достоинством и собрался уходить.
– А зачем вы таблички каждый раз отвинчиваете? – спросил Кокотов.
– Та к цветнина ж! – опешил от такого непонимания Агдамыч. – Чуть не доглядел – отодрали и сдавать побежали…
– Кто?
– Есть кому! – Он сурово посмотрел на соавторов и зашаркал к дальней скамейке в конце аллеи.
– А там-то кто сидел? – вдогонку спросил Андрей Львович.
Последний русский крестьянин помахал над головой кулаком и ступенчато рубанул воздух.
– Наверное, Маяковский? – предположил писатель.
– Великий народ! Великий язык! – воскликнул Жарынин, и на его глазах выступили слезы благоговения. – Нет, вы вслушайтесь только: цвет-ни-на! В одном слове, как в капле, отразилась вся катастрофа русского саморазрушения! Вся!
– Вы что имеете в виду?
– Эх, вы, писатель, неужели не понимаете? Цвет-нина! Пуш-ни-на! Воровство цветных металлов в эти проклятые годы стало у простых людей промыслом, способом существования, как у их предков – добыча пушного зверя. В одном лишь слове – весь кошмар бездарных реформ и весь каннибализм дикого капитализма! В одном слове! О если бы такое возможно было в кино! Если бы один кадр, один крупный план – и эпоха у тебя в кулаке! Но мы с вами сделаем это, Кокотов, сделаем… Обязательно сделаем! Мы с вами задерем подол старушке Синемопе!
Андрей Львович ничего этого уже не слышал, он лишь видел, как в их сторону от крыльца идет Лапузина в плащике и с тем же крокодиловым портфелем в руке. Рядом с ней, чуть отставая и рождая в кокотовском сердце ревнивое неудобство, шагал холеный, средних лет брюнет, одетый в офисный темно-серый костюм и ярко-желтые ботинки. Оба они явно были чем-то расстроены: молодая женщина сердито жестикулировала, размахивала портфелем, а ее спутник хмурился и рассматривал листья под ногами.
Вдруг она вскинула голову и увидела Кокотова. Ее лицо тут же преобразилось, осветившись улыбкой, но не обычной вежливой, а какой-то лукаво-доверительной, даже заговорщицкой, будто ее и Андрея Львовича соединяла некая общая, немного забавная, но в целом трогательная тайна. Поравнявшись с соавторами, Наталья Павловна замедлила шаг, явно собираясь заговорить. Жарынин и Кокотов, помогая друг другу, не без труда поднялись из глубокой скамеечной впадины навстречу даме.
– Господа, – сказала она красивым, чуть хрипловатым голосом. – Я хотела бы с вами познакомиться. По-соседски. Это роскошно, что вы приехали сюда! Меня зовут Наталья Павловна Лапузина! – И она протянула ладошку тем элегантным «срединным» движением, когда дама как бы предоставляет мужчине выбор: поцеловать руку или просто пожать. Все зависит от желаний.
Жарынин, конечно, наигалантно изогнувшись, поцеловал:
– Жарынин. Дмитрий Антонович. Кинорежиссер. Счастлив знакомству!
– Знаю, знаю. Мне Аркадий Петрович про вас много рассказывал. Он так на вас надеется. Ах, боже, неужели ваши «Плавни» все-таки смыли?!
– Смыли!
– Вандалы! Но ведь вы еще что-нибудь снимете?
– Конечно. За тем и приехали.
Кокотов, как всегда, не решился приложиться губами к женской ручке и всего лишь пожал, почувствовав странный, похожий на дрожь, отклик в этих нежных пальцах:
– Кокотов. Андрей Львович. Писатель.
– Это вы, вы! Я так и знала! – воскликнула Лапузина.
– Вы… я… мы… разве? – растерялся автор «Кентавра желаний».
– Странно… Ах, какая у вас плохая память на женщин! – засмеялась она.
– А если еще учесть псевдоним Андрея Львовича… – с видом заговорщика начал Жарынин.
– Дмитрий Антонович, я бы вас попросил! – визгливым от гнева голосом оборвал его Кокотов.
– Молчу!
– Господа, не ссорьтесь. Я живу в 308-м номере. Заходите! Ах, да… – Она, вспомнив, небрежно кивнула на своего спутника. – Это Эдуард Олегович, мой мучитель и по совместительству адвокат.
То т слегка поклонился соавторам с тем вежливым равнодушием, с каким юристы относятся ко всем людям, пока еще не нуждающимся в их дорогостоящих услугах.
– Жду в гости! – повторила Лапузина, глядя на Кокотова.
Глаза у нее оказались светло-карие, ярко-грустные и отдаленно, очень отдаленно знакомые…
Наталья Павловна и «мучитель-адвокат», продолжая спор, двинулись дальше по аллее, а Кокотов, исполненный радостного, распирающего сердце недоумения, долго еще следил за ними взглядом. Жарынин выждал, когда они скроются за кустами пузыреплодника, и строго спросил:
– Значит, все-таки вы ее знаете?
– Я… я ее встречал… Но где и когда…
– Странно. Вы не похожи на мужчину, который не помнит знакомую женщину. Я вот… могу забыть. Но вы? Странно…
– Да, действительно странно… – кивнул Андрей Львович.
– А вы помните, у ехидины Сен-Жон Перса есть забавное соображение о том, чем письменный стол лучше женского тела?
– Нет, не помню…
– Я тоже. Но это не важно. К столу!
23. Пророчество Синемопы
– Ну и что мы будем делать с вашим «Гипсовым трубачом»? – строго спросил Жарынин из клубов табачного дыма, будто Иегова из облака.
– Ну знаете! В конце концов, это вы мне позвонили, а не я вам! – возмутился Кокотов. – Вы меня сюда привезли, а не я вас! Если вы передумали, так и скажите и отвезите меня хотя бы до станции. У меня обследование.
– Бросьте! Все недуги от унынья и безлюбья!
– Какая здесь ближайшая станция?
– Ступино.
– Я серьезно!
– И я серьезно. Кстати, дорогой инженер человеческих душ, Ступино не по Ярославской дороге! Ладно, не пеньтесь! В вашем рассказе мне понравилось, что Львов каждый год приезжает к гипсовому трубачу. Это хорошо! Но в фильме, мой прозаический друг, должна быть история. Сюжет. Если мы с вами, конечно, упаси господи, не Сокуров или, не дай бог, поздний Тарковский. Но мы с вами не таковские! Наши герои не могут полтора часа просто бродить по экрану, ежась от амбивалентнос– ти бытия! И еще мне не нравится, что героиня гибнет. Почему она? У насекомых, например, после совокупления гибнет самец, а иногда даже самка его просто сжирает. Почему гибнет она, а не вы?
– Тогда не было бы рассказа.
– Вы уверены? А может, ваш герой – дух, ангел. И райская награда заключается именно в том, чтобы раз в год возвращаться на самое дорогое для покойного место…
– А адское воздаяние – в том, чтобы раз в год возвращаться на самое страшное место?
– Голова-то у вас работает! Я не ошибся. Ну, вспомните, вспомните, когда вы были пионервожатым, что-нибудь с вами случалось?
– Вроде нет…
– Не может такого быть! В жизни всегда есть место подлому.
– Впрочем, было… Было! Я подрался. Нас даже разбирали на педсовете.
– Оч-чень хорошо! А вы говорите: не было. Рассказывайте!
– Подрались мы с Витькой Батениным, однокурсником. Он умер…
– От побоев? – радостно насторожился Жарынин.
– Нет. От пьянства.
– Когда?
– Недавно.
– Жаль. Очень жаль!
– Почему?
– И вы спрашиваете? Если б вы его убили, то попали бы в тюрьму, пострадали и могли сделаться Достоевским или, в крайнем случае, Солженицыным. У вас была бы здесь своя любимая скамейка…
– …на которой я не сидел! – язвительно уточнил Андрей Львович.
– Та к в этом, глупыш вы мой, и заключается слава: любимые скамейки, на которых вы не сидели, любовницы, с которыми вы не спали, благородные поступки, которых вы не совершали, афоризмы, которых вы не говорили… Понимаете?
– Я стал Кокотовым!
– Вот именно! Из-за кого подрались? Из-за Лики-Ники-Таи?
– Нет, не из-за нее. Витька с медсестрой крутил.
– А из-за чего сцепились? Ох, я вижу, вижу эту молодую драку на глазах потрясенных пионеров. Как я это сниму!
– Мы ночью дрались, когда дети спали.
– Они проснулись. Проснулись и лупят изумленные глазенки на брутальный ужас взрослого мира! Драку я дам размыто, в «вазелине», а детские глаза крупно и четко, так, чтобы каждую дрожащую ресничку было видно! Как я это сниму! Та к из-за чего вы махались?
– Не помню… Кажется, из-за стихов.
– Из-за стихов? Интересно. Подробнее!
– Ему не понравились мои стихи.
– А вы писали стихи?
– Конечно.
– И читали ему?
– Он попросил.
– Пили перед этим?
– Естественно.
– Что именно ему не понравилось в ваших стихах: рифма, ритм, система образов?
– А это важно?
– Конечно, Андрей Львович! Любая случайная деталь может стать впоследствии гениальным образом.
– Ему не понравилось все.
– Почитайте мне ваши ранние стихи! – попросил режиссер, заранее откидываясь в кресле и полузакрывая глаза.
– Не хочу!
– Пожалуйста!
– Нет…
– Экий вы… – только и сказал Жарынин, добавив лицом все остальное, что он думает про соавтора и особенно про вчерашнее. – Ладно. Подрались. Дальше?
– Кто-то стукнул… Нас вызвали на педсовет, и директор лагеря сказала, мол, если еще раз повторится, нас выгонят и отправят письмо в институт.
– Как ее звали?
– Зоя Константиновна. Зэка.
– Зэка? Очень хорошо! Я одену ее в брючный костюм цвета хаки. Ну вот, уже что-то брезжит. Итак, мы имеем избитого друга и злобную Зэка, которой наш герой… Лева…
– Почему Лева?
– По кочану! …Которой наш Лева втайне нравится. Такая, понимаете, стареющая комсомольская богиня, толстая, с тройным подбородком и стратегическими запасами неизрасходованного, но почти просроченного либидо. Неравнодушна к юношам. Взаимности, конечно, нет. И от женского отчаянья она мстит Леве! Так?
– Нет. Она была нормальная женщина, чуть толстовата, это верно. У нее были муж и любовник. Она хорошо ко мне относилась, даже помогла, когда меня чуть в КГБ не замели…
– Ку-уда-а-а?
– В КГБ!
– Боже праведный! И он молчал! Диссидентушка вы мой замечательный! Рассказывайте, рассказывайте, рассказывайте! Подробно! Что вы натворили? Где, когда, почему?
– На карнавале.
– Отлично! Великолепно. Я вижу: последние кадры «Ночей Кабирии»! Вы идете и плачете просветленными слезами! Вокруг, как у Босха, страшные маски, рожи, ряхи… А что за карнавал?
– Обычный. Как в том детском фильме «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». Помните?
– Что вы сказали? В детском фильме?! – Жарынин аж поперхнулся табачным дымом, точно внезапно оскорбленный огнедышащий дракон. – Это не детский фильм, это гениальное кино, пророческое! А Элемка Климов – Нострадамус!
– В каком смысле? – не понял писатель.
– О, невдумчивый вы, невдумчивый! Фильм-то хоть помните?
– В общих чертах.
– В общих чертах! – передразнил Жарынин. – Эх, вы! Пророчества надо знать наизусть! Хорошо, я напомню. Образцовый пионерский лагерь. Все дети ходят строем, купаются по команде, участвуют в художественной самодеятельности, едят с аппетитом и прибавляют в весе. Мечта! Но один пионер Костя Иночкин строем не ходит, купается, когда и где захочет, да еще дружит с деревенскими мальчишками. И тогда директор лагеря товарищ Дынин, формалист, зануда и подхалим… Кстати, Кокотов, вы обращали внимание, что формалисты от искусства тоже обычно зануды и подхалимы?
– Да, как будто…
– Не как будто, а точно. Та к вот, Дынин отправляет Иночкина домой, к бабушке. Костя, не желая огорчать старушку, тайно возвращается в лагерь. Друзья-пионеры, пряча его от Дынина, оформляются как оппозиция директорской диктатуре. В итоге: Дынин уволен, и его, как еще недавно Иночкина, увозит на станцию грузовик с молочными бидонами…
– Это все я помню, – раздраженно заметил Кокотов. – Ну и где тут пророчество?
– Сейчас объясню. Чего, собственно, добивается Дынин? Порядка, дисциплины, организованного досуга и прибавки в весе. Кстати, эта мания – откормить ребенка – осталась от голодных послевоенных лет. Разумеется, в сытые семидесятые это выглядело нелепо, даже смешно. А вот в девяностые, когда в армии для новобранцев создавали специальные «откормочные» роты, это уже не выглядело глупым. История повторяется. Но вернемся к Дынину. Ведь все, что он требует от детей, абсолютно разумно! Вообразите: если три сотни пионеров перестанут ложиться, просыпаться и питаться по горну, откажутся ходить строем, начнут бегать и резвиться сами по себе… Что случится?
– Хаос, – подсказал писатель.
– Верно! А если дети станут купаться где попало, без надзора взрослых? Что есть пионер-утопленник? Горе – одним, тюрьма – другим. Так?
– Это самое страшное! – передернул плечами бывший вожатый Кокотов.
– А контакты с деревенскими? Это же – эпидемия. Согласны?
– Абсолютно согласен.
– Та к кто же он, наш смешной и строгий Дынин, требующий соблюдения всех этих правил коллективного детского отдыха? Догадались? Думайте!
– Не знаю. Сдаюсь.
– Дынин – это советская власть.
– Да ладно вам!
– А вот и не ладно! Вспомните, незабвенная советская власть занималась тем же самым: порядок, дисциплина, организованный досуг, рост благосостояния народа… Другими словами, прибавка в весе.
– А кто ж в таком случае Иночкин? – полюбопытствовал Кокотов.
– А Иночкин – это неблагодарная советская интеллигенция, которая всегда ненавидела государственный порядок, но жалованье хотела получать день в день. И какую отличную фамилию Элемка придумал для героя! Вы замечали, как образуются самые распространенные псевдонимы? Правильно! – кивнул Жарынин, даже не дав собеседнику раскрыть рот. – От имени мамы или любимой женщины: Катин, Галин, Марин, Олев, Светин, Ленин, Инин… А тут – Иночкин! Маленький, милый, но уже безжалостный разрушитель государственного порядка. Гениально! А помните, как заканчивается фильм?
– На родительский день приезжает большой начальник… Ну, и…
– Абсолютно верно. Приезжает большой начальник Митрофанов проведать племянницу, кстати, редкую оторву вроде Ксении Собчак, и снимает, к чертовой матери, с работы Дынина за формализм и подхалимаж. Вы видели, чтобы хоть кого-то за формализм и подхалимаж с работы сняли?
– Не-ет, – признался писатель.
– Правильно. Митрофанов – это аллегория нарождавшегося реформаторского крыла советской власти. А Дынин – символ замшелой номенклатуры. Он, чтобы дядю порадовать, хотел племянницу королевой полей – кукурузой – нарядить… Улавливаете?
– Что?
– Как что? Номенклатура стремилась повязать партийную власть мелкими личными гешефтами. А кто в конце концов вылез из початка вместо племянницы?
– Иночкин.
– Умница! Из початка вылезла неблагодарная советская интеллигенция, либеральная до аморализма. И что делает товарищ Митрофанов, сняв Дынина?
– Зовет всех купаться? – припомнил Кокотов.
– Правильно! Зовет купаться в неположенном месте. Понятно?
– Нет…
– Думайте! Даю подсказку: Митрофанов – это…
– Не знаю.
– Эх, вы! Митрофанов – это же Горбачев со своей перестройкой! Он снимает Дынина (старую номенклатуру), разрушает установленный порядок и зовет всех купаться в неположенном месте, а те от нетерпения начинают прыгать через реку – из социализма в капитализм!
– Не может быть! – вздрогнул Кокотов и почувствовал на спине мурашки.
– Увы, это так! Но не перепрыгнули. Нет. Свалились… Начался жуткий бардак девяностых. Ельцин. Кошмар. Семибанкирщина. И понадобился снова кто?
– Дынин!
– Вы растете прямо на глазах! Да-да-да! Дынин. Путин! Улавливаете? А ведь фильм-то снят задолго до пере– стройки! Вот на что способно, коллега, настоящее искусство! Понимаете? Но извините, Андрей Львович, я перебил вас! Рассказывайте дальше! Что же случилось на карнавале?
– Ну, в общем, наша художница Та я посоветовала мне нарядиться хиппи…
– А вы кем хотели?
– Индейцем… Одиноким Бизоном. А для этого требовалось совсем немного: байковое одеяло, несколько вороньих перьев, которые я заранее припас, ну и, конечно, акварель или гуашь, чтобы стать окончательно краснокожим. За гуашью я и пошел к Тае… – сказал Кокотов, ощутив в горле спазм от давнего, казалось, давно забытого смятения.
– Во-от оно что! – чутко уловил Жарынин. – А ну-ка рассказывайте!
– Дмитрий Антонович, мы сюда с вами приехали сценарий писать или обмениваться сексуальным опытом? – Писатель непростительно посмотрел на соавтора.
– Запомните: искусство и есть обмен сексуальным опытом. И ничего больше! Но возвышенный обмен. Воз-вы-шен-ный. Что говорил Сен-Жон Перс по этому поводу?
– Не знаю.
– Эрос есть даже в вакууме!
– Да идите вы к черту с вашим Сен-Жон Эросом! – заорал Кокотов и смутился, догнав свою оговорку.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








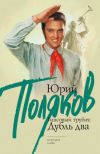

![Книга Слепой Агент [Последний долг, Золотой поезд] автора Сергей Майоров](/books_files/covers/thumbs_100/slepoy-agent-posledniy-dolg-zolotoy-poezd-7272.jpg)





























