Текст книги "Гипсовый трубач, или Конец фильма"

Автор книги: Юрий Поляков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 19 страниц)
– Вот ты какой! – одобрительно прошептала она, когда молнии закончились.
И засмеялась, но уже не с гортанной хмельной отвагой, а тихо и грустно.
– А ты? – спросил он.
Несмотря на нулевую практическую подготовку, теоретически Кокотов был подкован и, конечно, знал, что женщина должна испытать во время любви что-то подобное.
– Я? У меня до конца никогда не получается.
– Почему?
– Не знаю. Но мне все равно хорошо…
– А вдруг получится?
– Нет, не получится!
И она почти без сил сползла со своего скакуна, как, наверное, сползала после жаркого боя кавалерист-девица Дурова, порубав французов без счету.
– Иди! Извини, я забыла, как тебя зовут?
– Андрей.
– Иди, Андрюш! А то они там еще что-нибудь подумают…
– Ну и пусть!
– Нет, не пусть! Я хочу спать…
Он вышел из клуба. Над деревьями, в том месте, где горел костер, стоял световой столб: наверное, снова подбросили дров. Кокотов сначала хотел просто затеряться где-нибудь в ночном лесу, лечь на травку, высматривать звезды и ловить в теле блуждающие отголоски случившегося. А главное – привыкать, приноравливаться к очнувшемуся в нем новому, мужскому существу, самуверенному, наглому, готовому ко всему, против которого потом не смогла устоять даже Лена…
Но он понимал, что его отсутствие вызовет подозрения и повредит Тае.
Вернувшись на поляну, Кокотов обнаружил, что костер действительно снова разожгли – и теперь прыгают через огонь. Ник-ник, как и положено спортсмену, перемахивал пламя оточенными «ножницами», а остальные – как придется, но с пронзительными индейскими воплями. Не пры– гал только Игорь – он недвижно, как мертвый, лежал на траве, заботливо укрытый казенным байковым одеялом. Его непослушная нижняя губа мелко дрожала от храпа.
– Отвел! – доложил Кокотов физруку.
– Как она?
– Спит.
– Молодец!
Подбежал Батенин – с початой бутылкой и стаканом, таинственно отвел в сторону и радостно спросил:
– Ну что, трахнул?
– Не-а…
– Ну и дурак!
Кокотов был поражен тем, что никто ни о чем не догадался, даже не заметил в нем громадной, тектонической перемены. Ведь с поляны полчаса назад ушел пустяковый юнец, а вернулся новый человек, мужчина, знающий тайну женского тела не понаслышке! И этого не обнаружил никто, кроме, пожалуй, библиотекарши. Чтобы окончательно отвести от Та и возможные подозрения, он близко подсел к Галине Михайловне и спросил, когда же можно зайти за книжными дефицитами, но она, холодно глянув на него, ответила, что «спецшкафом» распоряжается лично Зэка. И отодвинулась…
Но ему было теперь наплевать. Он уже томился еще одним, совершенно новым для себя ощущением. Это была нежно изматывающая телесная скорбь, переходящая в отчаянье. Перебирая в памяти мгновенья миновавшего обладания, Кокотов почти плакал от сладострастной незавершенности объятий, от мучительного недовольства собой за то, что не сумел всю эту доставшуюся ему женщину сделать своей до невозможности, до последней ее неги, до некоего умиротворяющего, окончательного предела. И значит, те– перь надо только дожить до следующей встречи – и достичь предела, стать для своей женщины всем-всем-всем! Конечно, Кокотов тогда еще не подозревал, что умиротворяющий предел в любви невозможен и приходит только вместе с охлаждением. А как сделаться для женщины всем-всем-всем, не знает никто. Даже Сен-Жон Перс…
На следующее утро Кокотов столкнулся с Таей в столовой и ощутил, как его сердце, вспыхнув, оторвалось и с дурманящей легкостью полетело куда-то вниз. Но художница, бледная после вчерашнего, лишь кивнула ему с улыбкой, в которой не было даже намека, тени намека на то, что меж ними произошло. Он порывался заговорить, но она приложила палец к губам и покачала головой.
Промучившись два дня, Андрей отправился в изостудию, якобы для того, чтобы разыскать пионера, не пришедшего на построение. Дверь была приоткрыта, он затаился и стал наблюдать, изнывая от непривычного еще чувства недосягаемости уже близкой тебе женской плоти. За деревянными, перемазанными краской мольбертами сидело несколько мальчиков и девочек, в основном – малышня. Та я медленно ходила меж ними, рассматривала рисунки, наклонялась, что-то объясняя, брала из детских рук кисточки и поправляла, а наиболее успешных ласково, почти по-матерински гладила по голове и целовала. Именно эта материнская повадка у женщины, которую Кокотов знал в невыразимой на человеческом языке откровенности, обдала будущего писателя такой волной вожделения, что запылало лицо и заломило в висках.
Та я наконец заметила его и вышла в коридор.
– Послушай, – сказала она, – не надо сюда приходить!
– Я ищу… Воропаева…
– Какого еще Воропаева? Не надо этого! Ничего не было! Понял, Андрюшенька? Ни-че-го…
Кокотов кивнул, еле сдерживая слезы. Все следующие дни даже сердце его билось в этом странном, болезненном ритме: ни-че-го-ни-че-го-ни-че-го. Но он знал, что все равно снова пойдет к ней, надо лишь дождаться правильного повода. Чтобы не так страдать, несчастный вожатый с головой окунулся в педагогическую работу и тоже завел себе туго свернутую газетку, но пионеры его почему-то все равно не слушались. Тогда Людмила Ивановна, у которой муж не ночевал дома уж третью ночь, отозвала напарника в сторону и открыла ему страшную воспитательную тайну: в газетку была завернута довольно увесистая палка. Кокотов сбегал в лес, вырезал толстую лещину, завернул в свежий номер «Комсомольской правды», и уже к вечеру в первом отряде воцарилась идеальная дисциплина.
Между Андреем и Людмилой Ивановной наладилось полное понимание. Кстати, выяснилось, что мужа, оказывается, просто отправляли в срочную командировку, и женщина прямо-таки светилась возрожденным семейным счастьем, изливая его и на своего младшего коллегу. Накануне карнавала они в тихий час пили чай с мятой и рассуждали о том, во что бы им самим одеться на праздник. С детьми все уже определилось: отряд имени Гайдара в полном составе превращался в шайку пиратов. А для этого было достаточно завязать носовым платком один глаз, нарисовать жженой пробкой усы и надеть тельняшки, их на складе хранилась целая стопка – для обязательного в самодеятельности танца «Яблочко».
Людмила Ивановна колебалась. С одной стороны, ей очень хотелось нарядиться Белоснежкой, про которую когда-то в лагере ставили детский мюзикл. Костюмы семи гномов со временем самоутратились, а вот платье Белоснежки (ее всегда играл кто-то из взрослых) сохранилось и было Людмиле Ивановне как раз впору. Но, с другой стороны, на него претендовала библиотекарша Галина Михайловна, от отчаянья закрутившая роман с лагерным водителем Михой. К тому же отрываться от пиратского коллектива опытная воспитательница считала непедагогичным и потому склонялась ко второму варианту – нарядиться атаманшей. Практиканту она предалагала роль своего заместителя.
– Да, пожалуй, атаманшей – правильнее! – грустно кивнул Кокотов.
– А ты?
– Я? Я лучше буду Одиноким Бизоном… – вымолвил он и едва успел закрыть ладонью выпрыгнувшую на щеку горячую слезинку.
Вообще-то сначала Кокотов хотел нарядиться индейским вождем Чингачгуком, но критически оглядев себя в зеркале, понял, что никак не тянет на обнаженного по пояс, мускулистого Гойко Митича, исполнявшего в кино роли продвинутых краснокожих. И тогда Андрей вдруг вспомнил книжку «Ошибка Одинокого Бизона», читанную в детстве. На обложке был изображен закутанный в попону печальный индеец, стоящий возле догорающего костра. Образ как нельзя более соответствовал его нынешнему душевному состоянию. Имелись и другие аргументы «за». Во-первых, оказалось, можно стать полноценным вождем, не предъявляя посторонним свою неиндейскую мускулатуру, а во-вторых, для этого превращения требовалось совсем немного: байковое одеяло, несколько вороньих перьев, обильно валявшихся под липами, ну и, конечно, красная акварель или гуашь, чтобы окончательно стать дикарем. А за ней надо идти к Тае. И это было счастьем!
– Эх, ты Одинокий Теленок! – Людмила Ивановна потрепала Кокотова по голове с мягким превосходством женщины, обладающей, в отличие от напарника, верным и любящим спутником жизни. – Выкинь ее из головы! Она нехорошая.
– Почему?
– Потому!
И воспитательница с трудно дающимся огорчением рассказала, как вечера вечером к Та е на красной «трешке» приезжал патлатый парень с огромным букетом сирени, а укатил, как подтвердили за завтраком незаинтересованные наблюдатели, только сегодня утром.
– Ты куда, Андрей? – только и успела крикнуть она.
В изостудии Та и не оказалось. Он поднялся в мансарду, постучал.
– Кто там еще? – весело отозвалась художница.
– Я… – Он вошел.
На закрытом этюднике стояла трехлитровая банка с огромным лиловым букетом. В комнате тяжело пахло сиренью и еще каким-то странным, не совсем табачным дымом. Взъерошенная постель хранила очевидные следы любовного двоеборья. На девушке была длинная голубая майка. Та я безмятежно улыбалась, глаза ее горели, как два туманных огня.
– Ой, Андрюша! Привет! – она бросилась к нему и поцеловала в щеку. – Тебе чего?
Движения у нее тоже были странные, какие-то угловатые, неуверенные.
– Мне… я… Мне краска нужна… Красная или коричневая…
– Зачем?
– Для карнавала.
– А ты кем хочешь нарядиться?
– Я? Одиноким Бизоном.
– Кем? – Она захохотала и, согнувшись от смеха пополам, повалилась на кровать, задергав голыми ногами.
Трусиков под майкой не было, и ее тело открылось так, что стала видна тайная лисья рыжина, отчего у Кокотова в голове запрыгали малюсенькие и беспомощные шаровые молнии.
– Бизоном?! Ой, не могу… Одиноким!! Помогите!
– А кем? – оторопел Кокотов, не сводя глаз с ее наготы.
– Кем? – Она, спохватившись, одернула майку. – Ну хотя бы хиппи…
– Почему хиппи?
– Потому что это – люди! Отвернись!
Он послушно отвернулся, по шорохам воображая, что же происходит у него за спиной.
– Повернись! Вот, бери! – Она была уже в джинсах и протягивала ему свою майку «Make love not war!». – А еще мы сделаем вот что… – Та я метнулась по комнате, схватила ножницы, вырезала полоску ватмана и написала на ней кисточкой «Hippy» – потом слепила концы клеем так, что получилось что-то наподобие теннисной повязки. – Вот! Та к хорошо! Тебе идет! – сказала она, нацепив бумажную ленту ему на голову. – А теперь иди, иди, маленький! Не мешай! Мне хорошо…
– Я не уйду.
– Ну, пожалуйста!
– Нет. Кто у тебя был?
– Вот ты какой?! – Ее вдруг затрясло от ярости. – Пошел вон!
…Кокотов брел по лагерю, как слепой по знакомой улице. В ледяном небе горело жестокое июньское солнце. Жизнь была кончена. А горн с бодрой металлической хрипотцой звал пионеров восстать от здорового послеобеденного сна…
25. Как Кокотов не стал узником совести
– Ну? – спросил режиссер.
– Что? – Писатель очнулся и сообразил, что все это долгое воспоминание о Та е на самом деле было мгновенным, как укол стенокардии.
– Работать будем или глазки строить?
– Работать.
– Отлично. Та к за что на вас наехали из КГБ?
– Я нарядился хиппи… на карнавал. Глупо, конечно…
– Не скажите! Конечно, хиппи уже выдыхались… Хотя, впрочем, что-то мы тогда набедокурили. Какую-то демонстрацию в Москве учудили. Я-то не пошел. С девушкой залежался.
– А вы тоже были хиппи? – с удивлением спросил Кокотов.
– Разумеется! Как говаривал Сен-Жон Перс, кто не глупит в молодости, тот не мудрит в старости. А как вас вызвали в КГБ? Расскажите! Скрутили, привезли на Лубянку? Да? Били? Хорошо бы!
– Никто меня не скручивал и не бил. Просто вызвали к Зэка. Примчался Ник-ник, испуганный, и кричит:
«Скорее, скорее!» – а сам глаза в сторону отводит. Я побежал. Вижу: у административного корпуса черная «волга» стоит. Ну, подумал, Сергей Иванович снова к Зое приехал. Соскучился…
– Какой Сергей Иванович? – живо заинтересовался Жарынин.
– Не важно. Те м более что это был не он. Зэка сидела за своим директорским столом, но сидела как-то странно – не начальственно: молчала и сцепляла в змейку канцелярские скрепки. Она так всегда делала, когда сердилась. Цепочка была уже довольно длинная. А за приставным столом устроился крепкий стриженый мужик лет тридцати. Белая рубашка с короткими рукавами. Галстук. Лицо совершенно не запоминающееся. Только вот стрижка его мне сразу не понравилась: короткая, как у военного, но стильная, как у гражданского пижона.
– Да, опасная стрижка! Когда меня из-за «Плавней» в «контору» таскали, я тоже обратил внимание, какие они там все аккуратненькие. Поэтому и империю сдали так бездарно! Аккуратисты должны работать в аптеке, а не в тайной полиции.
– Я могу продолжать? – с тихим раздражением поинтересовался Кокотов.
– Да, конечно, коллега! Извините – увлекся…
– На стуле висел его пиджак, явно заграничный, не дешевый, светло-серый с перламутром…
– Финский. Точно! У них все отлажено было – им обязательно звонили из универмага, если импорт приходил. А мы еще удивляемся, что кагэбэшники вместо того, чтобы государство спасать, в бизнес ломанули. Променяли, подлецы, первородство державохранительства на чечевичную похлебку крышевания. Вы вспомните генерала Калугина! Государство, которое дозволяет человеку с такой рожей работать в органах, обречено! Вот был у меня одноклассник… – начал распространяться Жарынин, но, перехватив укоризненный взгляд соавтора, по-детски приложил палец к губам. – Все. Молчок-волчок.
– …На столе перед ним лежала тонкая дерматиновая папка на молнии – такие выдают делегатам разных слетов и конференций. Увидев меня, Зэка нахмурилась и объявила:
– А вот и Кокотов!
– Присаживайтесь! – кивнул стриженый, не встав мне навстречу и не подав руки. – Вас как зовут?
– Андрей… – ответил я, осторожно устраиваясь на стуле.
– А отчество?
– Львович.
– Я так почему-то и думал.
– Но можно и без отчества.
– Нельзя! – Он посмотрел на меня с обрекающей улыбкой. – Нельзя вам теперь, Андрей Львович, без отчества! Никак нельзя. Вы ведь, кажется, студент второго курса педагогического института имени Крупской?
– Третьего… на третий перешел…
– А я сотрудник Комитета государственной безопасности. Ларичев Михаил Борисович. – Он вынул из нагрудного кармана удостоверение и раскрыл: на снимке стриженый был одет по форме, а выражение лица, остановленное фотографом, такое… понимаете… равнодушно-карательное.
– Еще как понимаю!
– Я даже, знаете… – Кокотов замялся, сомневаясь, стоит ли рассказывать ехидному соавтору неловкую подробность, но потом все-таки решился, ради искусства. – Я, знаете ли, чуть не описался со страха… Я раньше думал, это просто образное выражение, гипербола… Нет, не гипербола!
– Конечно не гипербола! Это жестокая реальность. «О Русь моя, жена моя до гроба…» Но кто не изменял жене? Гражданин должен трепетать перед Родиной, как блудливый муж перед верной и строгой супругой… Иначе – крах.
– Это снова Сен-Жон Перс? – ядовито спросил Кокотов.
– Нет, это мои личные соображения… – скромно улыбнулся Жарынин.
– Я могу продолжать?
– Конечно!
– Ларичев, понятно, заметил мое смятение. Он был доволен и долго рассматривал меня с какой-то добродушной брезгливостью.
– Наверное, мне лучше выйти… чтобы вы могли спокойно поговорить? – вдруг предложила Зэка и собрала «змейку» в комок.
– Да нет уж! Раз это случилось в вашем лагере, останьтесь, пожалуйста! – холодно попросил Михаил Борисович, нажимая на слово «вашем».
– А что случилось? – спросил я мертвым голосом.
– Не догадываетесь? – Он звучно открыл молнию и вынул из делегатской папочки большую фотографию, судя по отодранным уголкам, приклеенную, а потом сорванную. – Это вы?
– Где?
– Вот! – он постучал пальцем по моему лицу.
– А говорили, пальцем не тронули! – покачал головой Жарынин.
– Нет, он постучал по снимку, сделанному нашим лагерным фотографом Женей во время карнавала. В центре стояла Людмила Ивановна, одетая атаманшей, рядом с ней я – в майке с надписью «Make love not war». На лбу у меня красовалась бумажная лента со словом «Нippy». За нами толпился первый отряд, изображавший шумную пиратскую ватагу. Сзади виднелись Таины уши, поднимавшиеся над пионерской толпой…
– Простите, Андрей Львович, запямятовал: Тая – это девушка, с которой у вас, пардон, было?
– Да.
– А уши?
– Забыл! Она в последний момент сделала себе из ватмана длинные заячьи уши. Очень смешные…
– Понятно. Веселая девушка.
– Та к это вы или не вы? – повторил вопрос Михаил Борисович.
– Я… – ответил я.
– Выходит, вы, Андрей Львович, у нас хиппи?
– В каком смысле?
– В прямом. Состоите в организации хиппи, так или нет? И врать не надо!
– Он комсомолец, – хмуро вставила Зэка.
– «Молодую гвардию» фашистам тоже комсомолец сдал! – понимающе усмехнулся Ларичев. – Кто еще входит в вашу организацию?
– Никто.
– Та к не бывает!
– Я не хиппи! – пролепетал я, наконец сообразив, в какую жуткую историю попал. – Это же просто карнавальный костюм…
– Странный выбор для пионерского карнавала! Не находите? Майка ваша? Отвечайте!
– Майка… Майка… – Кокотов решил не говорить соавтору, что со страха готов был выдать Таю, но в этот самый момент Зэка уронила на стол металлическую змейку, которую во время разговора пересыпала с ладони на ладонь. Вздрогнув от звука, Андрей глянул на директрису и увидел, как она чуть заметно покачала головой.
– Та к чья это майка? – повторил Ларичев. – Ваша?
– Нет…
– А чья?
– Нашел…
– Да что вы! И где же?
– На Оке.
– Что вы там делали?
– Пионера искал.
– В каком смысле? Что вы мне голову морочите! – Михаил Борисович начал сердиться.
– Дети иногда, очень редко, убегают на реку купаться, так сказать, в индивидуальном порядке. Мы это решительно пресекаем! – спокойно разъяснила Зэка. – А на берегу туристы часто вещи забывают. После пикников…
Ларичев посмотрел на директрису долгим взглядом.
– Допустим, майку вы нашли. А вот эту полоску на лбу тоже нашли? – он снова постучал пальцем по фотографии.
Ища подсказки, я посмотрел на Зэка, но ее лицо было непроницаемо, как у человека, сидящего в президиуме.
– Полоска эта моя… – сознался я, не в силах ничего придумать..
– Все-таки ва-аша! – сочувственно кивнул чекист. – И это слово вы сами написали?
– Сам…
– Тогда я вас, Андрей Львович, снова спрашиваю: почему вы нарядились именно хиппи? Вот это кто? – он ткнул в Людмилу Ивановну, изображенную на снимке.
– Выглядела, она, кстати, уморительно! – улыбнулся Андрей Львович. – Глаз закрыт черной повязкой, на груди переходящий красный вымпел «За образцовую уборку территории», а на голове белая курортная шляпа с бахромой. Помните, в Сочи такие продавались?
– Помню, – кивнул Жарынин. – Грузинские цеховики их строчили.
– Это кто? – повторил чекист.
– Это – воспитатель первого отряда Шоркина, между прочим, отличник народного образования, – голосом, каким в телефоне сообщают точное время, ответила вместо меня директриса.
– Вижу, что отличница! – кивнул Ларичев. – И на карнавал оделась, как положено нормальному советскому человеку. Пираткой! Никаких вопросов к гражданке Шоркиной у меня нет. А вот почему вы, Кокотов, в хиппи нарядились? Почему?
– Потому что хиппи – это вызов буржуазному обществу, протест против лживой морали мира чистогана! – выпалил я то, что прочел недавно, кажется, в «Комсомольской правде» или в «Студенческом меридиане». – Я хотел морально поддержать передовую молодежь Запада. Понимаете?..
– Понимаю! – ухмыльнулся Михаил Борисович. – Give the world a chance! Так?
– Ага…
– А это кто? – профессионально чуя что-то, он показал пальцем на торчащие уши Таи.
– Это наша художница. Таисия Носик. Выпускница полиграфического института. Комсомолка. И поверьте, в подпольной организации зайцев она не состоит… – ответила Зэка все тем же телефонным голосом, но с еле уловимой иронией.
– А я, не удержавшись, хрюкнул от смеха. Нет, не из-за подпольной организации зайцев. Из-за Таиной фамилии. Я ее не знал. Мне вдруг стало легче оттого, что женщину, которая выгнала меня вон, зовут Носик… Представляете, Та я Носик! Сергей Борисович вдруг тоже захохотал, приговаривая: «Подпольная организация зайцев. Ну, скажете тоже! Ну, вы даете!» Смеялся он долго, даже достал платок, чтобы вытереть выступившие слезы. Наконец чекист успокоился, посерьезнел, посмотрел на меня в упор покрасневшими глазами и приказал:
– Руки покажите!
– Что?
Он неожиданно и больно схватил меня за запястья и вывернул так, чтобы видны были внутренние локтевые сгибы.
– Вены проверял! – радостно закивал Жарынин.
– Конечно! Но я тогда ничего не понял. Я вообще тогда этого не знал. Я догадался, что Та я со своим Данькой курила траву, только много лет спустя, когда сам попробовал…
– Ну и как вам, кстати? – полюбопытствовал режиссер.
– Кошмар! Голова потом неделю трещала…
– Андрей Львович! – вдруг со зловещей теплотой спросил Ларичев. – Вы хотите закончить институт?
– Хочу… – похолодел я.
– Тогда скажите правду! Последний раз вам предлагаю!
Я снова поглядел на Зэка. Но ее лицо было скорбно непроницаемо.
– Я сказал правду… – словно откуда-то из пространства прозвучал мой обреченный ответ.
– Ладно, Кокотов, идите! – устало махнул рукой Михаил Борисович. – И не наряжайтесь больше хиппи! Никогда. Поняли?
– Понял.
– Шагайте! А мы тут с Зоей Константиновной о зайцах побеседуем.
Я ушел…
– И это все? – разочарованно спросил Жарынин.
– Конечно нет. Когда Ларичев уехал, Зэка меня снова вызвала, металась по кабинету, кричала, почти плакала, говорила, что я чуть не погубил свою молодую жизнь. А она из-за меня и этой рыжей дурочки Носик, путающейся с патлатыми негодяями, чуть не лишилась партбилета. Потом директриса успокоилась, села и объяснила, что благодарить надо, конечно, Сергея Ивановича, он позвонил буквально за десять минут до появления чекиста и предупредил об опасности, даже подсказал, как в такой ситуации следует себя вести. И объяснил, что произошло.
А случилось вот что: фотографии карнавала, сделанные Женей, отправили в министерство, а там из них, как водится, слепили стенгазету типа «Здравствуй, лето, здравствуй, солнце!» и вывесили возле профкома. Родители хо– дят мимо, смотрят, радуются, как их детишки весело отдыхают. И все бы ничего, а тут, будто на грех, в Москве хиппи провели или только собирались провести демонстрацию с политическими лозунгами. Демонстрацию, конечно, прихлопнули в зародыше. Но следом, буквально на другой день, от передозировки икнул хиппующий внук охренительного начальника, чуть ли не члена Политбюро. Вот тогда и завертелось: постановили «покончить с отдельными нездоровыми явлениями в молодежной среде», подняли на ноги КГБ, милицию, добровольные народные дружины. А теперь вообразите, что мог подумать мирный министерский особист, увидав в стенгазете вверенного ему учреждения фотографию самого настоящего, живого хиппи, свившего себе гнездо в детском учреждении? Караул!
– Ну, ты все понял теперь, хиппи? – спросила Зэка, мягко потрепав меня по волосам.
– Понял…
– Ты извини, что я тогда тебе про человека в метро не поверила! Кстати, если хочешь, можешь и на следующую смену остаться – поработать. У тебя какие планы?
– Никаких.
– Оставайся! Я тебе даже немного зарплату прибавлю, как ветерану педагогического труда, – она улыбнулась.
– А Та я останется? – спросил я.
– Нет, не останется. Выбрось ее из головы! Андрей, ты хороший, честный мальчик. Эта девица не для тебя. Поверь! Она уже уехала.
– Как уехала?
– Я ее уволила. По собственному желанию. Вчерашним днем. Кстати, во вторую смену на четвертом отряде будет работать твоя однокурсница. Обиход. Елена. Знаешь такую?
– Знаю.
– Остаешься?
– Спасибо, – кивнул я, – остаюсь…
– Молодец! Но волосы постриги! – Она снова потрепала меня по голове, на этот раз повелительно. – Немедленно!
– Да, тогда и нас сильно тряханули! Я даже постригся с перепуга! – Жарынин с мукой на лице показал двумя пальцами, как срезал любовно отращенные лохмы.
– А я вот иногда думаю, – задумчиво проговорил Кокотов, – если бы не Зэка, меня могли ведь серьезно прихватить, исключить из института, даже, например, посадить…
– Ну нет, сажать вас было не за что! Но анкету подпортить могли…
– Не скажите! – возразил Кокотов, которому почему-то очень дорога была мысль о том, что его могли посадить. – После тюрьмы я бы стал диссидентом, как Солженицын. Моя творческая судьба могла сложиться совсем по-другому…
– Нет, диссидентом вы бы никогда не стали!
– Почему же это? – обиделся писатель.
– А вы помните, что говорил о диссидентах Сен-Жон Перс?
– А он и о них говорил?
– Конечно! Он сказал: диссидент – это человек с платным чувством справедливости. А вы, коллега, не такой. Я в людях разбираюсь. К тому же творческая судьба, особенно посмертная, зависит совершенно от другого…
– От чего?
– От вдовы, например. Когда будете жениться в следующий раз, обязательно имейте это в виду!
– Вы преувеличиваете!
– Нисколько. Вам знакомо имя Григорий Пургач?
– Еще бы! Оно всем знакомо. Когда я бываю в Союзе писателей, на Поварской, всегда прохожу мимо его памятника в скверике возле Театра киноактера, рядом с домом, где живет Михалков. Ну, знаете?
– Вы меня об этом спрашиваете? Я даже был на открытии этого памятника.
– А я один раз выпивал с Пургачом! – гордо доложил Кокотов.
– Неправда! Вы не могли с ним выпивать! – строго возразил Жарынин. – Он умер, когда вы были еще страшно далеки от творческих сфер.
– Я выпивал, конечно, не с самим Пургачом, – сознался писатель, – а с памятником…
– Это другое дело! А вот мне посчастливилось выпивать не с памятником, а с живым Пургачом!
– Не может быть!
– Да, коллега, да! Вы хоть знаете, как и с чьей помощью Гриша из обыкновенного пьющего актеришки превратился в гиганта, в бронзовую легенду эпохи?
– Нет, не знаю…
– Тогда слушайте!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








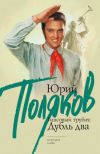

![Книга Слепой Агент [Последний долг, Золотой поезд] автора Сергей Майоров](/books_files/covers/thumbs_100/slepoy-agent-posledniy-dolg-zolotoy-poezd-7272.jpg)





























