Текст книги "Слишком поздно"
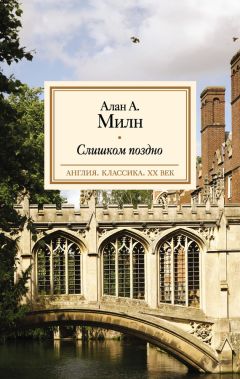
Автор книги: Алан Милн
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 20 страниц)
Один кембриджский приятель пригласил меня погостить у него несколько дней после Рождества, и я с удовольствием согласился, хотя и слышал, что среди развлечений намечается любительская театральная постановка. Я думал, мы будем выступать перед небольшой компанией друзей в гостиной, причем мне, как всегда, достанется роль без слов. В этой области мой репертуар был практически неограничен, поскольку мне уже приходилось играть таких несхожих персонажей, как мартышка и древнегреческая девушка. Возможно, мне поручат написать текст для других исполнителей или сочинить стихи для домашней пантомимы. В крайнем случае я буду работать суфлером или помогу перетаскивать декорации.
Чудовищным потрясением стало открытие, что для нашей постановки взят в аренду большой зал ратуши города Ипсуича, постановка включает три пьесы, и в одной из них мне предназначена вполне серьезная роль раненого героя.
Несколько лет спустя я написал для «Панча» серию «Маленьких пьес для любительского театра». Та пьеса в серию вполне вписывалась. Герой мог быть на выбор – французом во времена Франко-прусской войны, круглоголовым во время Английской революции или южанином в войне Севера с Югом. Раненный в бою, он с трудом добирается до дома своей возлюбленной, а там – сюрприз! – расквартирован немец, или роялист, или северянин. И не только расквартирован, а еще и пристает к героине с неподобающими знаками внимания. За такую роль берешься в полной уверенности, что ты будешь главным героем, и вдруг в ходе центральной сцены выясняется, что на самом деле герой – твой соперник. Он произносит возвышенные монологи, жертвуя воинским долгом и собственными чувствами ради безответной любви. Я-то был не прочь пребывать на заднем плане, раз уж нельзя отсидеться дома. Поскольку меня тяжело ранили, у нас с героиней происходило бурное объяснение на полу, причем моя голова находилась между огнями рампы, а в такой позиции нелегко вспомнить длинную речь, описывающую мои переживания во время битвы при Седане. Во всяком случае, я старался. Одна строчка навсегда врезалась в память: «Всю долгую ночь напролет я думал о тебе». Героиня погладила меня по голове, отодвинув ее подальше от прожектора. Жаль, не помню, как выглядела та девушка. Я повторил: «Всю долгую ночь напролет я думал о вас… о тебе», – гадая, что же делать дальше. Положение спас немецкий полковник. Не дождавшись нужной реплики, он вышел на сцену и сурово сообщил, что я его пленник, после чего оставил нас наедине. Впору отчаяться, но тут выяснилось, что еще не все потеряно: имеется потайной ход, где мы с героиней играли детьми. Героиня помогла мне подняться на ноги, и мы сыграли трогательную сцену прощания. «Всю долгую ночь напролет…» – завел было я, но девушка очень спешила. «Скорее, скорее! – вскричала она. – Тебе нужно уходить!» Она привела меня к хитро замаскированной дверке. Со словами «Прощай, любимая!» я распахнул дверь и попал в объятия полковника. Он все знал и подкараулил меня на пути к спасению. Полковник кратко объявил, что я по-прежнему его пленник, и снова нас оставил. Положение казалось безнадежным. В любой другой пьесе так оно и было бы, но мы, к счастью, вспомнили, что есть еще и другой потайной ход – там мы тоже играли в детстве. Вторая прощальная сцена прошла веселее. Меня воодушевляло сознание, что через пять минут я смогу навсегда уйти со сцены, а в следующем триместре буду редактировать «Гранту». С криком «Прощай, любимая!» я распахнул дверь и вновь оказался в объятиях полковника. Он буквально все предусмотрел; как с таким бороться? Я вдруг тоскливо вспомнил, что в программе еще один спектакль. Тут полковник вышел на середину и произнес пламенную самоотверженную речь, возвращая мне крошку Рене и свободу. А я хотел только одного – уехать наконец из Ипсуича.
Но и в Ипсуиче можно готовиться к предстоящему триместру. В тишине своей комнаты, забыв ненадолго о Франко-прусской войне, я написал балладу. Вот ее начало:
Мэри, ах, Мэри, в далекой стране
Думал я о тебе, думай ты обо мне!
Он думал о них, а они о тебе,
О нашей с тобою печальной судьбе.
Всю долгую ночь напролет я думал о Мэри и к утру закончил свое первое произведение для новой «Гранты». Сам в качестве редактора рассмотрел его и одобрил. Так началась моя редакторская деятельность.
3По обычаю в первый день триместра студенты встречались со своим куратором. Он произносил приветственную речь и сообщал о возможных изменениях в правилах университета или колледжа. В первый день весеннего триместра 1902 года куратор закончил традиционную вступительную речь словами:
– Все, джентльмены, благодарю вас. Мистер Милн, задержитесь, пожалуйста.
Все разошлись, недоумевая, что я такого сделал. Я тоже терялся в догадках.
Куратор мне объяснил. Разговор шел примерно так:
– Я слышал, в этом триместре вы намерены редактировать «Гранту»?
– Да.
– Нельзя.
– Почему?
– Вам не следовало брать на себя подобные обязательства, не спросив у меня разрешения.
– Ох. – Ладно, спрошу. – А можно?
– Если бы вы сразу ко мне обратились, я бы, несомненно, запретил.
– Но почему?
– Вы математик…
– Э-э…
– Чтобы вы могли заниматься математикой, колледж платит вам стипендию.
– Не слишком большую.
– Судя по отзывам преподавателей, вам и так следует больше трудиться, чтобы получить нужную степень. И в такой момент вы взваливаете на себя совершенно постороннюю работу…
– Я всю жизнь мечтал редактировать «Гранту».
– Предупреждаю: руководство колледжа может и перестать выплачивать вам те суммы, которые…
– Я не могу иначе. Я всю жизнь мечтал.
Долгая пауза. Вид у меня совсем не героический, а скорее упрямый, обиженный и смущенный.
– Пусть лучше не платят стипендию, – мямлю я.
– Так вы считаете, что сможете редактировать «Гранту» и в то же время добросовестно учиться?
– Сколько часов в день будет добросовестно?
– Я бы сказал, не менее шести, если вы хотите стать настоящим ученым.
– Хорошо. Значит, шесть.
– Что ж, отлично. Каждую неделю будете представлять мне отчет о проделанной работе.
На том и порешили. Забавно – «работой» называли те нудные мучительные часы, когда я ничего не писал.
В каждом еженедельном выпуске «Гранты» присутствовали следующие рубрики: редакционная статья, «Пестрые заметки», «Наше руководство» (биографические очерки о ведущих деятелях Кембриджа), «Новости студенческой жизни», «Театральные записки» и репортажи о спортивных соревнованиях. Все оставшееся место занимали «юмористические» стихи и рассказы.
«Новости студенческой жизни» и спортивные новости поставляли наши специальные корреспонденты. По традиции, им за это полагалось два фунта в месяц. По другой, не менее устоявшейся традиции они за этими деньгами никогда не обращались и никогда их не получали. В мое время традиции свято соблюдались, только однажды некий футболист потребовал свое вознаграждение, которое я и выплатил, стараясь сохранить хорошую мину. Представители руководства сами выбирали биографов. Исключением стал Эдуард Седьмой – в майском номере журнала я его причислил к университетскому руководству как попечителя Кембриджского университетского театра.
«О ранних годах его жизни почти ничего не известно, – писал я. – Предполагают, что он уже тогда проявлял ту любовь к драме, которая позднее сделала его президентом, а впоследствии попечителем университетского театра. По имеющимся сведениям, в тот период он частенько выступал перед двором и ее величеством королевой, меж тем как принцесса Уэльская впервые увидела его в 1862 году в роли Первого джентльмена. Эту роль он с блеском играл всю жизнь».
Я хотел отправить ему специально отпечатанный экземпляр, но помешали лень и недостаток средств.
Одна из привилегий редакторской должности – бесплатное посещение театра. Уже тогда я понимал, что театральному критику требуются не выдающиеся знания, а исключительно энтузиазм и что у человека, в первую же свою субботу в Кембридже посмотревшего «Красотку из Нью-Йорка» дважды, энтузиазма более чем достаточно. Оказалось, впрочем, что директор Нового театра хочет не только энтузиазма, а еще и твердого обещания, что отзывы о его постановках будут более тактичными, чем они были до сих пор. Безусловно, директор театра не обязан давать мне или кому-нибудь другому контрамарки, если не видит в этом пользы для дела – равно как и я волен сам покупать билеты и критиковать его спектакли, если считаю, что это пойдет на пользу театральному искусству. Как я с большим достоинством объяснил читателям в следующем номере «Гранты», подобная месть, «хотя на первый взгляд обойдется дороже, фактически будет отдавать дешевкой». А потому рубрика театральных новостей из газеты исчезла.
Как правило, редактор писал передовицу и «Пестрые заметки», а шутки брал из редакционной почты. Я придерживался, как думаю сейчас, ошибочного взгляда, что публикации достойны лишь такие произведения, под которыми я не постыдился бы поставить свои инициалы. Нетрудно догадаться, учитывая свойства человеческой природы и в особенности природы писательской, что в результате я от других авторов не брал ничего. Если для завершения номера не хватало одного стихотворения и «Ода к моему портному» пера Икс-Игрек-Зет могла идеально заполнить свободное пространство, я невольно задумывался, не мог ли бы сам заполнить это пространство куда лучше, не виси надо мною долг посвятить ближайшие два часа электродинамике. Естественно, в подобных случаях человек склонен преувеличивать собственные возможности. Отодвинув «Электродинамику» Лоуни в сторонку и покусывая карандаш, я перебирал бродившие в голове идеи, и три часа спустя в моем распоряжении были стихи за подписью А-Бэ-Цэ, куда милее моему сердцу, чем творение Икс-Игрек-Зет. Не сомневаюсь, что новые стихи были лучше прежних исключительно в моих глазах, но чье же еще мнение принимать в расчет редактору? Я ложился спать, сделав мысленную пометку: завтра нужно заниматься математикой восемнадцать часов, чтобы наверстать отставание. Жизнь моя была полна.
В первом номере газеты я начал серию диалогов, продолжавшуюся целый триместр. Ее можно назвать предтечей (если столь торжественное определение применимо к столь легкомысленному предмету) серии под названием «Кролики», появившейся позднее в «Панче». Я бы не хотел перечитывать сейчас «Кроликов», но мог бы сделать это без чувства стыда, а вот те ранние диалоги не только вгоняют меня в краску, но и наполняют глубочайшим изумлением: как из этого могло хоть что-нибудь получиться? А ведь получилось. Благодаря им я не посвятил себя правительственной службе, преподаванию, бухгалтерскому делу и прочим профессиям, которые мог бы избрать, а предпочел им всем профессию писателя.
4Это случилось на первой неделе следующего триместра. Ничего не подозревая, я вскрыл письмо, адресованное редактору «Гранты». Письмо было от Р. Ч. Лемана, ее основателя, бывшего главного редактора, а ныне вот уже несколько лет сотрудника журнала «Панч». Он хотел узнать, кто автор ряда диалогов, о которых он, «как и многие другие в Лондоне, весьма высокого мнения»; возможно, если автора это заинтересует, «ему будет предложена работа в том же роде». Я назвал ему свое имя.
Нынешним студентам трудно представить, с каким волнением я прочел это письмо. Не забывайте, в те дни университетскую жизнь не освещали в прессе. Студентов не приглашали сообщить миллиону домохозяек из пригородов, что неладно в Оксфорде и почему они отвергают религию. Студенты соприкасались с широкой лондонской общественностью только в день лодочных гонок, когда представитель городского управления отчитывал их за беспорядки и объяснял, как нужно себя вести. Лондон не интересовало, «о чем думают современные молодые люди». Безусловно, молодежь получит свое, но по традиции спешить с этим незачем. Вот когда отрастят бороду и будут уже не совсем молодежью, тогда дело другое.
У меня бороды не было – в конце концов, двадцать лет! – но обо мне заговорили в Лондоне!.. От этой мысли захватывало дух. Такой новостью можно поделиться только с одним человеком на свете. Я сразу же написал Кену.
Как легко идти по жизни, заводить друзей, врагов, просто знакомых в непоколебимой уверенности, что важна только твоя сторона уравнения. Я познакомился со Смитом, Смит мне понравился, вот и все, что можно сказать о Смите. Я познакомился с Джонсом, Джонс мне противен, и хватит о Джонсе. А как они ко мне относятся? Это их личное дело, однако почему-то я убежден, что их чувства не столь сильны и взвешенны, как мои. В чем причина – в том, что другие чувствуют не так глубоко, как я, или в том, что я меньше других достоин внимания? Я не нашел ответа на этот вопрос. А ответ, как всегда, кроется в мешанине комплексов, самомнения, смирения, ложного смирения и тщеславия, из которых и состоит современный человек.
В детстве и юности, если я в чем-нибудь завидовал Кену, то всегда старался «не подавать виду», не догадываясь, что он старается делать то же самое по отношению ко мне. Да ему и стараться было не надо – в отличие от меня, он не придавал большого значения нашему соперничеству. Я почти убедил себя, будто он и не подозревает о нашем соперничестве и о том, что я в очередной раз его обошел. Разве можно обидеть человека, который не обижается? Все эти маленькие «победы» и «поражения» значили для него не больше, чем выигрыш или проигрыш в настольную игру «Разори соседа».
Я ошибался. Кен в ответном письме поздравил меня с успехом. Лучший друг не мог бы радоваться за меня больше, преданная возлюбленная – так безоглядно осыпать комплиментами. А потом он впервые заговорил о нашем давнем соперничестве:
«Все, на что я был способен, ты делал лучше или достигал раньше… Так случалось постоянно. И все-таки я говорил себе: есть кое-что исключительно мое. В нашей семье писатель – я. Теперь ты отнял и это. Черт побери, придется, видно, тебя простить. Я ранен был, но не упал![26]26
Строка из стихотворения Уильяма Хенли «Invictus»; в таком переводе звучит в фильме «Непокоренный».
[Закрыть] У меня новый фрак, и дьявол с тобой. Через силу твой – Кен».
За всю жизнь мы с Кеном ни разу не отступились друг от друга. Время многое украло, одного отнять не властно!
5За первым письмом Руди Лемана последовало предложение написать серию миниатюр для «Панча». Самой собой, я не мог приступить к работе до окончания триместра, да и потом результаты были не обнадеживающие. Никто не сказал мне, глядя на экземпляр «Панча»: «Когда-нибудь ты станешь его редактором». Вот если бы кто-нибудь так сказал, я наверняка ответил бы: «Стану». Хотя редактор редактору рознь. Полдюжины моих зарисовок долго путешествовали от меня к помощнику главного редактора Оуэну Симану, пока наконец он их одобрил. В начале октября статьи поступили к редактору Бернанду, и дело заглохло на полгода. В мае я робко поинтересовался у Руди, что с моими статьями. Он написал Бернанду. Тот ответил, что в последнее время очень занят автобиографией и не успел рассмотреть их с тем вниманием, какого они заслуживают, но в ближайшие выходные он поедет в Рамсгит и надеется почитать в поезде. Руди подождал еще месяц-другой (в поезде Бернанд встретил знакомого и отвлекся), потом забрал мои статьи и отправил их в только что созданный журнал под названием «Джон Буль», заявивший себя как соперника «Панча». Там редактор оказался более энергичным и сразу одобрил серию, но финансовые дела они вели так же лихо, и газета немедленно обанкротилась – я так и не узнал, успела ли выйти хоть одна моя миниатюра.
В то время, о котором я сейчас пишу, все это было еще в туманном будущем. Начался второй триместр моего редакторства, и за мной скопилось примерно сто часов долга по математике. С огромной неохотой я совершил мудрый поступок – взял себе заместителя по имени Вер Ходж и свалил на него всю рутину. Редакционные статьи лились из-под его пера, как мне и не снилось. Он был способен заполнить текстом любой объем журнальной площади. Вдвоем мы обеспечивали все нужды «Гранты». Я писал то, что хотел и на что хватало времени, а заместителю предоставлял заполнять свободное место. Очень может быть, он тоже считал, что пишет то, что хочет, а мне оставляет свободное место. Какая разница? Мы были счастливы, и в газете не оставалось пустых мест. Ходж был студентом-гуманитарием, так что нас теперь окружал легкий аромат культуры.
6В августе мы с Кеном поехали в Озерный край и сняли небольшой домик в Сиуэйте, решив заняться скалолазанием. Ничего об этом деле не зная, мы купили веревку, башмаки с шипами и стандартное руководство Оуэна Глинн-Джонса. Скалы в этой книге делились по категориям: легкая, средней сложности, умеренно сложная и повышенной сложности. Мы решили начать с умеренно сложной и присмотрели себе скалу Напская Игла на склоне горы Грейт-Гейбл. Вся прелесть в том, что на открытках эта вершина производит впечатление «повышенной сложности». В руках умелого фотографа, отделенная от контекста, она превращается в грандиозный пик, возносящийся на тысячу футов над бездной. Связавшись веревкой, раз уж так принято по этикету, мы с Кеном прогуляемся на этот могучий пик и разошлем родным открытки.
Поначалу мы слегка стеснялись веревки. На первых порах мы несли ее, небрежно перекинув через руку, как будто только что ее нашли и вот разыскиваем владельца… Затем более сурово переложили ее в другую руку, словно бы намереваясь спуститься в колодец, куда упал какой-то незадачливый путник. Лишь бы только не приняли нас за то, чем мы и были на самом деле: двое новичков, которых уверили, что с веревкой скалолазание становится менее опасным, хотя сами они твердо убеждены в обратном. К тому же веревка мешает. Забраться на вершину Иглы и так достаточно сложно, а если еще и тащить с собой веревку, сложность, несомненно, возрастет. Я ощущал все это еще острее, чем Кен, поскольку про себя заранее решил, что буду «ведущим». Мало того что в 1892 году я выиграл на соревнованиях по гимнастике среди учеников младше четырнадцати – по сравнению с Кеном моя жизнь теперь вовсе не имела значения. Кен совсем недавно обручился. Если ведущим буду я, мы, возможно, убьемся оба (тем более с этой кошмарной веревкой) или я разобьюсь один; в любом случае я просто не мог себе представить, как стану рассказывать невесте Кена о его гибели. Конечно, я был рад своему решению, но все-таки было бы приятнее, если бы помолвлен был я, а благородному решению радовался Кен.
Взобравшись до середины склона Грейт-Гейбл, мы достигли подножия Иглы. Вблизи это оказался огромный каменный клин, футов шестидесяти в высоту, по форме напоминающий остроугольную пирамиду с отломанной верхушкой. На крохотном плоском участке как раз уместились бы мы с Кеном (ну и, наверное, с веревкой). Мы уже тренировались в привязывании и сейчас тщательно привязались. Я ранее описывал, как однажды Кен меня поцеловал, но тут мы обошлись даже без торжественного рукопожатия. Я просто полез вверх, волоча веревкуза собой.
Говорят, преимущество Напской Иглы по сравнению с Маттерхорном заключается в том, что самая трудная часть подъема на самом деле неопасна, а самая опасная на самом деле нетрудна. Опасный участок, как и можно ожидать, расположен ближе к вершине. Вначале ползешь наискось по плоской грани камня, заклинив левую ногу от колена до щиколотки в трещине и подобно троллейбусу поднимаясь вслед за этой левой ногой. Если бы не моральная поддержка Кена, который выкрикивал мне вслед цитаты из руководства, утверждающего, что этот трудный процесс ничуть не опасен, я бы наверняка сдался. Действительно, моя левая нога намертво застряла в трещине – в этом я убедился, когда попробовал ею пошевелить, – а отдельно от ноги в пропасть при всем старании не свалишься, но все остальное мое туловище чувствовало себя ужасно беззащитным. Каждая клеточка буквально вопила: «Глупость это все, сидели бы лучше в Эссексе!» Внезапным рывком, опровергающим книжную премудрость, я высвободил ногу и передвинул ее вверх по трещине. Подобно Сарданапалу, «раб случайностей, игра любому вздору»[28]28
Из стихотворения Байрона «Сарданапал» (перевод Г. Шенгели).
[Закрыть], и в первую очередь раб собственного легкомыслия, я пыхтел, поднимаясь все выше (туда, откуда дальше падать). Наконец настал момент, когда продвигаться вперед стало уже невозможно. Бочком-бочком, с ногою в трещине и сердцем, застрявшим где-то в горле, я вернулся к Кену.
– Не выходит, прости.
– Глухо?
– Абсолютно. Это не так просто, как мы думали.
– Давай, я попробую?
В другой ситуации я наверняка сказал бы: «Ну знаешь, если я не смог, не сможешь и ты» или: «Да ты что! Подумай о Мод!». Но тогда я сказал: «Давай пробуй». Мне хотелось прилечь.
Вскоре Кен спустился обратно, и мы принялись изучать легкую категорию.
– И все-таки, – сказал Кен, оглядываясь на Иглу.
– Все-таки, – откликнулся я.
– Скажи: «Я могу».
– Я могу.
Мы встали.
– Может, я тебя снизу подтолкну?
– Слушай, а что веревка делает?
– Болтается.
– Это правильно?
– Ну я не знаю, что еще она может делать.
– Я тоже не знаю. Не нравится мне вид того опасного участка перед самой вершиной, а тебе?
– Может, когда мы туда доберемся, вид будет приятнее?
– Угу. Ладно, полезли. Черт возьми, не возвращаться же просто так с этой веревкой. Вперед!
На этот раз дело пошло чуть легче. Я чувствовал себя более похожим на трамвай, нежели на автобус[29]29
Намек на известный лимерик Мориса Хэра (1886–1967).
[Закрыть]. Добравшись до места, где застрял в прошлый раз, я дождался, пока рука Кена дотянется до моей пятки. При такой поддержке я выпрямил согнутую в колене левую ногу и ухватился рукой за выступ чуть повыше. Мы продолжали в таком духе, пока до трудного места не добрался Кен – к тому времени я был почти у цели. Вскоре мы сидели рядышком на скальном выступе, счастливо отдуваясь. «Трудный» участок остался позади.
Перед нами была отвесная скала, по форме напоминающая нижнюю часть равнобедренного треугольника, высотой около пятнадцати футов. Примерно на середине высоты шел узенький выступ. Оуэн Глинн-Джонс для тренировки подтягивался, уцепившись пальцами за край каминной полки (чем, наверное, доводил до исступления своих домашних). Вероятно, все настоящие скалолазы так делают. А нас, обычных туристов, в трудных случаях спасала взаимовыручка.
Совершая такой подъем, невозможно заблудиться. Каждая расщелина описана в книгах и руководствах, каждый уступчик отмечен шипованными ботинками тех, кто прошел здесь до тебя. До вершины мне оставалось найти одну опору для ноги и один выступ, чтобы ухватиться рукой, и я знал, где они расположены. Я сместился влево и заглянул за угол.
На левой отвесной грани пирамиды, чуть дальше, чем я мог достать рукой, торчал выступ, размерами и формой напоминающий половинку крикетного мяча. За него предлагалось ухватиться. Чуть дальше, чем можно дотянуться ногой, согнутой в колене, скала ненадолго приобретала наклон в сорок пять градусов, сразу же возвращаясь к вертикали. В этом месте предлагалось поставить ногу. По всей вероятности, именно этот участок и составляет все неповторимое очарование Напской Иглы для страстного любителя скалолазания. Для любителя менее страстного, каковым в ту минуту был я, все очарование опоры состоит в том, что на нее можно без опаски опереться, и поверхность ее должна располагаться под прямым углом к склону, на который взбираешься. Данная опора нужными свойствами не обладала. Можно ли положиться на собственные ногти (и Джонса)? Перенеся весь свой вес на эту скользкую, наклонную, исцарапанную шипами поверхность, пока рука нашарит тот крикетный мячик, исчезну ли я в пропасти, оставив Кена с мотком веревки в руках скорбеть об утерянном брате, или над краем верхнего среза скалы покажется мое торжествующее лицо? Вот в чем вопрос, и ответ можно узнать только одним способом. В конце концов, должен же быть какой-то толк в этих веревках, иначе зачем люди их с собой таскают? Если я упаду, то не дальше чем на тридцать футов. Нелепо бояться, что веревка перережет меня пополам. Никто никогда не слыхал, чтобы человека перерезало веревкой. Нет, я просто буду болтаться взад-вперед, уверяя Кена, что волноваться не о чем и что все вокруг забрызгано кровью просто потому, что я чуть-чуть ударился, пока падал. Затем я бодро вскарабкаюсь по веревке в безопасное место. Обычные повседневные мелочи жизни скалолаза. Все эти царапины на камне – всего лишь напоминание о том, как люди соскальзывали в пропасть и тут же весело выскакивали обратно. Без веревки они бы, конечно, разбились насмерть, ну а с веревкой подняться на скалу – просто детская игра. Или просто несусветная глупость?
А, была не была…
Так восхитительно было сидеть на вершине Иглы, болтать ногами и думать: «Победа!» Примерно раз в десять лет я вспоминаю: при огромном количестве всего, что я не могу, не умею, чего я не сделал в своей жизни, я все-таки поднялся на Напскую Иглу! То же самое совершили тысячи других людей, но они по крайней мере хоть что-то знали о скалолазании.
Через несколько дней мы совершили восхождение на Печную Трубу Керн-Коттс. Мой идеальный читатель в достаточной степени знаком с предметом, чтобы предположить, будто я имею в виду скалу Керн-Коттс. Если бы я поднялся на скалу, эта книга была бы совсем иной. Подъем на Печную Трубу всего лишь умеренной сложности. Сама Труба составляет второй этап подъема – это огромный качающийся камень. И на него каким-то образом нужно залезть. Наша вера в Джонса к тому времени могла бы… чуть не сказал «двигать горы», но в данном случае это не совсем удачная метафора. Если верить Джонсу, именно этот фрагмент горы не сдвинется с места, и мы верили. Однако покачивался он весьма угрожающе. Видно, мы еще не до конца овладели техникой лазания. Сидя у костра, мы обсуждали вопрос, будет ли неспортивно перекинуть веревку через валун и по ней подтянуться.
– Господи, да делай с этой веревкой что хочешь, – сказал Кен. – Для чего же она нужна?
– Значит, если ты забросишь лассо на верхушку Монумента и залезешь по веревке, то сможешь сказать, что покорил Монумент?
– Какая чушь! Так можно что угодно сказать.
– Например?
– Да что угодно, – ответил Кен, напряженно думая.
– Ну что?
– Ты согласишься, что можно становиться на плечи друг другу? Это будет по-честному, так?
– Да, конечно. Только ведь веревка…
– Значит, если у тебя есть друг ростом в четыреста семьдесят пять футов, и ты заберешься по его подтяжкам и встанешь ему на плечи…
– Да ну тебя! Давай сюда веревку.
Мы долезли до вершины. Возможно, за такие вещи выгоняют с позором из Клуба альпинистов. Не знаю.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































