Текст книги "Слишком поздно"
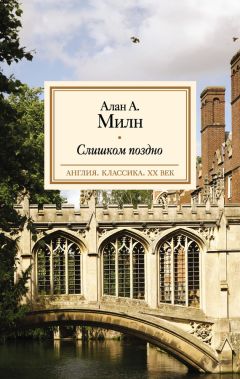
Автор книги: Алан Милн
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)
В общем и целом нам удавалось радоваться жизни, пусть и не всегда именно так, как от нас ожидали. На уроках математики мы теперь всегда сидели вместе с Кеном, занимая уголок комнаты, в которой учили остальных учеников, продвинувшихся не так далеко, как мы. Чтобы не мешать учителю разговорами, мы писали друг другу записки, а вернее – длинные письма, в которых подробно излагали планы на будущие каникулы. Чтобы было интереснее, мы пропускали каждое второе слово, а получатель должен был сам заполнить пустые места. Созвучие души и мыслей позволяло проделать такой фокус, хотя задача была не слишком легкой: общий смысл угадывался, а точно подобрать слово получалось не всегда. Затем, как когда-то на уроках французского, мы обменивались листками и поправляли друг другу ошибки. Иногда мы ограничивались только первыми буквами слов. Например, один спрашивал: «ПКСНП?» Это значило: «Пойдем к Саттсу на перемене»? На такое предложение следовал неизменный ответ: «Да». Кен, пошарив в карманах, приходил к выводу, что раз мы уже должны отцу пятнадцать шиллингов, с тем же успехом можем задолжать и шестнадцать.
Учиться в таком стиле было довольно приятно. Спортивные игры мы всегда любили, даже обязательные. Ученики колледжа в те дни не участвовали в матчах против старших отделений, зато имели честь играть со всеми остальными учениками («городские» против колледжа Квин). Правда, честь была чисто символическая, поскольку выступали мы без особого блеска. Как набрать команду, когда учеников всего сорок? Каждого, кто хоть немного отличался в спортивных играх, участвовать в них обязывало если не начальство, то сознание долга перед колледжем. У младших, впрочем, и выбора не было, они делали, что прикажут, и все тут.
Спортивные игры вообще занимают в жизни школьника важное место, а мне они доставляли столько удовольствия, что я просто не мог не упомянуть о них в этой книге. Однако я понимаю: ничто не может быть скучнее для спортсмена, чем рассказы другого ничем не выдающегося атлета о своих достижениях. «Зануда – это человек, который упорно стремится рассказать вам о своей недавней игре в гольф, когда вам хочется рассказать ему о своей»; и еще более занудно получается, если вы не вполне ясно представляете, идет ли речь о хоккее или о водном поло. Постараюсь не слишком вас утомить.
Мы были маленькими и непоседливыми (а я – самым мелким и непоседливым) и в футбол играли с огромным азартом, хоть и не слишком умело. К тому времени как Кен окончил школу (на два года раньше меня), мы все еще не одержали больших побед. На следующий год я попал в футбольную команду колледжа и во второй раз вошел в команду по крикету. В последний школьный год я заслужил бело-розовый галстук – знак принадлежности к школьной футбольной команде.
В крикет Кен играл определенно лучше меня. Нас обоих переполнял энтузиазм, но Кен отличался еще и стилем. В те дни начинающий игрок в крикет должен был сам искать себе матчи. Возраст и связи помогали пробиться в расписание матчей своего «дома», мастерство – в школьную сетку, а иначе оставалось играть от случая к случаю. В обычные дни время для крикета отводилось с двух до трех для первого матча и с половины шестого до семи для следующего. Таким образом, каждой команде доставалось не больше трех четвертей часа играть отбивающими, а кто-то из участников мог за целый триместр так и не выйти на поле. Оставалась еще надежда на матчи внутри класса по средам, но в нашем случае надежда была мизерная, поскольку все одноклассники были старше и крупнее нас. Впрочем, пускай мы и не стали школьными знаменитостями; когда удавалось поиграть, мы веселились вовсю, а впереди ждали каникулы и поле для крикета в Стрит-Корте.
А потом, в 1906 году, капитану школьной команды по крикету пришла в голову блестящая мысль привлечь к большому спорту подрастающее поколение. В расписании матчей, отведенном для школьных профессионалов, появились свободные места «для перспективных начинающих игроков в крикет», и каждое отделение выдвинуло двоих кандидатов. Из нас двоих Кен явно был более достойным кандидатом, однако в колледже нашлось еще с полдесятка желающих, и капитан команды колледжа не мог им всем отказать. Я был самым маленьким, видимо, казался перспективным и притом резво носился по коридору во время субботних футбольных матчей, – наверное, поэтому из двух Милнов выбрали не Кена, а меня. К концу триместра я совсем немного не дотянул до принятия в команду колледжа – очень сильную в том году, в ней было целых шесть «розовых галстуков» – и чуть было в третий раз не прошел в школьную команду по крикету. В следующем, своем выпускном году Кен в третий раз вошел в команду школы, а я – в команду колледжа. За последние два года в школе я пробился в школьную команду, что показывает, как много значит для спортсмена тренер – даже если это всего лишь старшеклассник, который объясняет примерно так: «Надо было выходить на перехват!» – и взмахами рук демонстрирует, как именно это следовало делать.
И снова Кен, хоть его и обошли совершенно незаслуженно, отнесся к этому со своим неизменным великодушием. Если между нами и существовало соперничество, оно шло исключительно от меня. Как только появлялась возможность хоть в чем-нибудь помериться силами более или менее на равных, я непременно рвался доказать, что смогу лучше. В крикете мне представился шанс, и я за него ухватился. Когда во время ежегодного матча младшекурсников я, выйдя первым на поле, продержался не то двадцать, не то тридцать перебежек, а потом вышел Кен и его счет приблизился к двадцати, я отвернулся – не мог смотреть, пока его не выбили. Кен так этого и не узнал, а сам никогда бы не заподозрил – зависть была ему совершенно чужда. Все-таки из нас двоих он был лучшим. Сейчас мне приятно думать о том, как в очередную среду, в последний школьный год Кена, пока я играл в общешкольном матче и радостно думал про себя – мол, Кен этого так и не добился, – в это самое время Кен в матче с одноклассниками совершил то, что Алану не удалось никогда в жизни: довел счет перебежек до сотни. Правда, соперники были не сильны, и все же сто очков – это сто очков. Больше ни один Милн из Килбурна не мог таким похвастаться.
3Между тем Кен по-прежнему оставался единственным писателем в семье.
Пора уже что-нибудь сказать об этом самом писательстве. Когда читаешь чужие автобиографии, постоянно узнаешь, например, что мисс Сильвия Марчпейн сочиняла с шестилетнего возраста и еще в школе записала в тетрадках с полдюжины романов, а мистер Джон Мерриуэзер увлекся драматургией после того, как ему в четыре годика подарили на день рождения кукольный театр, и в школьные годы написал с полдюжины пьес на оборотах старых конвертов. Невольно приходит мысль: я, увы, не то, что называют «прирожденный писатель». Немного утешает, что Шекспир, по всей вероятности, тоже им не был.
В Вестминстере не изучали такого предмета, как «английская литература». За семь лет мне ни разу не задавали написать сочинение. В колледже было литературное общество, и на шестой год учебы я в него вступил. По пятницам мы читали вслух пьесы Шекспира, и на наших чтениях присутствовали куратор колледжа Квин с женой. При миссис Рейнор (которая наверняка знала о таких вещах побольше нашего) мы старались пропускать самые вольные пассажи и грубые словечки, что иногда ставило нас в неловкое положение, поскольку куратор следил за нами по книге и сразу замечал, что именно мы выпускаем. Он наверняка задумывался: неужели Шекспир имел в виду именно то, что, судя по всему, подумал Дженкинс? Особенно трудным испытанием для нашей рыцарственности стал «Отелло». Не знаю, право, удалось ли нам оставить миссис Рейнор в счастливом неведении.
Кроме того, соприкасаться с миром драмы нам случалось на уроках латыни. Вряд ли страсть к театру может зародиться от школьной постановки «Девушки с острова Андрос» или «Братьев» Теренция, с какой стороны рампы ни смотри. По крайней мере со мной такого не произошло. Я уже описывал свой первый сценический опыт. Второй раз я вышел на сцену в эпилоге к латинской пьесе. В 1893 году много говорили о попытке какого-то французского исследователя научить мартышек французскому языку. Мы с Кеном изображали двух таких необразованных мартышек, способных неразборчиво лопотать нечто отдаленно напоминающее французский. Строго говоря, это была роль без слов. На следующий год я уже один, без Кена, выступил в роли мальчишки-газетчика, выкрикивающего «Omnes victores»[15]15
«Одержал победу над другими победителями». (Цитата из речи Цицерона по поводу возвращения Марка Клавдия Марцелла.)
[Закрыть]. Роль требовала не столько актерских способностей – ими я не отличался, – сколько маленького роста. Затем я надолго расстался со сценой и только в 1899 году получил свою первую и единственную настоящую роль. Я играл раба по имени Гета – выбегал к рампе, оттолкнув по дороге старичка, которого с невероятным изумлением должен был заметить по окончании монолога, и выпаливал незабываемые слова (до сих пор помню): «Nunc illud est, cum si omnia omnes sua consilia conferant, atque huic malo salutem quaerant, auxili nil adferant»**[16]16
«Дела какие! Если всем собраться на совет сейчас, ища спасенья от беды, которая обрушилась на нас на всех: и на меня, и на хозяйку с дочерью, триста путей к спасенью не нашли б!» (Комедия Теренция Афра «Братья», перевод А. В. Артюшкова.)
[Закрыть]. В таком духе я продолжал довольно долго, расхаживая по авансцене, словно голодный, и не сводя глаз со зрителей, чтобы чуть позже мое удивление при виде старого джентльмена выглядело более натуральным. А когда я останавливался перевести дух, старичок, прятавшийся посередине сцены, привлекал к себе внимание громким покашливанием, и в конце концов наступал великий момент. Произнеся по-латыни нечто вроде: «Так, пожалуй, мне пора» – я оборачивался… Далее следовало то, что удачно названо «драматической развязкой». «Генри! Это ты?» – восклицал я. То есть на латыни, конечно, его звали Сосия или Мицион, а я был всего-навсего рабом… Скорее всего я говорил: «Hem, peril!», что приблизительно означало: «Нас застукали!» Странно, что я так ясно помню мелкие подробности своей роли, а общий сюжет совершенно забыл. Интересно, у других актеров так же? Словом, я застывал как громом пораженный, а тем временем Микион (или Демея) сообщал публике, что, нечаянно подслушав, как я откровенничаю наедине с собой, получил достаточно материала для событий следующего акта. Затем он с достоинством удалялся, а вслед за ним и я. Больше я на сцене не появлялся. Да и зачем? После моего выступления успех пьесе был обеспечен.
Все это никого не могло увлечь, а с английским театром мы слишком редко сталкивались и просто не успевали поддаться его очарованию. Первая увиденная мною пьеса – мелодрама «Друзья детства» в театре «Адельфи» (с участием Уильяма Терриса и Джесси Милуорд). В те выходные мы гостили у долготерпеливого доктора Мортона, который понимал нас как никто. Обычно он сразу сообщал нам время обеда и ужина и напоминал, где находится ванная, после чего предоставлял нас целиком и полностью самим себе в комнате под самой крышей с огромным запасом книг. В тот раз он еще и пригласил нас пойти вместе со всей семьей в театр. Пришлось признаться, что в свои шестнадцать и пятнадцать лет мы ни разу не были в театре. Доктор Мортон удивился и сразу же начал колебаться. А наш отец не рассердится? Пьеса совершенно невинная.
Мы были уверены, что отец не рассердится. Правда, в следующем воскресном письме отцу Кен не преминул уточнить, что, хотя спектакль нам очень понравился, он не оставил неизгладимого следа в наших душах. Души остались незапятнанными.
За время учебы в Вестминстере я побывал в театре еще три раза. Смотрел «Фиородору», «Греческую рабыню» (с Марией Темпест и Летти Линд) и «Персидскую розу». На первые две меня брали с собой взрослые, а на третью мы отправились вдвоем с другим мальчиком в одну дождливую среду. Во избежание лишних недоразумений мы отпросились на лекцию в Политехническом институте. Когда вернулись, посмотрев «Персидскую розу», куратор нашего колледжа спросил, о чем была лекция. Мы ответили, что она называлась «Наш военно-морской флот сегодня и всегда» (мне показалось, что это замечательное название для лекции). На самом деле называлась она просто «Наш флот», объявление в газете напечатали неточно.
4В школе не требовали сочинений в прозе, однако нам полагалось ежегодно совершать небольшой экскурс в поэзию. В последнюю субботу летнего триместра для старшекурсников устраивали развлечение, именуемое «Дикламация» (пишу через «и», чтобы точно передать произношение). Младшекурсники читали разоблачительные стишки готовым к выпуску старшим, которые весь предшествующий год их тиранили. Старшекурсники, вальяжно раскинувшись, устраивались на полу за столиками, уставленными множеством фруктов (и фруктовых напитков) по сезону, а дрожащий младшекурсник возносился под самый потолок на специально для этого возведенном помосте (стол ставился на стол, а на него громоздилась башня из стульев). В левой руке декламатор держал зажженную свечу, в правой – листочки со стихами. Другого освещения в комнате не было. У каждого старшекурсника под рукой стояла тарелка с маленькими твердыми имбирными печеньицами. Одаренному красноречием первокурснику могло показаться, что это прекрасная возможность отплатить за все старшим, на самом же деле это была прекрасная возможность поразвлечься старшекурснику, одаренному талантом кидаться имбирным печеньем. Единожды рискнув прочитать хулительные вирши о помощнике старосты, у которого вдруг оказалось куда больше друзей среди однокашников, чем можно было подумать, начинающий автор понимал, что никакая критика в грядущем ему не страшна. Пусть профессионалы швыряют в беднягу грязью, а зоилы-любители бросаются тухлыми яйцами – по крайней мере имбирным печеньем в него уже никто не запустит. Быть может, подсознательно именно это и толкнуло меня на стезю драматурга.
Сейчас «дикламацию» отменили. То ли кто-то свалился с помоста (и ничего удивительного), то ли кому-то выбили глаз печеньем или от упавшей свечи начался пожар – мне рассказывали, но я забыл. Матери вздохнут свободней, отцы скажут, что люди измельчали, а по-моему, для сатиры в целом потеря невелика. Уровень стихов не превышал среднего уровня школьной латыни. Лишь бы размер не слишком нарушался, и ладно.
5Мы писали домой каждое воскресенье. Поскольку события у обоих происходили примерно одни и те же, мы делили между собой темы. Например, Кен рассказывал о погоде, а я – о субботнем матче. С годами мы приобрели склонность к украшательству в ущерб фактам, а иногда оживляли свои письма стихотворными цитатами. Однажды я сообщил отцу, не помню уже, по какому поводу, что «есть многое на небе и земле, что и во сне не снилось»[17]17
Уильям Шекспир «Гамлет» (перевод А. Кронеберга).
[Закрыть]. Представляю, как он удивился, и не меньше, должно быть, удивилась матушка, когда я в следующем письме уверил ее, что лучше потерять любовь, чем вовсе не любить[18]18
Из поэмы Альфреда Теннисона «In memoriam».
[Закрыть].
Кен делал то же самое куда более изящно и иносказательно. Постепенно в семье укоренилось мнение, что письма брата, если и не достойны публикации в «Панче», то весьма хороши для мальчика его возраста и, по словам отца, «может, из этого что-нибудь да выйдет». Отец ни на минуту не мог бы предположить, что его сын способен зарабатывать на жизнь писательством. Как он позже мне сказал: «Не всем же быть Диккенсами». Однако ему представлялось вполне возможным, что Кен, состоя на государственной службе или где-нибудь еще в том же духе, «иногда прибавит к своему заработку гинею-другую» публикацией статьи в «Спектейторе». И можно будет как бы невзначай показывать эту статью родителям будущих учеников, пока те осматривают гимнастический комплекс.
Между тем пришла пора подыскивать Кену настоящую профессию. Отец уже убедился, что никакой стипендии в университете Кен не получит, и, что еще существеннее, сам Кен убедился, что в свой последний школьный год не будет избран в число помощников старосты. Это было слишком даже для его смирения. Доучиться до седьмого курса и не быть облеченным властью? Лучше уж уйти самому, не дожидаясь такого позора.
Но куда уйти? У Кена не было ни планов, ни честолюбивых замыслов. Барри готовился на будущий год стать юристом. Обучение занимало четыре года – четыре долгих года не нужно задумываться о выборе профессии, не нужно беспокоиться о будущем и никому ничего не нужно доказывать. Все мы были скорее склонны к блаженному безделью, нежели к упорному труду, но меня подгонял дух соперничества, – наследие того детского «я могу», – которого Кен был начисто лишен. Ему передышка в четыре года казалась немыслимым счастьем. Решено, он станет – кем там? – юристом.
6В то лето мы с отцом совершили увеселительный – по его замыслу – круиз вдоль побережья Норвегии. Мне было шестнадцать, я только что начал делать некоторые успехи в крикете, я только что начал взрослеть и, словом, был совершенно невыносим. На корабле была одна очень привлекательная барышня – все мужчины толпились вокруг нее. Я обретался где-то на задворках, мечтая удостоиться улыбки. Мечта моя довольно часто сбывалась. В своем бело-розовом галстуке школьной команды и сине-зеленом кепи (цвета команды колледжа) я, должно быть, мог у всякого вызвать улыбку. Барышня сидела на перилах, болтая ногами и весело отбиваясь от наших комплиментов (мои, хоть и безмолвные, были самыми искренними из всех), наши взгляды на мгновение встречались, или ее взгляд падал на мой галстук, и она дарила мне внезапную теплую улыбку, словно делилась какой-то общей тайной. В такие минуты я чувствовал, что мог бы умереть ради нее или даже швырнуть за борт кепи (не с такой, впрочем, легкостью). Была ли то первая любовь? Не знаю. Волнение на море улеглось, ее светлость вышла из каюты, где в одиночестве молилась о скорой смерти, и восхитительное создание – горничная знатной дамы – вернулось к своим обязанностям. Джентльмены были сражены. Они, конечно, притворились, будто знали обо всем с самого начала, просто хотели слегка развеселить милую крошку. Я был скомпрометирован менее других, поскольку восхищался издали. Нимало не смутившись, я обратил свои чувства на другую прелестницу, блиставшую в крикетных матчах, которые устраивали на палубе. Ее звали Эллен. Мы были одних лет. Фамилию я помню тоже, но не стану здесь называть – мало ли, вдруг она сейчас уже не моя ровесница. И лицо я прекрасно помню. Как вы думаете, помнит ли она мое лицо и мое имя? Нет, конечно. О, неверная Эллен! Я не вспоминал тебя с 1898 года, но и не забыл, оказывается.
Когда каникулы кончились, я вернулся в Вестминстер в одиночестве. Теперь я узнал, какие чудесные письма пишет Кен, но они не могли его заменить. Без него оставалось только учиться да заниматься спортом. Так я и делал. Никогда в жизни я не мог бы стать героем школьного рассказа, не был героем и в глазах других школьников (или хотя бы одного школьника), однако в конце следующего летнего триместра я приблизился к этому, насколько вообще возможно. Меня только что приняли в школьную команду по футболу. В предпоследний учебный день в матче против «городских» я вывихнул палец. Подавая практически одной рукой, я выбил высший счет – тридцать девять очков. А на следующий день, красуясь рукой на перевязи, другой рукой я собрал все существующие награды по математике и был утвержден в должности главного помощника старосты на весь будущий год. Ощущение было потрясающее.
Значительно менее потрясающее ощущение я испытал, когда подал заявку на стипендию в Тринити-колледж Кембриджского университета и с треском провалился. Впрочем, это меня не слишком расстроило. Вестминстерская школа давала три стипендии в Оксфордский колледж Крайстчерч. Теперь самым важным было поступить в футбольную команду.
7В 1899 году, во время рождественских каникул, я открыл в себе писательский зуд, который больше уж никогда меня не покидал. Не знаю, откуда это во мне взялось, а открытие мое случилось нечаянно и довольно странно. Этой истории я посвящу отдельную главу, хоть она, возможно, того и не заслуживает.
Глава 8
1В сентябре 1899 года, накануне Англо-бурской войны, некий англичанин привез из Индии в Уэстгейт жену и детей. Двое мальчиков (восьми и двенадцати лет) поступили в Стрит-Корт, а две девочки (десяти и четырнадцати) – в соседнюю женскую школу. Договорились, что в каникулы о них всех будет заботиться мой отец, а собственные их родители вернулись в Индию.
Я узнал об этом, только приехав домой в декабре. Матушка ненароком упомянула Гиту, а я, весь еще в воспоминаниях о своей роли, немедленно поправил: мол, правильно – Гета. «Nunc illud est, cum si omnia omnes» и так далее. Тут матушка меня перебила, объяснив, что речь шла о старшей из двух сестер, Гите. Младшую звали Ирма. Тогда же нас и познакомили.
Все они были очень славные. Приехал на Рождество Кен, проходивший практику в юридической конторе в Уэймуте, и мы веселились вовсю. Однажды, когда Кен уже уехал, я случайно застал Гиту в муках творчества. Я подумал, что им задали какое-нибудь сочинение на лето, а оказалось, что она пишет письмо Кену. Я сказал: «Что тут трудного? Не знаешь, как слово какое-нибудь пишется?» Она вытерла испачканные в чернилах пальцы, убрала высунутый от усердия кончик языка и ответила, что сочиняет стихи. «Ой, Алан, помоги, пожалуйста! Ну никак не рифмуется».
Я посмотрел, что у нее пока получилось. Тема была выбрана удачно – такое дружеское поддразнивание, а вот исполнение хромало. Я подправил размер, сгладил самые заметные корявости и подобрал парочку рифм. То, что вышло, Гита переписала своей рукой и отправила Кену. Через несколько дней пришел ответ, который меня удивил: стихи в подлинном стиле Калверли[19]19
Чарлз Стюарт Калверли (1831–1884) – английский поэт, считается родоначальником «университетского юмора». Его называли королем пародистов. Интересно, что при рождении его фамилия была Блейдс (ниже Милн рассказывает о своей пьесе, главный герой которой носит эту же фамилию). Дед Калверли в 1807 г. сменил фамилию на Блейдс, а отец, преподобный Генри Блейдс, вновь поменял ее на прежнюю.
[Закрыть]. Я и не знал, что Кен так умеет. В конце он прибавил: «Я все сочинил сам. Спорим, тебе помогали?»
Тогда я написал ему уже от себя и признался, что мы с Гитой работали в соавторстве. Желая показать, на что я способен, я вложил в конверт издевательские оды всем четверым нашим приятелям.
Из своего первого опыта юмористических стихов я помню всего несколько строчек – часть оды к Ирме, добродушной толстушке. Мы все ее очень любили.
В Голландии критерий красоты
Иной. У них не смотрят на манеры,
А в дамах ценят полноту. И ты
Была б у них Венерой!
Стихи вполне традиционные, если не считать злоупотребления таким поэтическим приемом, как анжамбеман. Но подобные вольности меня тогда смущали так же мало, как нынешних авангардных поэтов.
Кен удивился не меньше моего. «Боже правый, ты тоже умеешь!» – написал он мне. Засим последовало неизбежное: «Дафай фместе». И мы два года сочиняли шуточные стихи.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































