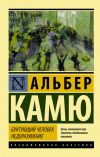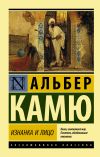Текст книги "Изнанка и лицо. Брачный пир. Лето"
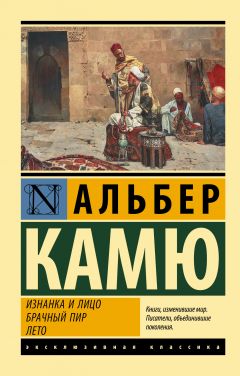
Автор книги: Альбер Камю
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
Любовь к жизни[11]11
© Перевод. Л. Григорьян.
[Закрыть]
Ночью в Пальме жизнь мало-помалу оттекает в квартал кафе-шантанов, за рынок: улицы там черные и молчаливые, пока не упрешься в решетчатые двери, откуда просачиваются свет и музыка. Мне довелось провести почти всю ночь в одном из таких заведений. Крохотный зал, очень низкий, квадратный, выкрашенный в зеленый цвет и увешанный розовыми гирляндами. Дощатый потолок усеян миниатюрными красными лампочками. В этом тесном закутке каким-то чудом умещались оркестрик, бар с разноцветными бутылками и публика, сидевшая так тесно, что хоть подыхай. Сплошь одни мужчины. В середине оставалось два свободных квадратных метра. Повсюду были стаканы и бутылки, рассылаемые официантом по всем четырем углам зала. И не было ни единого человека в своем уме. Все вопили и горланили. Какой-то вроде бы морской офицер отрыгивал мне прямо в лицо пьяные любезности. Карлик неопределенного возраста, мой сосед по столику, распинался о своей жизни. Но я был слишком напряжен и не слушал его. Оркестрик без передышки наяривал мелодии, от которых оставался только ритм, потому что его отбивали ногами все посетители. Время от времени распахивалась дверь, и горлодерам приходилось потесниться, чтобы дать вновь прибывшему место между двумя стульями.[12]12
Известная непринужденность во время веселья – признак истинной цивилизации. Испанцы же – один из немногих цивилизованных народов Европы.
[Закрыть]
Внезапно грохнули медные тарелки, и в тесный прогал посреди кабачка выскочила женщина. «Ей двадцать один год», – сообщил мне офицер. Я оторопел. Юное девическое лицо, прилепленное к горе мяса. Росту в ней было, наверное, метр восемьдесят, а весила эта туша не меньше ста двадцати килограммов. Она стояла подбоченившись, закутанная в желтую сеть, сквозь ячейки которой выпирали квадратики белой плоти, стояла и улыбалась; от обоих уголков рта к ушам струилась мелкая телесная зыбь. Восторгу зала не было границ. Видно было, что девицу здесь знают, любят, ждут. А она все улыбалась. Обвела публику взглядом и, не переставая улыбаться, принялась колыхать пузом. Зал взвыл от восхищения, потом потребовал песенку, вроде бы всем знакомую. То был гнусавый андалузский напев, на каждые три такта сопровождаемый глухим звяканьем ударных. Она пела и при каждом ударе содрогалась всей тушей, изображая любовную сцену. Эти монотонные и страстные извивы порождали новую череду телесных волн, струившихся от ляжек к плечам. Зал прямо-таки тонул в них. Когда дошла очередь до припева, девица крутанулась на месте, стиснула груди ладонями и, разинув накрашенный влажный рот, принялась выкрикивать припев вместе с залом, пока все шумно не повскакали с мест.
Всей своей неохватной тушей высилась она в середине кабаре, мокрая от пота, растрепанная, вздувшаяся в желтой сети. Похожая на вылезшую из воды поганую богиню с низким безмозглым лбом и запавшими глазами, она не подавала иных признаков жизни, кроме мелкой дрожи в коленке, – такая дрожь иногда бьет загнанную лошадь. В окружении публики, топающей ногами от восторга, с отчаянием в пустых глазах и густыми потеками пота на животе, она казалась мерзким и неотразимым воплощением самой жизни…
Трудно было бы путешествовать, не будь на свете кафе и газет. Листок с текстом на понятном тебе языке, местечко, где можно потолкаться среди людей, помогают нам посредством привычного жеста ощутить себя тем, кем мы были дома и кто теперь, на расстоянии, кажется совсем незнакомым. Ибо плата за путешествие – страх. Он разрушает в нас то, что можно назвать внутренними декорациями. Становится невозможно плутовать – прикрываться маской часов, проведенных в конторе или на стройке, тех самых часов, что кажутся такими нудными, а на самом деле как нельзя лучше оберегают от мук одиночества. Потому-то я мечтаю написать романы, герои которых говорили бы: «Что бы со мною стало без работы в конторе?», или: «Жена умерла, но, к счастью, завтра мне надо подготовить целую кипу важных документов». Путешествие лишает нас этого убежища. Вдали от близких, от родного языка, утратив всякую опору, лишившись всех масок (поди догадайся, почем тут трамвайный билет, о прочем и говорить нечего), мы целиком всплываем на поверхность самих себя. Но эта душевная неустроенность позволяет нам вернуть каждому существу, каждой вещи их изначальную волшебную ценность. Бездумно танцующая женщина, бутылка на чьем-то столе за оконной занавеской – каждый образ становится символом. Кажется, что в них сполна отражается вся жизнь в той мере, в какой в этот миг сводится к ним наше собственное существование. Мы благодарим жизнь за все ее дары, но как описать те разноречивые формы опьянения, вплоть до опьянения ясностью ума, которые нам дано испытать? Ведь ни один край, кроме Средиземноморья, так не отдалял и одновременно не приближал меня к моей сути.
Вот какие чувства обуревали меня, когда я сидел в кафе Пальмы. Однако в полдень, в пустынных кварталах вокруг монастыря, среди старинных дворцов и свежих палисадников, на улицах, пахнущих тенью, меня, напротив, поразило ощущение некой «неспешности». Там не было ни души, только на террасах застыли силуэты старух. Шагая по улице, заглядывая во дворики, полные зелени, вьющейся по округлым серым столбам, я растворялся в этом благоухании тишины, терял представление о себе самом, превращался в отзвук собственных шагов, в птичью стайку, чья тень изредка мелькала наверху еще озаренных солнцем стен. Я часами оставался в тесном готическом клуатре собора Святого Франциска. Его изысканная и вычурная колоннада лучилась дивной желтизной, свойственной старым монументам Испании. Во дворе росли олеандры и перечные деревца, виднелась кованая колодезная ограда с висевшим на ней ржавым черпаком. Из него пили прохожие. Мне до сих пор иногда слышится чистый звук, с которым он ударялся о каменную кладку. Но не тихой радости бытия научила меня эта обитель. В сухом плеске голубиных крыльев, в затаившейся среди сада тишине, в отдаленном скрежете колодезной цепи я ощущал незнакомый и в то же время такой привычный привкус. Я просветлел и улыбался этой неповторимой игре обличий. Но мне чудилось, будто кто-то неосторожно оставил трещину на кристалле, в котором сквозило безмятежное лицо мира. Что-то должно было разладиться, голубиный полет должен был прерваться, каждой из птиц суждено было, расправив крылья, медленно осесть на землю. Только мое собственное безмолвие и неподвижность придавали правдоподобность тому, что так походило на иллюзию. Я вступал в игру. Не будучи обманутым, я отдавался видимостям. Дивное золотое солнце потихоньку грело желтые камни монастырского дворика. Женщина черпала воду из колодца. Но через час, через минуту, через секунду, – быть может, в этот самый миг все вокруг могло обратиться в ничто. И однако чуду не было конца. Мир жил дальше – застенчивый, насмешливый и скромный, какой бывает нежная и сдержанная женская дружба. Равновесие сохранялось, хотя и было окрашено предчувствием близкого конца.
В этом и состояла моя любовь к жизни: молчаливая страсть ко всему, что готово было ускользнуть от меня, горький пепел под пламенем. Каждый день я покидал обитель с таким чувством, словно я отнят у самого себя и на краткий миг причтен к длительности мирового бытия. Теперь мне понятно, отчего я думал тогда о незрячих глазах дорических Аполлонов, о застывших и дышащих огнем фигурах Джотто. Ведь в тот миг я отчетливо сознавал, чем могут одарить меня подобные страны. Меня восхищало, что на берегах Средиземноморья можно обрести ручательства и правила жизни, которые способны утолить разум, оправдать жизнелюбие и доверительное отношение к людям. И еще меня поражало тогда не то, что мир Средиземноморья сотворен по человеческим меркам, а то, что он замыкается на человеке. Язык этих стран был созвучен тому, что раздавался в моей душе, но не оттого, что он мог ответить на мои вопросы, а оттого, что показывал их бесполезность. И не изъявления благодарности готовы были сорваться с моих губ, а горькое слово «nada» – «ничто», которое могло родиться только среди этих испепеленных солнцем пейзажей. Любви к жизни нет без вызываемого жизнью отчаяния.[13]13
С появлением улыбки и взгляда начинается упадок греческой скульптуры и распространение итальянского искусства. Словно красота иссякает там, где начинается дух. – Примеч. авт.
[Закрыть]
Будучи в Ивисе, я каждый день заходил в портовые кабачки. Часам к пяти местные девушки и парни начинали двумя рядами прогуливаться вдоль причала. Здесь заключаются браки, здесь начинается жизнь. Поневоле думаешь, что есть некое величие в том, чтобы начинать жизнь вот так, на виду у всех. Я усаживался, еще пошатываясь от дневного солнца, переполненный белыми церквями и белеными стенами, выжженными полями и корявыми оливами. Я пил тепловатый оршад, смотрел на извивы холмов прямо передо мной. Они мягко спускались к морю. На самом высоком из них последний порыв бриза ворочал крылья ветряной мельницы. Будто по волшебству все вокруг начинали говорить вполголоса, так что оставалось только небо да возносящиеся к нему певучие слова, звучавшие словно откуда-то издалека. В этот краткий миг сумерек все было напоено какой-то мимолетной грустью, ощутимой не только отдельными людьми, но и целым народом. Мне хотелось кого-то любить, как иногда хочется беспричинно расплакаться. Мне казалось, что отныне каждый час, отданный сну, будет похищен у жизни… то есть у времени беспредметных желаний. Как в те трепетные часы, проведенные в кафе Пальмы и в обители Святого Франциска, я был недвижим, напряжен и бессилен перед могучим порывом, стремившимся уместить в моих ладонях целый мир.
Я знаю, что ошибаюсь, что есть предел всякой самоотдаче. А если это так, то за ним-то и начинается творчество. Но нет пределов любви, и пусть мои объятия неуклюжи, – ведь я обнимаю весь мир. Я знавал генуэзских женщин, чьи улыбки могли восхищать меня целое утро. Я никогда их больше не увижу, да и, сказать по правде, ничего особенного в этих улыбках не было. Но словами не погасишь огонек сожаления об утраченном. Стоя у колодца в обители Святого Франциска, я следил за полетом голубей и забывал о жажде. Однако неизменно наступал миг, когда она воскресала.
Изнанка и лицо[14]14
© Перевод. Д. Вальяно, Л. Григорьян.
[Закрыть]
Это была нелюдимая и своеобразная женщина. Она поддерживала тесное общение с духами, принимала участие в их распрях и отказывалась видеть некоторых членов своей семьи, которых плохо воспринимали в том мире, где она укрывалась.
От сестры она получила небольшое наследство. Эти пять тысяч франков, привалившие ей на исходе жизни, обернулись лишними хлопотами. Их нужно было как-то употребить. Почти все способны пользоваться большим состоянием, и трудности начинаются, когда сумма невелика. Эта женщина осталась верна себе. Приближаясь к смерти, она решила дать приют своим старым костям. Ей помог случай. На городском кладбище истекли сроки аренды на одном из участков, и владельцы воздвигли из черного мрамора склеп строгой формы, настоящее сокровище, которое они готовы были уступить за четыре тысячи франков. Этот склеп она и купила. Это было надежное вложение денег, ценность которого не зависела ни от биржевых колебаний курса, ни от политических событий. Она распорядилась привести в порядок внутреннюю часть могилы, чтобы та готова была принять ее тело. Когда все было исполнено, она распорядилась высечь свое имя крупными золотыми буквами.
Эти хлопоты захватили ее так глубоко, что она стала испытывать истинную любовь к своей могиле. Сначала она приходила смотреть на ход работ. А в конце концов стала посещать свою могилу каждое воскресенье после полудня. Это был ее единственный выход из дому и единственное развлечение. Около двух часов пополудни она проделывала долгий путь, ведущий к городским воротам, где находилось кладбище. Она заходила в маленький склеп, бережно закрывала дверь и преклоняла колени на молитвенной скамеечке. Вот так наедине с собой она сопоставляла то, чем была, и то, чем должна была стать, соединяла разорванные звенья цепи и без усилий раскрывала тайные замыслы Провидения. Однажды она, благодаря особому знаку, вдруг поняла, что с точки зрения окружающих она уже умерла. На праздник Всех Святых, который наступил позже обычного, она обнаружила, что могила ее благоговейно усыпана фиалками. Деликатно проявив внимание, сердобольные незнакомые люди положили на эту могилу, лишенную цветов, часть своих цветов и почтили память всеми покинутой покойницы.
Но я всего этого не принимаю. От сада за окном я вижу только стены. И немного листвы, пронизанной светом. Выше – еще листва. Еще выше – солнце. Но из всего этого ликования воздуха, которое ощущается снаружи, из всей этой радости, разлитой над миром, я вижу только тени ветвей, играющие на белых занавесках. А также пять солнечных лучей, терпеливо наполняющих мою комнату запахом подсохших трав. Легкий ветерок – и тени резвятся на занавеске. Когда облако закрывает, а потом открывает солнечный диск, из тени выплывает ярко-желтая вспышка вазы с мимозами. Этого достаточно: один зарождающийся отблеск – и я уже переполнен смутной дурманящей радостью. Этот январский день открывает мне изнанку мира. Но в глубине воздуха затаился холод. Повсюду солнечная пленка, которая хрустит под ногтями и облицовывает все предметы вечной улыбкой. Кто я и что мне еще делать, как не вступить в игру листвы и света? Стать этим лучом, в котором тлеет моя сигарета, этой мягкостью и этой сдержанной страстью, пронизывающей воздух? Если я пытаюсь обрести себя, то именно внутри этого света. И если я тщусь понять и насладиться этим тонким вкусом, открывающим тайну мира, то в глубине вселенной я нахожу самого себя. Самого себя, то есть мое крайнее волнение, которое избавляет меня от окружающего.
Но что сказать обо всем другом – о людях и могилах, которые они покупают? Разрешите мне вырезать это мгновение из ткани времени. Некоторые оставляют цветок меж страниц, прячут туда прогулку, где их коснулась любовь. Я тоже прогуливаюсь, но меня ласкает некий бог. Жизнь коротка, и грешно терять время. Говорят, я человек деятельный. Но быть деятельным – это тоже терять время соразмерно тому, как теряешь себя. Сегодня – некая передышка, и мое сердце устремляется на встречу с самим собой. Если меня все еще обуревает тревога, то скорее всего от ощущения, что это неосязаемое мгновение проскальзывает сквозь пальцы, как шарики ртути. Оставим же тех, кто предпочитает повернуться спиной к миру. Я не жалуюсь, ибо наблюдаю свое рождение. В этот час все мое царство принадлежит сему миру. Это солнце и эти тени, эта жара и этот холод, идущий из глубины воздуха; буду ли я вопрошать себя: существует ли смерть и людские страдания, если все написано на этом окне, куда небо изливает свою полноту навстречу моему состраданию? Я могу сказать и сейчас скажу, что единственные стоящие вещи – человечность и простота. Даже не так: единственное, что нужно – это подлинность, а человечность и простота в нее вписываются. А ведь самый подлинный я тогда, когда следую за миром. Я удовлетворен еще до того, как этого пожелал. Вечность здесь, и я на нее уповал. Теперь я уже не желаю быть счастливым, но только хочу все сознавать.
Один созерцает, а другой роет себе могилу: как их разделить? Как разделить людей и абсурдность их жизни? Но вот улыбка неба. Свет разбухает, скоро наступит лето? Но вот глаза и голоса тех, кого нужно любить. Я держусь за мир всеми своими поступками, за людей – всем своим состраданием и благодарностью. Я не хочу выбирать между лицом и изнанкой мира, я не люблю выбирать. Люди не хотят, чтобы ты был прозорливым и насмешливым. Они говорят: «Это доказывает, что вы человек недобрый». Я не вижу тут особой связи. Конечно, если я слышу, как кому-то говорят, что он аморален, я полагаю, что ему следует потрудиться над своим нравственным обликом; когда говорят еще о ком-то, что он презирает разум, я понимаю, что этот человек не может вынести своих сомнений. Но все это потому, что я не люблю плутовства. Великое мужество заключается в том, чтобы прямо смотреть на свет, как и на смерть. Впрочем, что сказать о пути, по которому проходишь от этого безоглядного жизнелюбия к полному отчаянию? Если я слышу иронию, запрятанную где-то в глубине вещей, она понемногу себя обнаруживает. Подмигивая ясным глазком, она говорит: «Живите так, словно…» Несмотря на все поиски, вот и все мое знание.[15]15
Эту гарантию свободы, как говорит Баррес. – Примеч. авт.
[Закрыть]
В конце концов, я не уверен, что прав. Но это и не важно, когда я вспоминаю о женщине, чью историю мне как-то рассказали. Она умирала, и дочь обрядила ее для могилы, когда женщина была еще жива. И действительно, сделать это легче, пока члены еще не окоченели. И все же странно, что мы живем среди столь торопливых людей.
Брачный пир
(сборник)
Палач задушил кардинала шелковым шнурком, но тот порвался и пришлось душить его дважды. Кардинал посмотрел на палача, но не удостоил его ни единым словом.
«Герцогиня де Паллиано», Стендаль
Бракосочетание в Типасе[16]16
© Перевод. Т. Чугунова.
[Закрыть]
По весне Типаса[17]17
Типаса – город в Алжире, расположенный на побережье Средиземного моря в 68 км к западу от города Алжир. – Здесь и далее примечания переводчика, если не оговорено иное.
[Закрыть] населена богами, они во всем – в солнце и запахе полыни, в море, закованном в серебряные латы, в чистейшем голубом небе, в заросших цветами руинах и в кипении света в нагромождении камней. В определенные часы все вокруг черно от солнца. Глаза тщетно пытаются поймать что-то иное, помимо капель света и цвета, которые подрагивают на кончиках ресниц. От густоты ароматов першит в горле, и кажется, можно захлебнуться. Где-то в самой глубине пейзажа едва различима черная масса Шенуа, пустившая корни в холмы, окружающие деревню, и уверенной тяжелой поступью шагнувшая в море да так и осевшая в нем.
Въезжаем на побережье со стороны деревни, и сразу открывается вид на бухту. Вступаем в мир, окрашенный в голубые и желтые цвета; с насыщенным и терпким вздохом принимает нас летняя земля Алжира. Повсюду над стенами вилл лианы розовых бугенвиллей, гибискусы в садах еще недостаточно яркого красного цвета, обилие пышных, точно взбитые сливки, чайных роз, изящные бордюры из длинных стеблей синих ирисов. Камни раскалены. Мы выходим из автобуса цвета лютика в час, когда мясники на своих красных машинах совершают утренний объезд и звуками рожков привлекают внимание жителей.
По левую руку от порта имеется лестница, сложенная методом сухой кладки, ведущая к руинам, лежащим среди фисташника и дрока. Сперва дорога подводит к небольшому маяку, а дальше теряется в чистом поле. Уже у подножия маяка встречаются большие кактусы, усеянные фиолетовыми, желтыми и красными цветами, они спускаются к ближайшим к воде скалам, которые море то и дело облизывает, причмокивая. Стоя на легком ветру, под солнцем, припекающим к одной стороне лица, мы смотрим на льющийся с небес свет, на море без единой морщинки и на его ослепительную белозубую улыбку. Перед тем, как войти в царство руин, мы в последний раз созерцаем пейзаж.
Еще несколько шагов, и мы задыхаемся от полынного дурмана. Повсюду, насколько хватает глаз, древние развалины укрыты серым войлоком. Эфирные масла бродят на жаре, и на всем пространстве царит настоянный на травах хмельной аромат, которого и небо не в силах выдержать, не покачнувшись. Мы движемся навстречу любви и желанию. Мы пришли сюда не за уроками, не за горькими философскими истинами, которых обычно требуют от величия. Все, кроме солнца, поцелуев и диких ароматов, не имеет для нас никакого значения. Что до меня, я не стремлюсь оказаться здесь в одиночестве. Я часто наведывался сюда с теми, кого любил, и замечал на их лицах светлую улыбку – лик любви. Здесь мне ни к чему мера и порядок. И лишь любовная игра природы и моря целиком поглощает меня. В сочетании с весной развалины вновь стали просто камнями, утратив то, что навязал им человек, некогда их обработавший, но теперь эти камни вернулись в природу, которая не поскупилась на цветы, встречая своих блудных сыновей. Между плитами форума торчит круглая белая головка гелиотропа, а цветы красной герани смотрятся как пятна крови на том, что было прежде домами, храмами и площадями. Подобно тому, как многих ученых научное знание вновь приводит к Господу, руины сквозь века возвращаются в лоно своей праматери. И вот наконец прошлое отпускает их, и больше нет помех, и можно покориться той глубокой силе, которая призывает вернуться к сути вещей, предаваемых забвению.
Сколько часов я провел, топча стебли полыни, ласково прикасаясь к камням, пытаясь подстроить собственное дыхание под шумные вздохи мира! Увязнув в диких запахах и жужжании сонных насекомых, я открываю глаза и сердце навстречу невыносимому величию этого неба, досыта напоенного жарой. Не так легко стать тем, кто ты есть, обрести понимание собственного истинного размера. Но от созерцания могучего хребта Шенуа сердце мое успокаивалось, наполняясь необычной уверенностью. Я учился дышать, становился частью этой природы и обретал цельность. Я одолевал один за другим склоны, каждый из которых вознаграждал меня чем-то, например, вот этим храмом, чьи колонны измеряют бег солнца и с высоты которого открывается вид на всю деревню с белыми и розовыми домиками и зелеными верандами. Или базилика на холме на восток от меня: ее стены сохранились, а вокруг расположились саркофаги, по большей части выпирающие из недр земли, в жизни которой они все еще принимают участие. Когда-то в них были заключены останки, теперь их облюбовали шалфей и дикая редька. Базилика Святой Сальсы – христианский храм, но всякий раз, как выглянешь из нее через отверстие в стене, слышишь мелодию мира, достигающую твоих ушей: гудят пригорки, поросшие соснами и кипарисами, рокочет море, метрах в двадцати от нас подгоняющее своих белогривых лошадок. Площадка на вершине холма, на котором стоит храм Святой Сальсы, абсолютно плоская, ничто не мешает ветру разгуляться среди его портиков. Трепещет разлитое в пространстве блаженство.[18]18
Согласно легенде, в IV веке христианская дева Сальса бросила голову языческого змеиного идола в море, после чего разгневанные люди избили ее камнями до смерти. Ее тело, чудесным образом обнаруженное в море, было сожжено в часовне на холме у гавани, где впоследствии расположилась базилика.
[Закрыть]
Жаль тех, кто нуждается в мифах. Здесь боги служат руслами рек либо ориентирами в течении дней. Описывая пейзаж, я говорю: «Вот то, что окрашено в красный, синий, зеленый. Море, гора, цветы». И стоит ли упоминать о Дионисе для того, чтобы выразить, как я люблю давить почки фисташника? И принадлежит ли Деметре этот старинный гимн, который вспомнится мне позже: «Блажен тот из живущих на свете, кто видел это». Видеть, причем видеть на этой земле – как забыть такой завет?
На Элевсинских мистериях достаточно было лишь созерцать. Однако даже здесь же я знаю, что до конца не приближусь к миру. Мне следует нагим и благоухающим земными эфирными маслами войти в морскую воду, омыть одно в другом и собой сомкнуть объятия, по которым так долго вздыхают, прильнув друг к другу устами, земля и море.[19]19
Элефсис, ранее Элевсин – город в Греции, в 20 км от Афин. Является культовым центром Деметры и Персефоны. В древности в городе проводились Элевсинские мистерии.
[Закрыть]
Входишь в воду: настоящее потрясение – холодная и плотная смола принимает тебя, ты ныряешь в нее, в ушах шумит, из носа течет, во рту горечь; плывешь, выпрастывая руки, отполированные водой, подставляя их солнцу, а затем напряжением всех мускулов вновь погружая в воду; скольжение воды по телу, шумное подчинение волн твоим ногам – и полное отсутствие горизонта. На берегу падение в песок… я вновь отдаюсь миру, вновь обретаю земную тяжесть плоти и костей и, утомленный солнцем, изредка бросаю взгляд на свои руки, с которых скатываются капли воды, обнажая на высохших участках кожи белый пушок и соленый налет.
Здесь мне становится ясно, что такое величие: право безмерно любить. Есть только одна любовь в этом мире. Сжимать в объятиях женское тело – это еще и вбирать в себя ту странную радость, которая сходит с небес на землю. Очень скоро, когда я брошусь в заросли полыни, чтобы пропитаться ее ароматом, я осознаю наперекор всем предрассудкам, что совершаю предначертанное мне согласно истине, которая совсем проста – вот оно солнце – и за которой неизбежно следует другая истина – а вот она смерть. В каком-то смысле здесь я ставлю на кон свою жизнь, жизнь с привкусом горячего камня, наполненную вздохами моря и стрекотом цикад, заводящих в эту самую минуту свою песнь. Свежий бриз, голубое небо. Я беззаветно люблю эту жизнь, и мне хочется свободно поговорить о ней: она наполняет меня гордостью за мой человеческий удел. Однако я часто слышал: гордиться-то нечем. А вот и есть чем: этим солнцем, этим морем, своим молодым, бешено бьющимся сердцем, своим солоноватым телом и тем огромным простором, что меня окружает, в котором нежность и слава сплелись в желтом и голубом. Для завоевания этого мне и нужно приложить свои старания и все свои силы. Здесь ничто не мешает быть целостным, ни от чего нет нужды отрекаться, ни к чему надевать маску: мне достаточно терпеливо постичь сложную науку жизни, которая стоит всех формул житейской мудрости.
Незадолго до полудня мы возвращались той же дорогой, петляющей среди руин, к небольшому кафе на набережной у порта. Как приятна прохлада затененного помещения и большой бокал ледяного мятного напитка, когда голова гудит от солнца и буйства красок! Снаружи море и дорога, горячая от пыли. Присев за столик, я пытаюсь поймать взглядом слепящее многоцветие белого от жары неба. С лицом, мокрым от пота, но с сухим, облаченным в легкие полотняные одежды телом, мы все являем картину счастливой утомленности дня бракосочетания с миром.
Кормят в кафе неважно, зато подают много фруктов – особенно персиков, в которые вгрызаешься так, что сок течет по подбородку. Впившись в персик, я прислушиваюсь к тому, как стучит в ушах моя кровь, и смотрю во все глаза. Над морем повисла всеобъемлющая полуденная тишина. Всякому прекрасному живому существу свойственна природная гордость за свою красоту, сегодняшний мир прямо-таки сочится гордостью за себя. К чему же перед лицом этого мира отказываться от радости жизни, если для этого мне не нужно отрекаться от всего остального? Быть счастливым не стыдно. Но ныне глупец – король. Глупцом я называю того, кто боится наслаждения. Нам столько твердили о гордости: знаете, это сатанинский грех. Остерегайтесь, – кричали нам, – не то утратите и себя, и жизненные силы. С тех пор я и правда узнал, что некоторый род гордости… Но в иные минуты я не в силах отказать себе в гордости жизнью, одарить меня которой замыслил целый мир. В Типасе то, что я вижу, равнозначно тому, во что я верю, и я не упорствую в отрицании того, к чему могу прикоснуться рукой и к чему способен приложиться губами. У меня нет потребности превратить это в произведение искусства, разве что просто рассказать, а это не одно и то же. Типаса представляется мне чем-то вроде тех персонажей, которых описываешь для того, чтобы опосредованно высказать свою точку зрения на мир. Как и они, она лишь свидетельствует, причем по-мужски твердо. Сегодня она мой персонаж, и кажется, моему опьянению не будет конца, сколько ни ласкай ее, сколько ни описывай. Есть время жить и время свидетельствовать о жизни. А еще есть время созидать, что не так естественно. Мне достаточно всем своим телом участвовать в жизни и всей душой свидетельствовать об этом. Жить Типасой, запечатлевать ее… а очередь искусства наступит позже. Тут я волен поступать по-своему.
* * *
Я никогда не задерживался в Типасе больше чем на день. Всегда наступает такой момент, когда ты вдоволь налюбовался каким-то видом, как верно и то, что требуется много времени, прежде чем налюбуешься им. Горы, небо, море как лица, чью суровость либо великолепие открываешь в силу того, что смотришь, а не в силу того, что видишь. Но всякое лицо, чтобы красноречиво поведать о чем-то, должно претерпеть определенное обновление. А мы жалуемся, что слишком быстро перестаем смотреть на мир, когда следовало бы любоваться тем, что он кажется нам новым, при том что был всего лишь забыт нами.
К вечеру я обычно брел в ту часть заповедника вдоль трассы национального значения, которая превращена в сад и облагорожена. По выходе из шумной суматохи запахов и солнечных бликов, в свежести вечерней прохлады, я приходил в себя, а мое отдохнувшее тело вкушало внутренней тишины, рождающейся после удовлетворения страстью. Я сидел на скамье. Смотрел, как сглаживаются в конце дня очертания пейзажа. Я был пресыщен. Над моей головой висели еще не распустившиеся ребристые бутоны гранатового дерева, похожие на кулачки, в которых сосредоточилась вся надежда весны. За моей спиной произрастал розмарин, я различал его дурманящий аромат… Меж деревьев вырисовывались холмы, дальше виднелась кромка моря, а над ней пласт неба, напоминающий по форме неподвижный парус, неба, отдыхающего от растраты своей нежности. Сердце переполняла неизъяснимая радость, та же, что рождается от осознания чистой совести. Есть чувство, знакомое всем актерам: чувство уверенности, что они хорошо сыграли свою роль, то есть, в более точном смысле, совпали с тем идеальным персонажем, которого воплощали, в некотором роде вписались в заранее заготовленный рисунок и заставили ожить его и биться в унисон с собственным сердцем. Именно это я и ощущал: чувство хорошо сыгранной роли. Я исполнил свое ремесло – ремесло человека, а познание радости на протяжении целого дня мне представляется не каким-то исключительным успехом, а волнующим исполнением предначертанного удела, который в некоторых обстоятельствах предписывает нам быть счастливыми. Тогда-то на нас опускается одиночество, но на сей раз в удовлетворении.
* * *
И вот теперь деревья полнятся птицами. Земля неспешно вздыхает перед погружением во тьму. Вот-вот с первой звездой на сцену мира падет занавес ночи. Ослепительные боги дня, как всегда, отойдут к смерти. Но явятся другие боги. Пусть они и выглядят мрачнее, однако их до неузнаваемости искаженные лица рождаются из самого лона земли.
Шум волны, рассыпающейся на песке, долетал до меня сквозь все пространство, заполненное пляшущей золотой пыльцой. Море, природа, тишина, благоухание этой земли… я весь наполнялся пахучей субстанцией и вгрызался в уже зрелый плод мира, потрясенный вкусом его сладкого и густого сока, текущего у меня по подбородку. И дело не во мне и не в мире, а лишь в гармонии и тишине, которые порождают любовь между мной и этим миром. Ту любовь, притязать на которую как на исключительную привилегию я себе не позволял, поскольку с гордостью осознавал, что разделяю ее со всем человеческим родом, рожденным от солнца и моря, родом живучим и умеющим наслаждаться, черпающим величие в собственной простоте и, стоя на пляжах, обращающим свою понимающую улыбку к ослепительной улыбке небес.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.