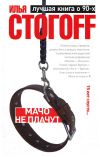Текст книги "Побежденный. Барселона, 1714"
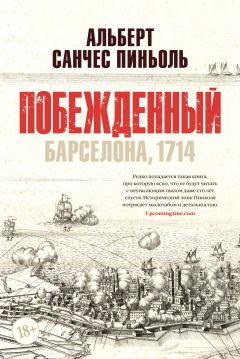
Автор книги: Альберт Санчес Пиньоль
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 30 (всего у книги 49 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
3
Печально видеть, как удача ускользает у тебя из рук, но еще грустнее по собственному желанию оставить Фортуну и отдалиться от нее. Командование экспедиции решило двигаться дальше и не штурмовать Матаро – так кладоискатель проходит мимо алмаза величиной с хороший булыжник только потому, что ему было велено искать золото. Впереди двигалась кавалерия, последними в поход отправились пехотинцы. С неба лились струи августовского дождя, неистового и короткого, к какому жителям Средиземноморья не привыкать.
Микелеты Бускетса наблюдали за уходом войска глазами, в которых сквозили отчаяние и ярость. Молчание маленького отряда звучало для нас упреком. Когда я впервые увидел этих ребят, они только что потерпели поражение, но теперь им было гораздо хуже, словно у этих людей вырвали душу из тела. Никто не понимал, какой враг нанес им смертельный удар, когда победа была уже у них в кармане.
Только Бускетс не переставал драть глотку. Он скакал вдоль рядов синих мундиров, которые шагали в строю под проливным дождем, и кричал:
– Почему вы уходите, почему? Победа там! – Он указывал в сторону Матаро. – Стоит нам сломать ворота хорошим пинком, и все их гнилое здание рухнет!
В широких ящиках моей памяти найдется немного картин, которые могут сравниться с этой по своей нелепости: Бускетс с рукой на перевязи тщетно кричит что есть сил, и с его белокурых кудрей струится вода.
Бальестер и его девять микелетов замыкали колонну. Они смотрели на Бускетса равнодушно, но я их знал и понимал, что внутри у них все кипело. Я пришпорил своего коня и оказался рядом с Бальестером.
– Если вы хотите нас оставить, – сказал я, – сделайте это сейчас. Будет лучше, если офицеры не заметят, потому что по закону вас смогут обвинить в дезертирстве.
Он повернул голову, плюнул под ноги моей лошади и произнес:
– Сами вы дезертиры.
Бускетс подъехал к нам, облепленный глиной, со слезами на глазах.
– Бальестер! – взмолился он. – Если наши отряды объединятся, может быть, нам удастся напасть на город еще раз.
Бальестер отказался.
– Они уже знают о наших планах, – сказал он. – Очень скоро к ним подойдет подкрепление. – Тут улыбка заиграла на его губах, что можно было увидеть нечасто. – Зачем мне здесь оставаться? Я никогда своего долга не получу, потому что тебя убьют, друг-приятель, и дело с концом.
– Только святой Петр отмеряет нам часы в этом мире, – обиделся Бускетс. – А мой мешочек еще наполовину пуст.
– Или уже наполовину полон, – заметил Бальестер.
Его отряд покинул нашу колонну. Неизвестно, куда они намеревались ехать. Со мной Эстеве даже не попрощался.
Почему я не плюнул на депутата? Я и сам толком не знаю. Дон Антонио приказал мне сопровождать этого старого хрыча, а к тому времени я и представить себе не мог, что посмею не выполнить распоряжение генерала. Кроме того, мною, наверное, двигало убеждение, которое все люди в душе разделяют, что чашу горького напитка надо испить до дна.
Дождь шел весь день.
* * *
После Матаро все пошло хуже некуда. Когда герцог Пополи узнал о нашем маневре, он перепугался до смерти и послал нам вслед все войска, которые были в его распоряжении. Тысячи испанцев и французов, которые квартировались на оккупированной территории Каталонии, оставили свои казармы, чтобы изловить нас и уничтожить. Пополи даже не побоялся снять несколько батальонов с осадного кордона, чтобы наши преследователи получили подкрепление. Герцог понимал, какую опасность представляло массовое восстание в тылу. Как это ни печально, наши враги сильнее верили в патриотизм каталонских крестьян, чем красные подстилки.
Перед лицом более многочисленного противника наша экспедиция уподобилась лисице, которая убегает от своры собак. Мы входили в городки и селения под звуки горнов и торжественно предъявляли серебряный жезл. По приказу депутата мы надевали свои парадные мундиры, чтобы создать о себе наилучшее впечатление. Но так было только в первые дни, а потом мы обносились и постепенно превратились в босую и грязную толпу, одетую в штопаные-перештопаные мундиры, заляпанные дорожной грязью. Но, несмотря ни на что, музыкантов всегда хорошо кормили, и веселые звуки их горнов и труб никак не соответствовали нашему виду. Ту-ру-ру-ру! Ти-ри-ри-ри! На главной площади мы зачитывали Призыв, и Беренге произносил свою речь. На следующий день или два дня спустя наши дозорные предупреждали нас о приближении неприятеля, и нам приходилось улепетывать, унося на плечах Беренге, который пукал сильнее обычного со страха.
Впрочем, этого следовало ожидать. (Я имею в виду не пердеж Беренге, а попытки бурбонских частей окружить нас.) Мы легко избегали ловушек врага, передвигались быстро и располагали тысячами глаз, которые следили за передвижениями врага, чтобы предупредить нас об опасности. Однако главная ошибка уже была допущена, и называлась она Матаро.
Известие о том, что Барселона призвала народ к сопротивлению, распространилось с той же скоростью, что и новость о провале операции в Матаро. Люди же не дураки. После того, что случилось, кто мог доверять военному депутату? Суть его витиеватых речей на городских площадях сводилась к трем пунктам. Во-первых, что Австрияк набожен, ну просто невероятно набожен (как будто кого-нибудь волновало, что этот самый король в своей далекой Вене молится без устали). Во-вторых, все должны верить Господу нашему, ибо Он не оставит вернейшее Каталонское княжество (но если все в руках Божьих и даже сам Господь нас поддерживает, как случилось, что мы оказались в таком незавидном положении?). И наконец, чтобы не оскорблять уши благоверных слушателей, Беренге не рассказывал о жестоких мучениях, которым подвергали патриотов наши враги (наоборот, как раз наоборот! Именно об этом и надо было кричать во всеуслышание! Пусть даже глухим станет ясно, что мы разделяем боль несчастных жертв!). Мне вспоминается, что во время речей Беренге на городских площадях Далмау возводил взгляд к небу и недовольно пыхтел.
Хуже всего было то, что недоверие Беренге к низшим сословиям приводило к последствиям, которые это самое недоверие еще больше подкрепляли. Самые убежденные патриоты уже давно вступили в какие-нибудь отряды микелетов, наподобие того, которым командовал Бускетс. Наше присутствие в городках было призвано убедить алькальдов сопротивляться захватчикам, править от имени Женералитата и предотвратить предательства клира, который часто переходил на сторону врага. Однако в первую очередь в наши задачи входило привлечь на свою сторону многочисленных сомневающихся, каких всюду и всегда хватает. Эти люди не отваживались сражаться с тиранами бок о бок с мятежниками, но готовы были встать под знамена законной и свободной власти. После речей Беренге, произнесенных писклявым голосом и сопровождаемых звучным пердежом, мы слышали от жителей городков одни оправдания и извинения. Если кто-нибудь и присоединялся к нам, то это были самые низкие и отвратительные личности: отъявленные пройдохи или нищие, готовые следовать за нами ради жалкой горбушки хлеба. Таким образом, люди, завербованные Беренге, утверждали его во мнении, которое у него сложилось о простом народе. И если кто-нибудь еще сомневался, мы сами показали несколько раз, чего можно ждать от военного депутата.
Однажды мы дали бой нескольким батальонам кастильцев, потому что хотели войти в один городок, жители которого, сочувствовавшие нам, вышли нам навстречу. Когда началась перестрелка, мы увидели, что в городке небольшая группа патриотов поднялась на колокольню и начала стрелять по бурбонским позициям. В разгар боя наши солдаты махали треуголками, приветствуя горожан на колокольне, а те отвечали на их приветствия. Наши знаменосцы размахивали штандартами, обалдев от радости, потому что ничто не волнует человека так, как неожиданная встреча с незнакомцем, с которым тебя вдруг объединяют братские чувства. Ряды испанцев дрогнули. Теперь оставалось только бросить в атаку все силы и смести их. Но вместо этого горны протрубили сигнал к отступлению.
Не веря своим ушам, я толкал ближайших ко мне солдат в спину.
– Это, должно быть, ошибка, – говорил им я. – Продолжайте стрелять! Огонь!
Сам Дермес лично прискакал на нашу позицию и передал мне приказ отступить.
– Вы что, не слышали сигнала к отступлению? Мы уходим! – заорал он с высоты своего коня. – Разведчики докладывают, что сюда движется целый полк, чтобы окружить нас.
– Это мы сейчас окружили врага! – закричал я вне себя. – Пока этот полк доберется до города, нам хватит времени съездить в Португалию и вернуться обратно.
Дермес всегда меня недолюбливал, потому что мы оба были подполковниками. Чтобы он мне не так завидовал, я рассказал ему, что мое звание – простая формальность и Вильяроэль просто хотел, чтобы солдаты и капитаны подчинялись моим распоряжениям по инженерной части. Но это не помогло. После нашего разговора он стал считать меня не только «канцелярской крысой», но еще и самозванцем. Больше всего на свете ему хотелось получить нашивки полковника, а это могло случиться, только если бы сформировали новый батальон или открылась какая-нибудь вакансия, а потому любой другой подполковник был для него соперником. Он наклонился ко мне с высоты своего седла и ткнул пальцем в направлении моего носа.
– Сувирия, из вас никогда не получится хорошего военного, потому что вы путаете частное и целое.
Частное и целое! Я расскажу вам, что случилось с «частным» в тот день.
Когда мы отошли, бурбонские командиры не удосужились даже арестовать стрелков с колокольни – они просто подожгли церковь, и несчастные сгорели живьем. Против нас неприятель применял методы, которые полностью отвечали незатейливому духу Бурбонов. Если нам давали приют в каком-нибудь городке, на следующий день враг сжигал там все дома и расстреливал каждого десятого жителя. Да, все было очень просто.
Через несколько дней, по предложению Далмау, наша экспедиция разделилась. Он считал, что мы не выдержим натиска тысячной армии противника, а потому разумнее идти несколькими колоннами. Главная из них оставалась под командованием военного депутата; другой – достаточно многочисленной и хорошо оснащенной – должен был командовать сам Далмау, а перед остальными маленькими отрядами ставилась задача попытаться поднять восстание в отдаленных районах.
Придумано это было неплохо. Если мы разделимся, разведчики противника на протяжении некоторого времени не будут понимать, сколько нас и в каком направлении мы двигаемся. А потом неприятелю тоже придется разделить свои силы. В той войне, которая превратилась в ряд стычек, мы всегда выигрывали, когда бои шли между мелкими отрядами. Кроме того, политика террора, которую проводил Пополи, приносила свои плоды, и жители городов, естественно, не спешили раскрывать перед нами ворота, зная, что после нашего ухода их дома будут сожжены. Следуя плану Далмау, наши отряды, разделившись, заняли бы множество населенных пунктов сразу, и даже военачальники Двух Корон не были настолько безумны, чтобы сжечь разом все городки и поселки Каталонии.
В тот день я понял, какая чудовищная извращенность скрывается за кулисами любой войны, когда депутат, поразмыслив над этим планом, взвесил все и высказал свое мнение. В глазках его светилась надежда.
– Тем лучше: если так случится, простому народу, лишившемуся крова и потерявшему родных, ничего другого не останется, как присоединиться к нам.
Присутствовавшие при этом разговоре офицеры не обратили внимания на это замечание. Далмау сидел, облокотясь на карту, на которой он показывал свой план, и был слишком сосредоточен. А Дермес – на то он и был Дермес. Но в моей памяти слова депутата запечатлелись навсегда.
Политика – штука скверная, но война в тысячу раз хуже. А хуже войны и политики, вместе взятых, может быть только одно: чудовище, которое называют военной политикой. Меня воспитали в мире, где инженеры, и именно они, служили заслоном, разделявшим войну и политику. В том мире считалось, что политика – лишь тень военного искусства и служит тому, чтобы определить окончательные детали после военных кампаний. Но на протяжении нашего века ядовитое дыхание тени завладело всем телом, и последствия были налицо. Наша высокая миссия состояла в том, чтобы защитить жизни и дома жителей нашей страны. Извращая все моральные принципы, Беренге вовсе не считал дурным то, что враг убивал и жег, – военный депутат видел в этом положительную сторону: месть и отчаяние людей были ему на руку.
Не стоит и говорить, что предложение Далмау было в значительной степени продиктовано тем, что ему до ужаса надоел депутат Беренге, его тоскливые речи и заливистый пердеж. Далмау хотелось действовать самостоятельно. Я умолял его разрешить мне присоединиться к его колонне. Он мне отказал.
– Когда мы вернемся в Барселону, дон Антонио захочет узнать, как было дело, – объяснил мне он. – А в мое отсутствие единственным надежным свидетелем будете вы. Нельзя же доверять это Дермесу, не правда ли?
Последующие недели и месяцы вспоминаются мне как калейдоскоп картинок, всегда одинаковых и в то же время разных. Войско Двух Корон следовало за нами по пятам. Мы уходили от них, атаковали, потом контратаковали. Бросок вперед, отступление, ночи под открытым небом. Дождь. Солнце. Грязь. Всегда начеку. Восторг в одном городке, неприязнь в другом, пепелище третьего. Мы уже не могли припомнить, что видели наши глаза сначала, а что потом, наши чувства притупились от повседневной жестокости. Если нам доводилось вернуться в какой-нибудь городок, где накануне нас встречали восторженные жители, мы видели на его месте дымящиеся развалины. Грязь. Солнце. Снова дождь. Нас стегал град, когда мы уходили от преследования по оврагам и лощинам, следуя тайными тропами, чтобы углубиться потом в чащу леса. Справа – семь деревьев, на каждом раскачиваются по трое повешенных. Кажется, вчера наш отряд уже здесь проходил? Нет, вчера мы видели семь повешенных на трех деревьях. Постоянные изменения маршрута: наша колонна ползла, точно гигантская сороконожка, и разведчики служили ей усиками. Наше поражение объяснялось парадоксом: мы не могли вербовать себе солдат, потому что постоянно убегали от неприятеля, а убегали потому, что не имели возможности завербовать новых солдат.
Мне, однако, не хотелось бы, чтобы у читателей создалось впечатление, будто мы следовали по стране, все обитатели которой, от первого и до последнего, готовы были принести свои жизни в жертву ради Конституций и Свобод. Ничего подобного! Даже в самых лучших домах найдется место предательству, слабостям и приспособленчеству. Да к тому же еще война способствует тому, что в людях возрождаются первобытные инстинкты.

Однажды, когда я скакал впереди отряда всадников, который вел разведку, нас неожиданно начали обстреливать с каменистого склона у дороги. Мы услышали, как нападавшие подбадривают друг друга по-каталански, и решили, что они стреляют в нас, по ошибке принимая за неприятельский отряд, как это, к сожалению, нередко случается на войне. «Это, скорее всего, отряд добровольцев из соседнего городка, – сказал я себе, – и они сочли нас французами или испанцами». Я приказал нашим всадникам не стрелять, а сам стал приветственно размахивать шляпой. Несмотря на это, огонь только усилился. Я подъехал поближе и увидел, как один из стрелков заряжает свое ружье, спрятавшись за большим валуном.
– Вы что, обалдели? Что вы такое творите? – заорал я. – Мы – отряд армии правительства!
Стрелок ничего не ответил, а только судорожно работал шомполом – вперед и назад, вперед и назад, – и тут по его взгляду я понял, что он молится: «Боже, заставь этого дурака подольше пребывать в сомнении, чтобы я мог всадить ему пулю в лоб».
В 1705 году, когда в Барселоне высадились войска союзников, многие города и селения встали на сторону Австрияка, но далеко не все. Нередко случалось, что, когда один городок присягал Карлу, соседний поселок склонялся на сторону Бурбонов. Почему так выходило? Вы думаете, потому что их священник внушал пастве, будто сам Господь Бог на стороне Филиппа? Ничуть не бывало! Их позиция объяснялась просто ненавистью к соседям. Вы сами знаете – между соседними селениями всегда существуют извечные споры о правах на какой-нибудь колодец, о собственности на мельницу или еще о чем-нибудь в этом роде. Пока Австрияк одерживал победы, сторонники Бурбона сидели тихо и не рыпались. Но сейчас, когда армия Двух Корон занимала почти всю Каталонию, эти люди с восторгом начали вооружаться и, ни минуты не сомневаясь, отправлялись потрошить своих соседей под благовидным предлогом борьбы с врагами.
Селян, обстрелявших нас, ничуть не трогали Конституции, им было наплевать и на австрийскую ветвь, и на Бурбонов. Вся эта мировая война служила им не более чем поводом для оправдания местных разборок. Апокалипсис Европы для этих людей сводился только к одному – доказать всему миру, что таких сволочей, как их соседи, нигде больше не сыскать. Свобода родной страны, хлеб и будущее земли, необходимость стряхнуть узы иностранного гнета стояли на втором плане, главная задача состояла в том, чтобы переломить хребет соседу и его отпрыскам.
Я совершенно серьезно говорю: война – это огонь, на котором закипает варево в котле, и со дна его поднимаются пузырьки наших первобытных инстинктов. Под их напором рвется тонкая и хрупкая пленка, называемая цивилизацией. Прав был Руссо: дикость не во внешнем мире, в поисках дикаря надо отправляться не в неизведанные широты, а в самую глубь нашего существа. Дайте только повод этому дикарю, этому подлому дикарю, и он выйдет наружу, разрушив заслон цивилизации, словно пушечное ядро – тонкую перегородку.
А похабник Вольтер так этого никогда и не понял!
* * *
Беренге с каждым днем выглядел все более отрешенным. Старик был столь же изворотлив, сколь умен, и прекрасно понимал, что мы вербуем очень мало солдат, количество явно недостаточное для подготовки штурма кордона бурбонских войск. Но, как исправный секретарь, он отправлял в Барселону одну депешу за другой, и это меня выводило из себя. Паутина, которую ткали вокруг нашего отряда военачальники Двух Корон, становилась с каждым днем все гуще. Прорваться через нее было нелегко, и нам приходилось выбирать самых опытных и верных солдат, которые рисковали жизнью, чтобы достичь берега моря. Подготовить к их прибытию корабль, который приходил туда тайно из Барселоны, представляло собой еще более рискованную задачу. И для чего затевался весь сыр-бор? Чтобы передать депешу Беренге, в которой он сообщал, что сообщать нечего.
Мы достигли мертвой точки и никак не могли преодолеть ее притяжения. Восстание 1705 года началось в Вике, городе, находящемся в семидесяти с лишним километрах к северу от Барселоны. Мы отправились туда, преодолевая препятствия и обходя ловушки врага. Это была целая эпопея, потому что численность бурбонских войск, преследовавших нас, росла с каждым днем, и нам пришлось ловко маневрировать, чтобы экспедиция добралась до места назначения в целости и сохранности. По крайней мере, мы ожидали встретить теплый прием, потому что горожане Вика первыми встали на сторону Австрияка и отстаивали своего претендента с жаром. Как смешно мне теперь все это вспоминать!
Жители Вика о нас даже знать ничего не хотели, а отцы города попросили нас не задерживаться даже на одну ночь, чтобы не портить им репутацию.
– Поймите, мы первыми встали на сторону императора и на нашу долю и так выпадет самое суровое наказание.
Депутат, который всегда отличался мягкостью по отношению к лицам своего круга, принял их извинения. Я не смог промолчать.
– Уж коли вы первыми пошли в атаку, – сказал я, – вам бы следовало оставлять позиции последними.
Мне приказали замолчать, и я повиновался. Все равно это ничего не меняло. В тот момент мы не могли знать, что из всех переговоров эти были самыми бесполезными. Через некоторое время нам стало известно, что до нашего приезда городской совет уже послал местного костоправа, некоего Жузепа Поу, просить пощады и прощения у приспешников Филиппа. Вот так шутка! Те, кто запалил фитиль, теперь обвиняли в поджоге нас.
В результате нам стало казаться, что все наши перемещения преследуют одну-единственную цель – не допустить, чтобы бурбонские войска захватили Беренге в плен. Согласовывать наши действия с другими колоннами и с Барселоной было чрезвычайно сложно, потому что мы постоянно передвигались, и другие отряды тоже. Многие из наших связных не возвращались. Каждый раз, когда кто-нибудь из солдат удалялся галопом, мне стоило большого труда сдержать слезы. Если их арестовывали, то пытали до смерти. Никакого смысла в этом не было, потому что послания депутата писались при помощи специального кода, ключ от которого Беренге ревниво хранил. (Наш старый хрыч выполнил с честью только эту единственную задачу.)
Шифр был придуман чрезвычайно хитроумно. Каждой цифре или числу соответствовала буква или целое понятие. Так, например, букве «А» соответствовало число 11, «М» – 40, а «Е» – 30. Другие числа означали понятия. 70, например, означало Барселону, 100 – бомбы, 81 – Филиппа, 53 – гранаты, 54 – Пополи и 87 – микелетов.
Среди солдат прошел слух, что Беренге хранит все тайные послания в своей утробе. Бурбонским отрядам никогда не удавалось их расшифровать, потому что вся эта история с числами и буквами была придумана для отвода глаз. На самом деле депутат приставлял чехол для послания к своему заду, а получателю письма ничего не надо было читать, ему достаточно было прослушать пердеж, который слышался, когда чехол открывали.
Ничего тут не поделаешь, простому народу нравятся грубые шутки.
* * *
Однажды поутру наши часовые подали сигнал тревоги. Мы схватились за оружие, уверенные в том, что бурбонский отряд решил захватить нас врасплох, пока мы завтракали. Но нет. Мы испытали облегчение, увидев своих, – это был Бальестер с его ребятами.
На протяжении экспедиции я редко испытывал такую радость, как в этот момент. Увидев, что его отряд снова присоединяется к нам, я бросился к старому приятелю и крепко обнял. Сейчас я нисколько не сомневаюсь, что в душе микелет был благодарен мне за эти проявления чувств, но ответить на них просто не умел. Я обнимал его, и, хотя Бальестер стоял столбом, меня это не смущало. Смятение на его лице позволяло мне учуять те движения души, которые он не мог выразить.
Я взял его за плечи и, глядя ему в глаза, сказал:
– Я знал, что вы не прекратите бороться, я был в этом уверен.
Он высвободился из моих объятий:
– Это вы отказались от борьбы. Разве вы уже забыли?
Я заметил, что его сопровождают только семь микелетов.
– А где Жасинт и Индалеси? – спросил его я.
– А вы как думаете?
Мы некоторое время молчали. Я сказал:
– И вы все-таки вернулись?
– Это вы вернулись.
И тут он обернулся и указал рукой назад. Как выяснилось, отряд Бальестера шел впереди целого войска: это был полк Далмау в полном составе. И они шли не одни – к ним присоединилось три тысячи человек! Далмау завербовал их по собственной инициативе, обращаясь к населению с речами, которые разительно отличались от выступлений Беренге. Если подумать хорошенько, ничего удивительного в этом не было. Они были как два противоположных полюса: депутат с его бессильным морализаторством и Далмау, горевший здоровым вдохновением. Для Беренге слово «родина» означала прошлое и установленные порядки. Для Далмау – права и будущее.
В тот же день собрался военный совет. Далмау хотел изложить нам свои планы, которые он обдумал во время своих странствий отдельно от нашей колонны.
Всего нам удалось собрать пять тысяч человек. Далмау оставался верен изначальному плану: штурмовать кордон бурбонской армии, окружавшей Барселону, и снять блокаду. Так как наши силы были неравны, достичь окончательной победы не представлялось возможным. В первую очередь потому, что на всей территории страны располагались тысячи вражеских солдат. Если бы они обнаружили, что мы движемся к Барселоне, то немедленно сгруппировались бы за нашей спиной.
– Однако, если нам удастся этого избежать, – сказал Далмау, – мы сможем атаковать крайний правый фланг кордона.
Он расстелил на столе карту, и мы наклонились над ней.
– Бурбонское командование разделило кордон на три участка, – объяснил Далмау. – Крайний правый участок – в районе лиманов и болот – защищают испанские части. Нападая в этом районе, мы получим преимущество, потому что испанские солдаты обучены гораздо хуже, чем французы. А на пересеченной местности наши микелеты передвигаются проворнее, чем полки, привыкшие сражаться в строю. – Он устало потер глаза. – Нам будет нелегко согласовать наш штурм с атакой частей, находящихся в городе, тем более если мы решим напасть на кордон ночью. Но с другой стороны, в таком случае наши действия будут еще неожиданнее, а это единственный, с моей точки зрения, способ компенсировать численное превосходство неприятеля. Если мы сделаем свое дело, а Вильяроэль нас поддержит – в чем у меня нет ни малейшего сомнения, – я не вижу причин не верить в успех.
Все было правильно – цель экспедиции состояла в том, чтобы прорвать блокаду города. Все сошлись на том, что план нам предлагается рискованный, но выполнимый. Оставалось только решить, что нам делать с депутатом. Ночную атаку, во время которой пять тысяч человек будут пробираться через лиманы, дряхлый старик не перенесет, а потому затея представлялась рискованной. В пылу сражения и в ночной тьме могло произойти все, что угодно. Беренге, разумеется, был ничтожеством и дрянью, однако это не умаляло значение поста, который он занимал. Арест военного депутата для каталонцев стал бы страшным ударом, а для бурбонского командования означал бы огромный успех. Нет, они бы не стали его убивать, но вполне могли прокатить старика верхом на осле, водрузив ему на голову дурацкий колпак.
Беренге жестом плохого актера закрыл лицо руками и сказал, что не желает быть помехой для защиты родины (наконец-то он понял, какую обузу нам приходилось таскать за собой все это время). Но попытку следовало предпринять, продолжил он и высказал единственную просьбу: получить для сопровождения четырех верных солдат. В случае провала операции этим людям должна быть доверена святая миссия – перерезать ему глотку, чтобы не дать врагу получить его живым.
Неслыханное бесстыдство! На протяжении всей экспедиции он проявлял малодушие, а теперь вдруг хотел прослыть героем. Его речь казалась жалким притворством в эпоху, когда героизм был обычной разменной монетой. Такие люди, как Вильяроэль или Далмау, бойцы, как Бальестер или Бускетс, никогда не кричали о готовности принести в жертву родине свою жизнь: они считали просто, что это само собой разумеется, и действовали, не думая о своей шкуре. А тут перед нами произносил речь этот человек, взвешивающий каждое слово, чтобы его могли занести в анналы Истории. Я сделал шаг вперед и сказал:
– О, ваше превосходительство, не беспокойтесь: четырех солдат, чтобы перерезать вам горло, не понадобится. Хватит и одного. Можете поручить это мне.
– Сувирия! – воскликнул Беренге. – Мне надоели ваши выходки. Вы вообразили себя шутом нашего войска, не так ли? Когда вернемся в Барселону, я немедленно прикажу заключить вас в тюрьму, что возле церкви дель-Пи!
Один из трутней Беренге внес предложение: сначала достичь берега моря и отправить военного депутата в город на корабле, а уж потом начать наступление на кордон. Ему удалось угодить всем сразу: Далмау избавлялся от Беренге, а депутат спасал свою шкуру.
Бальестер со своим конным отрядом, как обычно, отправился вперед на разведку, чтобы убедиться в том, что дороги, ведущие к городку на побережье под названием Алелья, свободны от бурбонских войск и депутату ничего не угрожает. Я присоединился к ним. Тем же вечером мы достигли Алельи, но, во избежание неприятных сюрпризов, не стали искать ночлега в каком-нибудь доме, а решили разбить лагерь прямо на прибрежном песке.
Пока мы скакали к морю, Бальестер был еще молчаливее, чем обычно. На берегу я расстелил свой плащ рядом с ним; песок заменял нам матрас. Волны плескались всего в нескольких метрах от наших ног. День выдался безоблачным, и сейчас все небо было усыпано звездами, которые ярко блестели. (Тебе нравится это поэтическое отступление, моя дорогая Вальтрауд? Так вот, это все сущая чепуха! Дело ведь было ночью, а раз на небе не было облаков, то спрашивается, почему бы звездам не блестеть? Ладно, так и быть, напиши эту фразу, пусть будет ясно, что той ночью нами овладела тихая грусть.) Мы вели безжалостную войну, но в эту минуту покоя размеренный шорох волн и пение цикад ласково баюкали нас, и я решил начать разговор:
– Мне хочется вам кое-что сказать. Я согласен с вами, что отказаться от штурма Матаро было позорно.
Бальестер не отвечал. Обиженный его молчанием, я возмутился:
– Я пытаюсь перед вами извиниться, черт бы вас драл! Хотя никакой моей вины в этом не было.
– Накрылись ваши хваленые Канны, – пробормотал он наконец.
– Именно. Наш новый план означает кровопролитие. Даже если все пройдет хорошо, будет много потерь. Может быть, тысячи. – Я возвел глаза к небу. – Если бы Вобан был жив…
– Почему вы жалуетесь? На войне люди всегда погибают. Иначе это не война.
Я счел за лучшее сменить тему и спросил:
– Бальестер, вы женаты?
– Нет, у меня просто есть женщины. А вы?
– У меня есть одна, которая мне все равно что жена. Кажется, раньше она была проституткой. Или чем-то еще в этом роде.
– Вы это серьезно? – удивился Бальестер, которого трудно было чем-нибудь удивить.
– Проститутка, обманщица, воровка… какое это имеет значение? В наше время каждый изворачивается как может. Я живу с ней, со стариком, с карликом и с мальчишкой. Мальчишку вы видели.
– Я? – снова удивился Бальестер.
– Да. Когда вы нас осаждали на хуторе.
Бальестер накрылся плащом и сказал:
– Помню только, что второй такой оторвы видеть мне не приводилось. – Он зевнул.
– Да, согласен. – И эта мысль наполнила меня идиотской радостью, которая поднялась волной в груди. – А ведь он мне не сын.
– Но мальчишка обращался к вам так, словно вы его отец, – заметил Бальестер, зевнув еще раз.
– Ну, скажем, для него я вожак стаи. И больше ничего.
Усталость овладела нами. Бальестер закрыл глаза, но я потряс его за плечо:
– Бальестер, у вас есть дети?
Он снова открыл глаза и посмотрел на звезды.
– Да, думаю, что да. Один ребенок, а может быть, два. Трудно с уверенностью сказать. Все женщины говорят, что дети от меня, хотя бы потому, что у командира отряда всегда больше денег, чем у простых солдат.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?