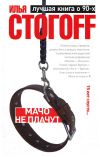Текст книги "Побежденный. Барселона, 1714"
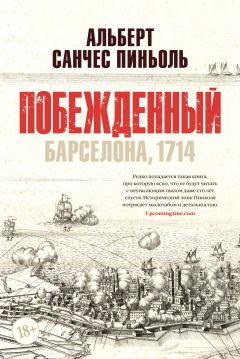
Автор книги: Альберт Санчес Пиньоль
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 41 (всего у книги 49 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
– Десятки? А я-то думал – тысячи. – И продолжил: – Сыну Казановы четырнадцать лет, и он служит барабанщиком своего полка.
Тут я не сдержался.
– Сам Казанова явился, чтобы освободить его от этой службы! – закричал я. – И устроил, чтобы его отпрыска отправили из города охранять Кардону.
Так оно и было. Красным подстилкам всегда хотелось похвастаться добродетелями, достойными Гомера. Отправляя солдат из города, они словно желали сказать Джимми, что барселонцам хватит смелости, упорства и настойчивости выдержать любое нападение. (Вообразите сами, какого мнения был дон Антонио об этих потерях для городской обороны, вызванных самими нашими правителями.) Понимаете, в Кардоне, одном из немногих городов, еще остававшихся во власти Женералитата, было очень спокойно. Бурбонские военачальники не хуже нашего знали, что стоит им завладеть Барселоной, как вся страна падет, а потому не обращали ни малейшего внимания на отдельные опухоли, оставшиеся в тылу.
Я схватил Анфана за плечи и спросил:
– Я твой патрон? Скажи мне! Да или нет?
Боже мой, каким он стал взрослым! Анфан посмотрел на меня серьезно и ответил:
– Конечно, патрон. Конечно да. Так и быть, я никогда больше не полезу в подкопы. – Он сложил пальцы крестом и поднес к губам. – Клянусь.
Мальчишка сказал это, вытянувшись в струнку и глядя мне прямо в глаза. Я не поверил ни одному его слову.
На следующий день горстка червей, всего четыре человека, нашла наконец огромный заряд противника, его Королевскую Мину. В широкой галерее припасли целую сотню бочонков с порохом, закрытых сверху влажными бычьими шкурами. Черви перерезали глотки бурбонским караульным, утащили весь запас взрывчатки и, отходя, обрушили потолок галереи. Была мина – и нету.
То была последняя наша радость. Колокола всех церквей радостно звонили, а правительство оплатило пятьсот молебнов в ознаменование свершения. Один червь-герой приехал из Арагона, и звали его Франсиско Дьяго; другой, Жузеп Матеу, жил в Барселоне; а третьим был командир червей, который руководил всей операцией… Как его звали? Какая жалость, что в моей памяти не сохранилось имени такого отважного бойца! Четвертым оказался, естественно, Анфан. Он первым пролез через крошечное отверстие и нашел галерею, набитую взрывчаткой. Как бы вы поступили? Отругали бы его или, наоборот, похвалили? Я не стал делать ни того ни другого.
В тысячный раз моя дорогая и ужасная Вальтрауд прерывает меня. Неужели ты не можешь позволить мне порадоваться одной из наших немногочисленных побед?
Что ты говоришь? Тебе кажется странным, что я помню имена солдат, которые сопровождали командира червей, но запамятовал его имя? Ты считаешь подозрительным, что в моей великолепной памяти, натренированной в Базоше, не удержалось имя героя, спасшего город, отсрочившего трагедию на несколько дней? Быть может, я скрываю его имя, потому что в его личности есть нечто мне неприятное или отталкивающее?
Ладно, довольно! Довольно.
Ты права. Я обещал, что расскажу правду, всю правду, и так и сделаю. Я помню его имя.
Этого великого героя-червя звали Франсеск Молина; его родители приехали жить в Барселону, покинув родную страну, но ощущали себя частью нашего города настолько, что их сын, как многие другие иноземцы и дети иноземцев, сражался за него даже под землей, ломая ногти и надрывая легкие, день за днем, ночь за ночью, пока не нашел эту гору смертоносного пороха.
Ты спрашиваешь, откуда приехали его родители?
Я вижу, что ты не отстанешь и мне придется испить чашу унижения до дна.
Сдаюсь, скажем все, до конца.
Семья Молины приехала из Италии.
Из Неаполя.

14
Я, Марти Сувирия, Инженер (не будем тратить времени на скучное перечисление титулов и званий), подтверждаю все изложенное ниже и признаю безоговорочно:
– что происхождение наций зависит исключительно от капризов истории и ни в коей мере не связано с природными наклонностями людей, к ним принадлежащих;
– что подавляющее большинство знакомых мне итальянцев являются безобидными творениями Господа нашего, благочинными, серьезными и достойными людьми. Никто не имеет права следовать своим низменным порывам и приписывать недостатки отдельных лиц всем членам того или иного людского сообщества. Никому также не дано делать это сообщество ответственным за понесенные от отдельных его членов обиды.
И пусть данный документ станет письменным свидетельством того, что я раскаиваюсь во всех обидных замечаниях, которые может содержать данная книга по адресу неаполитанцев, итальянцев и вообще иностранцев – французов, немцев, кастильцев, мавров, маори, оглага[137]137
Оглага, оглага-лакота – племя коренных американцев языковой семьи сиу.
[Закрыть], голландцев, китайцев или персов. (Поймите, исправлять все пораженные этой заразой страницы привело бы к затратам на перепечатку, которые недопустимы для моего тощего кошелька.)
Теперь ты довольна? Радуешься, что удалось сломить волю несчастного, дни которого сочтены? И кто бы мог подумать, что дело кончится этим: я, автор книги, прошу прощения у того, кто записывает мои слова.
Ну хорошо, хорошо, ты права. Пойдем дальше и закончим рассказ. Прольем последние слезы.
* * *
3 сентября 1714 года все противоречия, копившиеся в нашем лагере, превратились в открытое столкновение. И причиной тому оказался не голод, заставлявший людей пожирать себе подобных, не победа неприятеля и не недостаток решимости изможденных защитников города. Как ни парадоксально, споры возникли из-за великодушного жеста Джимми.
В тот день к нам явился барабанщик неприятеля с посланием. В нем Бервик предлагал нам сдаться, дабы избежать штурма, который повлечет за собой невообразимые последствия. Это было краткое и угрожающее письмо, не оставлявшее даже самой малой надежды на милосердие. Или мы сдадимся, или они перережут глотки всем, включая нерожденных младенцев. Однако здесь мне придется сделать небольшое отступление о правилах игры во время осад.
В конечном счете цель создания Наступательной Траншеи состоит в том, чтобы вынудить осажденных просить о начале переговоров. Battre la chamade[138]138
Барабанный бой (фр.) – сигнал, которым осажденные оповещают о своем намерении капитулировать.
[Закрыть]. Когда траншеи неприятеля доходят до самого рва крепости, а стены разрушены, осажденные, оказавшись в безвыходном положении, просят начать переговоры о сдаче города, в надежде спасти хоть что-нибудь. Жизнь, честь. По возможности – имущество. В противном случае осаждающие имеют законное право войти в город, а потом грабить, поджигать, убивать и насиловать. Сигнал chamade позволяет избежать этой крайности. Согласно законам военной вежливости (которым в мое время беспрекословно следовали все, за исключением этого зверя Пополи и его генералов, верных Филиппу) осажденному, который просит о переговорах «барабанным зовом», гарантированы как минимум жизнь простых горожан и честь военного гарнизона.
Действия Джимми не укладывались в эти общепринятые нормы, потому что барабанщика всегда высылали осажденные, а не те, кто вел осаду. Бервик оправдывал свой шаг безнадежностью нашего положения. Но, посылая своего гонца, не дожидаясь сигнала с нашей стороны, он давал нам возможность прийти к соглашению. И к соглашению не только достойному, но даже внушающему надежду. Отвага и упорство всегда приносят плоды: после августовских баталий Джимми боялся, что его войска сильно пострадают. Победа могла стоить ему половины армии, а ни Монстр, ни наш Бурбончик не поблагодарили бы его за потерю большей части самых опытных офицеров. Кроме того, если бы дело дошло до штурма, бурбонских солдат, жаждущих мести и наживы, не смог бы сдержать никто, и они бы разрушили Барселону до основания. А Джимми, всегда выступавший защитником и покровителем искусств, не желал, чтобы те самые философы, которых он щедро подкармливал, осудили его за варварство.
Поэтому, несмотря на презрительный и заносчивый тон послания, дон Антонио понял его смысл. Враг хотел начать переговоры! Сияя от счастья, он собрал весь военный совет, чтобы обратиться к правительству с согласованным предложением. Я присутствовал на этом собрании в качестве старшего адъютанта генерала.
Дон Антонио начал свою речь с того, что послание Бервика дает нам исключительную возможность и не воспользоваться ею было бы безумием. Мы могли спасти город, его жителей и даже, возможно, еще что-нибудь. Вести переговоры надлежало не военным, а политикам. Наша задача состояла только в том, чтобы объяснить правительству, что оно не может упустить последнюю возможность избежать катаклизма, который будет напоминать скорее битвы Ветхого Завета, а не современные баталии.
В первый и последний раз я увидел, как дон Антонио улыбается. Все наши страдания теперь обретали смысл, наши боевые действия принесли свои плоды: неприятель хочет вести переговоры. Если наши дипломаты будут достаточно ловки и верны своим принципам, возможно, им удастся отстоять основы наших Конституций и Свобод.
Ну так вот: собрание кончилось плохо. Я помню длинный стол, вокруг которого теснились офицеры. Их мундиры были чистыми, хотя и изорванными, животы втянулись от голода. Но никто не хотел согласиться с главнокомандующим. Никто не смотрел дону Антонио в глаза. Они полностью доверяли его авторитету, они восхищались им, но просто не желали сдаваться.
Не удовлетворившись этим результатом, Вильяроэль отправился к Казанове и настоял на голосовании в правительстве. Казанова нехотя согласился. Он хорошо знал особенности демократических институтов Барселоны.
Голосование напоминало поток, текущий вспять. Из тридцати представителей только трое согласились с предложением Казановы начать переговоры. Итог: двадцать шесть голосов против четырех. Тот факт, что лишь три члена совета проголосовали так же, как глава правительства, говорил о том, до чего он был одинок. Как можно было в подобных обстоятельствах навязать кому-то политические решения?
Мир наизнанку: только генералы хотели положить конец войне.
* * *
На следующий день до нас дошла новость: дон Антонио отказался от поста главнокомандующего. Не имея возможности отвратить несчастье, он послал в правительство записку, в которой заявлял, что честь не позволяет ему руководить массовым самоубийством. А следовательно, раз все разумные способы вести оборону с точки зрения военного дела исчерпаны, он просит разрешения покинуть город на корабле и отказывается от всех званий, выплат и льгот.
Мне кажется, что Вильяроэль таким образом пытался в последний раз оказать давление на правительство, ставя на кон свое положение: или начинайте переговоры, или он уходит в отставку. К несчастью, безумие уже овладело всем и всеми. Правительство просто ответило на его просьбу согласием и пообещало ему два быстрых галиота, способных прорвать блокаду. Когда нам надо было отправить кого-нибудь из города, мы пользовались этими судами, небольшими, но очень маневренными. Французские корабли с большой осадкой старались держаться в открытом море, и галиоты под прикрытием темноты без труда шли всю ночь вдоль берега, огибая скалы. На рассвете, очутившись вдали от Барселоны и от французского флота, они брали курс на Майорку.
Эта новость поразила меня. Дон Антонио нас оставляет! Потрясенный, я настолько не мог в это поверить, что даже не спросил, кого назначили на его место. Мне трудно было представить кого-то другого на этом посту, и действительно, никого на него не выдвинули. Точнее, нашим новым главнокомандующим провозгласили Святую Деву.
Святая Дева! Это, наверное, была шутка. Но нет, уверяю вас, никто не шутил. И Марти Сувирия, обученный всем приемам работы с циркулем и телескопом, умевший с точностью рассчитать объем земли, который предстояло вынуть из окопа, служил теперь под командованием Святой Девы. На рассвете следующего дня, когда я спал, кое-как укрывшись за остатками стены, меня разбудил связной и сказал мне на ухо:
– Дон Антонио хочет видеть вас до своего отъезда.
Весь двор был завален баулами и сундуками для отправки в порт. В доме туда-сюда сновали офицеры: одни прибывали, другие уходили. Даже в эти минуты дон Антонио по-прежнему интересовался всем происходящим на городских стенах. Меня удивило, что он надел парадный мундир и был при всех регалиях, хотя уже не был главнокомандующим. Мне кажется – и своего мнения я теперь уже никогда не изменю, – до последней минуты Вильяроэль ожидал, что правительство передумает и призовет его снова. Увидев меня, он сказал:
– Вы еще не в курсе дела? Я сам объясню вам, что случилось: я больше не командую обороной. Офицеры должны следовать приказам, которые получат от нового главнокомандующего.
– От какого главнокомандующего? От Святой Девы?
Мой тон его растрогал, и дон Антонио впервые постарался произнести слово «сынок» по-каталански, с более или менее сносным акцентом:
– Теперь вы можете радоваться, fillet. С этого дня я простой горожанин, и вы можете сколько угодно называть меня доном Антонио, как вам всегда хотелось.
Я заупрямился и ответил ему ехидным тоном:
– Я просто с ума схожу от счастья, генерал.
Вильяроэль поправил шпагу на поясе, словно меня рядом не было.
– Вы что, не слышали? Я вам больше не командир, теперь я для вас дон Антонио. Я долгие годы одергивал вас, когда ваш дерзкий язык произносил неуместное «дон Антонио», и вот теперь наконец ничто не мешает вам называть меня так. С сегодняшнего дня я для вас и для всех прочих не более чем обычный горожанин. Дон Антонио, если вам будет угодно. Понятно?
– Совершенно ясно, мой генерал. – Потом я добавил: – Впредь я должен обращаться к вам как к простому горожанину, генерал.
На один краткий миг на его лице мелькнула тень волнения. Грустные аккорды орудийных залпов подгоняли его мысли. Ибо я сейчас говорил за всех, кто его любил. Пока он возглавлял горожан, взявшихся за оружие, они считали его за своего, за такого же барселонца, как они сами. А теперь, когда он покидал Барселону, самый непочтительный горожанин обращался к нему в соответствии со званием, которое он, наш главнокомандующий, заслужил не столько своими воинскими доблестями, сколько моральным превосходством.
Такой человек, естественно, не мог позволить чувствам взять над ним верх. Вильяроэль заходил взад и вперед по комнате; от собственных слов он с каждой минутой только больше распалялся.
– Я изо всех сил, до полного изнеможения пытался убедить правительство, я предупреждал их о грядущих несчастьях! – кричал он. – Эта оборона превратилась в полное безумие. Останься я здесь, мне пришлось бы собственноручно отправлять моих солдат на плаху. А уезжая, я оставляю их на произвол судьбы. Разве я заслужил такое бесчестье?
Я попытался его успокоить. И тут он заговорил о том, ради чего и вызвал меня к себе:
– Я уже один раз, в Ильюэке, спас вас от плена, и сейчас у меня тоже нет никаких оснований отказать вам в помощи. Завтра мы будем на Майорке, оттуда отправимся в Италию, а потом ко двору. В Вене вам заплатят жалованье за все месяцы, за которые вы его не получили; если помните, я зачислил вас в королевские войска, а не в городское ополчение. Следовательно, вы не подчиняетесь городским властям и, поднимаясь на корабль, не нарушаете присяги и не дезертируете. А когда я займу пост в армии императора, мне понадобится инженер для моего генерального штаба.
Не успел я ответить, он добавил:
– У вас, как и у меня, есть жена и дети. На галиотах остается несколько свободных мест. Отправляйтесь немедленно за своими близкими. – И он жестом распрощался со мной, веля поспешить.
Заметив, что его приказ не возымел действия, Вильяроэль потребовал объяснений. Мне вспоминается мой ответ, словно эти слова произнес другой человек.
– Я не могу, генерал, – сказал я.
Он осмотрел меня внимательно с ног до головы, а потом устремил взгляд мне в глаза:
– Ничего не понимаю. Вы не похожи на этих смельчаков, которые стоят там на стенах. Почему же вы считаете нужным бесполезно жертвовать целым городом? Отвечайте!
Мне нечего было ему ответить, а потому я молчал.
– Вы так проголодались, что проглотили язык? – закричал он. – Почему вы вдруг отстаиваете смертоубийство, против которого всегда выступали? Почему? И это мнение человека, которого мне при Отступлении всегда приходилось силком тащить на позиции. Почему? Скажите, почему?
К моему огромному сожалению, я не знал, что ему сказать, и Вильяроэль потребовал:
– Одно слово! Скажите хоть одно слово, ради бога!
Одно слово. Семь лет спустя Вобан вновь задавал мне свой вопрос устами Вильяроэля. Я заморгал, сглотнул и попытался в каком-нибудь закутке своего мозга найти ответ. Безрезультатно.
Сам того не желая, я нанес новую рану его измученной душе. Потому что со мной говорил безупречно смелый герой, которого честь обязывала покинуть город. А между тем даже сам Марти Сувирия, этот Король Трусов, решил остаться в Барселоне. Такой контраст, вне всякого сомнения, причинил ему боль.
Я надел треуголку и в смятении собирался уже выйти из комнаты, не дожидаясь его разрешения. Он задержал меня:
– Подождите. Вы были рядом со мной во время Отступления из Толедо и в Бриуэге. И на протяжении всей обороны Барселоны. По справедливости вы должны теперь разделить со мной мое покаяние.
И покаяние это было нешуточным: до отъезда дон Антонио решил распрощаться со всеми войсками, стоявшими на городских стенах. Дон Антонио Вильяроэль, безупречный воин, должен был сказать этим людям, что покидает их в аду, а сам направляется в королевский дворец. И однако, никакая сила этого мира не могла помешать ему проститься со своими солдатами, даже если эти люди станут осуждать его, укорять или проклинать за то, что он оставляет их накануне страшного суда.
Мы вышли во двор, и кто-то одолжил мне коня. Когда мы одновременно сели в седла, дон Антонио слегка откинулся назад и сказал:
– Вперед.
В этом «вперед» я почувствовал стремление принять мученичество. Я и сегодня думаю, что этот человек всегда искал для себя исключительного конца, гибели в геройской атаке. А вместо этого судьба предлагала ему унизительное бегство через черный ход. Мы скакали бок о бок. Когда мы оказались около стен, я, нарушив все правила субординации, схватил его за локоть и сказал:
– Мой генерал, в этом нет никакой нужды.
Дон Антонио оскорбился и стряхнул мою руку:
– Оставьте меня! Я никогда не прятался от врага. Так буду ли я теперь скрываться от моих солдат?
Он пришпорил коня, и я последовал за ним. Сердце мое сжималось от тоски, но душа у меня болела не за собственную участь, а за дона Антонио. Лишь немногие знали причину его отъезда и понимали, что им движет не страх перед грядущими событиями, а то, что он не смог их предотвратить.
Мы подъехали к подножию стен. Каким-то чудом в этот момент на фронте наступила передышка. Едва солдаты, защищавшие Санта-Клару, Порталь-Ноу и куртину между ними, узнали о появлении Вильяроэля, они обернулись к нам и стали собираться наверху, на тыльной стороне наших полуразрушенных укреплений. Когда все эти тела сомкнулись в тесные ряды, дон Антонио захотел обратиться к ним с прощальными словами. Но не смог. Какая-то струна лопнула в его душе.
Конь генерала встал на дыбы, и Вильяроэль с трудом его сдержал. Потом сжал двумя пальцами переносицу, словно пытаясь совладать с волнением, и попробовал начать свою речь еще раз, но не смог произнести ни одного слова.
Бывают в жизни редкие минуты, когда время замирает. Наверху, на бастионах и на стене, стояли сотни людей, превратившиеся в живые скелеты. Они так отощали, что стали тоньше ружей, которые держали в руках, их щеки втянулись, образуя глубокие воронки. Треуголки на их головах продырявили пули и осколки, мундиры потеряли прежнюю яркость, ибо их покрывал толстый слой копоти и пепла, а манжеты так обтрепались, что, казалось, чудом держались на рукавах. От них исходил странный запах. Да, от них пахло падалью. Все, до последнего барабанщика, уже знали новость: их главнокомандующий уезжает. Что он мог сказать им на прощание? Сотни глаз устремились на дона Антонио.
Несколько бесконечно долгих недель над городом светило безжалостное солнце, которое никогда не скрывали облака, а тут вдруг с неба начали падать редкие, крупные и тяжелые капли дождя. И, несмотря на собравшиеся толпы людей, слышно было, как достигала земли каждая капля. От наших камней, раскалившихся за месяцы бомбежки, поднимался пар. Все замерли, не мигая.
Дон Антонио в третий раз сделал над собой усилие, чтобы найти нужные слова, и в эту минуту мне показалось, что кожа на его лице вот-вот треснет. Потом он молча обнажил голову и правой рукой поднял треуголку, приветствуя людей, собравшихся на стенах. Его конь нервно перебирал передними ногами. Вильяроэль постоял с поднятой рукой под редкими каплями дождя, но ничего не сказал, ничего больше не сделал. Ему не оставалось ничего другого, как уехать, а у солдат Коронелы не было другого выхода, кроме борьбы.
Дон Антонио пришпорил коня и поехал вдоль стен, по-прежнему держа треуголку в высоко поднятой руке, приветствуя ополченцев, которыми командовал все эти долгие месяцы. Я решил сопровождать его и направил свою лошадь так, чтобы оказаться справа от него, между ним и городской стеной. По глупости своей я думал, что, закрывая его своим телом, могу предотвратить выстрел какого-нибудь безумца, который захочет отомстить генералу-дезертиру. (Боже мой, как все изменилось с того далекого 1710 года, когда в битве при Бриуэге трусливый Суви старался ехать так, чтобы конь дона Антонио служил ему щитом от вражеских пуль.)
Я не успел еще догнать его, чтобы прикрыть справа; раздался страшный гул, и я поднял голову.
Барселонцы Коронелы – кастильцы, арагонцы, валенсийцы и немцы – все потрясали ружьями над головой. Они не проклинали Вильяроэля, а отдавали ему честь. То были нестройные крики, сливавшиеся в общий гул. Солдаты просто кричали его имя: «Дон Антонио, дон Антонио!» – и с каждой минутой их голоса звучали все громче. Дождь усиливался, и гул вместе с ним. Вильяроэль не мог этого вынести и пришпорил коня, чтобы избежать чествования. Я поехал рядом с ним и увидел нечто поразившее меня до глубины души: он плакал.
Дон Антонио умел плакать! Мне казалось, что такое зрелище столь же невероятно, как пляска дуба в лесу. Он заметил, что я вижу его слезы, и, словно оправдываясь, сказал:
– Мое единственное желание – остаться с ними, но честь не позволяет мне так поступить. Я не могу ими командовать, когда эта оборона превратилась в безнадежную и опасную затею, а не просто в отважную операцию; клеймо варвара, допустившего столько невинных жертв, было бы для меня невыносимо.
Мы удалились от стен; дождь не прекращался. Дон Антонио грустно погладил холку своего коня, стараясь его успокоить, и прошептал тихо, не обращая на меня никакого внимания:
– Пусть бы эти галиоты задержались, тогда я смог бы умереть рядом с ними, как простой солдат.
* * *
Дон Антонио простился со своими войсками 8 сентября, и до черного дня 11 сентября дождь лил не переставая, день и ночь.
Боже мой, как все изменилось после адской августовской жары! Этот дождь давал нам передышку. Он освежил нас и облегчил наши страдания; после долгих дней духоты мы как будто ожили. Порох отсырел, и бурбонская артиллерия была вынуждена прекратить бомбардировку города. Однако этот ливень придавал разрушенным городским укреплениям мрачный вид: мокрые почерневшие камни, заляпанные глиной, и пропитанные водой доски создают ощущение безысходности.
Бреши в стенах были огромными. Всего их насчитывалось пять: самая маленькая – шириной сорок метров, самая большая – семьдесят. Если сложить всю протяженность этих проломов, через них могли пройти строем одновременно до 687 солдат (не удивляйтесь точной цифре «687» – таким подсчетам научили меня в Базоше), а это означало, что таким путем при наступлении в город войдут приблизительно два полка.
Закрыть бреши не представлялось возможным. Мы уложили в них на земле сотни прямоугольных досок. В доски были вбиты длинные гвозди остриями вверх. Работавшие на укреплениях люди старались разбросать их как можно дальше, не слишком заботясь о том, куда они упадут, чтобы не подставляться под ружейные залпы. Таким образом мы усеяли бреши колючками.
Под сводом черных туч, мокрый до нитки, я продолжал руководить работой наших живых мертвецов. У них уже не оставалось сил, и мне стоило большого труда подгонять их, чтобы они хоть как-то закрыли огромные дыры в городских укреплениях. За каждой брешью мы выкопали ров, защищенный парапетом из фашин, за ним второй ров и второй парапет, и так далее. Парапетов получилось много, но все они были сделаны на скорую руку и не смогли бы долго выдерживать напор врага. Кое-где мы установили «оргáны», как защитники города называли изобретение одного местного Архимеда.
В основе своей это изобретение представляло собой деревянную платформу, на которой устанавливался десяток или полтора заряженных ружей. Тонкая бечевка связывала вместе все курки, поэтому даже такой хилый старикашка, как Перет, мог, потянув за один ремешок, разрядить против наступающих до пятнадцати ружей одновременно. Такая стрельба, конечно, не могла нанести неприятелю большой ущерб, но к этому моменту у нас уже было гораздо больше оружия, чем солдат. А вот еще одна последняя героическая затея.
В отсутствие дона Антонио руки у меня оказались развязаны. Я усвоил, что безнадежная оборона использует камни, плоть и кровь. Отчего бы нам не воспользоваться мощью стихий?
Я выбрал рабочих, которые еще сохраняли остатки сил, и собрал все остатки досок и бревен. Из этих материалов мы построили длинный канал, соединяя его фрагменты, как черепицы на крыше. Благодаря дождю у нас уже не было необходимости экономить воду из городских резервуаров, и мы протянули наш канал от самого большого резервуара до стены. Однажды ночью мы открыли заслон, и поток затопил все передовые позиции траншеи. Тысячи литров воды обрушились на боевые площадки и заструились по окопам, сметая на своем пути людей, фашины и оружие. Ночной потоп особенно страшен. Бурбонские солдаты не понимали, что происходит, и вдобавок разве имеет смысл палить из ружей по водопаду?
Передовая линия их траншеи превратилась в сточную канаву, и в отдельных местах вода доходила солдатам до пояса. Им пришлось потратить целый день, пока они откачивали грязную жижу из окопов. Целый день, еще один день жизни. Это была победа, пусть и краткая, но мы так изнемогли, что уже не могли радоваться.
Пока неприятельские солдаты барахтались в грязи, я пошел навестить Косту. Никогда еще я не видел его в таком отчаянии. И передо мной был он, Франсеск Коста, тот самый человек, которому для полного спокойствия нужна была только веточка петрушки.
– Ну хватит, Коста, – попытался я подбодрить его, хотя голос мой звучал неубедительно. – Мы столько перенесли не для того, чтобы сейчас опускать руки. Подготовь орудия и боеприпасы.
Но наш артиллерист продолжал сидеть под дождем с обнаженной головой, промокший до нитки. Он обхватил себя руками, словно человек, которого бьет лихорадка.
– Боеприпасы? Ты говоришь, боеприпасы? – Он выплюнул эти слова с ехидством. – Да у меня не осталось даже петрушки. Их проклятая траншея нас угробила.
Упоминание о моем детище больно меня ранило.
– Пушки! – рявкнул я и, забыв, что мы с ним на «ты», добавил: – Расставьте их за проломами и не думайте больше ни о чем!
Когда в городе царит отчаяние, слухи занимают место надежд. Пустые иллюзии. Говорили о том, что к Барселоне движется английский флот, что Австрияк отправил нам на помощь германский легион. Враки. Толпы отчаявшихся людей собирались на площади Борн в центре города и молились о спасении Барселоны. Глупости. В глубине души мы, оборонявшие проломы, ни во что не верили, мы просто сражались.
Хорошо еще, что дождь потушил вулкан артиллерии Джимми. Я же говорю: когда порох отсырел, они уже не могли вести бомбардировку. Вместо бомб нас осыпали угрозами и грубыми шутками. Их позиции были уже на уровне нашего рва, и мы слышали их крики. От развалин наших стен их отделяли какие-нибудь тридцать метров.
Самые смелые высовывались из-за боевых площадок на самом переднем крае траншеи и жестом показывали, как человеку перерезают горло, а потом, сжав кулак, двигали его взад и вперед. И говорили нам самым мрачным тоном: «Ça va être votre fête»[139]139
«Мы вам устроим праздничек» (фр.).
[Закрыть].
* * *
Я не спал всю ночь с 10 на 11 сентября, не мог спать. Не надо было родиться провидцем, чтобы понять, что решающий штурм может начаться в любую минуту. Предвидя его, мы отвели солдат от самых открытых врагу позиций. Группировать людей так близко от боевых площадок неприятеля означало подвергать силы обороны смертельной опасности. За позициями, которые могли подвергнуться самой яростной атаке, мы попытались создать свободное пространство, чтобы обеспечить возможность отступления тем, кому предстояло принять первый удар. Таким образом, между нашими линиями и позициями Джимми царила пустота.
Мне довелось видеть немало мест, подвергнувшихся бомбежкам, но этот пейзаж поражал очертаниями своих развалин. Обычно артиллерия, даже самая тяжелая, только пробивает крыши и разрушает стены. Силуэт при этом получается угловатый. Но когда бомбардировка ведется с такой силой и на протяжении столь долгого времени, края стен стачиваются, становятся округлыми и похожими на песчаные дюны, словно их тысячелетиями глодали ветры. Мелкий дождик продолжал моросить над лабиринтом разбитых бомбами и разобранных на части строений. Стояла темная ночь, луна пряталась в заплаканных тучах. Ноги мои скользили среди разбитых передков пушек, сломанных ружей, ушедших под землю плетеных габионов, чьи цилиндрические пасти пугающе раскрывались, точно рты утопающих. И повсюду виднелись тысячи наших досок, которые щетинились длинными гвоздями. Это было такое тихое, грустное и зловещее место, что даже всей моей науке не дано было сдержать мое воображение.
И тут, неожиданно и без всякого очевидного повода, меня охватило безумное желание вернуться в нашу палатку на пляже.
Амелис спала раздетая. Я разбудил ее:
– Где Анфан?
Она не столько спала, сколько пребывала в забытьи, в которое погрузилась от голода и изнеможения. Амелис открыла глаза, свои огромные черные глаза. Мне кажется, что я и сейчас там, в ночной темноте, в нашей нищей палатке на пляже. Амелис лежит нагая, вся в поту, а я стою перед ней на коленях, а потом обнимаю эти худые плечи, и мною движет не страсть, а желание защитить ее. Амелис горела в лихорадке, проснувшись от какого-то кошмара. Почувствовав мою руку, обнимающую ее тело, она улыбнулась, точно давно ждала этой встречи, и коснулась пальцами моей щеки.
– Марти, – прошептала она. – Ты пришел.
Это была слабая радость больного существа.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?