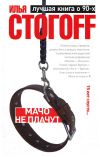Текст книги "Побежденный. Барселона, 1714"
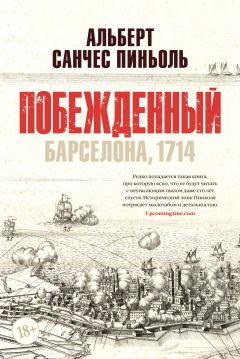
Автор книги: Альберт Санчес Пиньоль
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 42 (всего у книги 49 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
– Ради всего святого, Амелис! Где Анфан?
Если этого мальчишку убьют, все наши усилия пойдут прахом. Семь лет они провели в нашем доме, целых семь. И моя привязанность к этим людям основывалась не на каких-то возвышенных чувствах, а просто на скоплении будничных дел. Нет в мире ничего значительнее, чем миллион собранных вместе незначительных мелочей.
Наш разговор прервал артиллерийский залп, такой мощный, что палатка вздрогнула, словно желая взлететь над землей. Этот грохот мог возвещать только одно: начало общей атаки. Я надел треуголку и поспешил к выходу, но возле полотняной двери меня остановил ее голос: она что-то сказала, но слова ее мне не запомнились. Амелис упомянула Бесейте, тот маленький далекий городок на границе с Арагоном, где мы когда-то познакомились, спасаясь от французов-насильников и микелетов-убийц. От голода Амелис бредила. В полузабытьи она провела рукой по щеке и взмолилась:
– Марти, это же просто раздавленная малина. Не уходи, прошу тебя, это просто малина.
Она раскрыла мне объятия. Долг велел мне немедленно выйти из палатки, но эта женщина никогда не снисходила до просьб, а сейчас жалобным голосом, напоминавшим мяуканье котенка, повторяла: «Si us plau, si us plau». Я вернулся.
Она была так слаба, что приходилось обнимать ее очень осторожно, чтобы не сломать бедняжке ребра, – и это не преувеличение. Лицо ее покрывали капельки пота. И ужаснее всего было то, что я ничем не мог облегчить ее страдания. Она попросила меня дать ей сломанную музыкальную шкатулку. Завладев игрушкой, Амелис открыла ее. Само собой разумеется, музыка не заиграла. Но моя подруга улыбнулась и сказала:
– Слышишь? Мой отец придумал, как сделать такую шкатулку, и заложил в нее мелодию. Это он сам выбрал песню. Красивая, правда?
Мне никогда не нравилось лгать больным, поэтому я сказал:
– Мы починим ее, вот увидишь.
– Марти! – воскликнула она пересохшими от жара губами. – Скажи мне, что ты слышишь музыку!
Но нет, я ничего не слышал. Передо мной была только раздавленная коробочка, крошечный предмет, испорченный при бомбардировке вражеской артиллерии, среди миллионов других истерзанных и разбитых вещей. Я ничего не ответил, а только вздохнул. Она все поняла: высокая температура иногда жалует нас провидческим даром. Амелис посмотрела на меня своими бездонными глазами и произнесла:
– Хочешь, я скажу тебе кое-что, Марти? Ты бы перестал быть собой, если бы уловил эту музыку. Это твое преимущество, и в этом твоя ограниченность. Если бы ты захотел услышать нашу музыку, она бы для тебя зазвучала. Но ты не можешь, ты не веришь в нее. Ты даже не пытался ее расслышать, хотя она тысячу раз раздавалась рядом. – Потом она добавила: – Может, попробуешь сейчас? Шкатулка – простая коробочка, не более, она всегда может разбиться.
Я заставил ее посмотреть мне в глаза.
– Ради бога, Амелис, не уходи с берега. Что бы ни случилось, не уходи отсюда! И если под твоими ногами вдруг не окажется песка, немедленно возвращайся назад.
– Я позабочусь о ней, патрон.
Это был Анфан, который возник за моей спиной. Они с Наном только что вошли в палатку.
– Где тебя носило? – взревел я.
Анфан вздохнул, но взгляд его был лукавым и дерзким.
– Хоть раз в жизни послушайся меня! – закричал я. – Этой ночью и завтра утром никто не должен уходить с берега. Ни ты, ни Амелис, ни Нан. И отвечать за это будешь ты! Ясно?
Повышать голос, разговаривая с Анфаном, было бесполезно, поэтому я сменил тактику.
– Ты помнишь свою мать? – спросил его я.
– Ты сам прекрасно знаешь, что нет.
Я указал ему на Амелис, которая то ли спала, то ли лежала в беспамятстве, истощенная, и иногда бредила.
– Если бы тебе дано было выбрать себе мать среди женщин всего мира, ты бы стал искать для себя другую?
Он опустил глаза и посмотрел на Амелис. Нашу палатку освещал только усталый огарок свечи, ее слабое пламя мерцало. И если позволите, я скажу, что даже огоньку печальной, слабой свечи не чужды человеческие чувства.
О боже, каким прекрасным может быть любимое существо в своей болезненной слабости! Без Амелис мы бы никогда не оказались вчетвером и наша жизнь была бы иной, гораздо хуже, чем та, которую мы прожили вместе.
Анфан набрал в легкие воздуха, и тут я впервые услышал, что он говорит как мужчина, а не как мальчишка:
– Хорошо, патрон. Я о ней позабочусь. И что бы ни случилось, мы все останемся на берегу. Даю тебе слово.
Марти Сувирия, всегда весел и всем доволен! Всегда? Нет, не всегда.

15
Итак, после года с лишним осады наступило наконец 11 сентября 1714 года. Все началось с устрашающей артиллерийской атаки в половине пятого утра. Сразу же после этих залпов первая волна из десяти тысяч солдат двинулась к проломам в стенах. Десятки знамен, офицеры с саблями наголо, сержанты с алебардами, указывающие путь своим бойцам. Не думаю, что на нашей передовой было более пятисот – в лучшем случае шестисот – изможденных солдат.
Я не могу по порядку описать все, что случилось 11 сентября, и тоже не понимаю этого каприза памяти. Из самого долгого дня моей жизни в голове у меня высвечиваются только отдельные картины, и вместо подробного и хорошо построенного рассказа мне удается описать лишь отдельные сцены. Покинув нашу палатку на берегу, я углубился в городские улицы. Все колокола города бешено звонили. Всех охватило смятение. Да и могло ли случиться иначе, если пост главнокомандующего занимала Святая Дева? А тем временем бурбонские войска уже преодолевали стены, которые любой мальчишка мог разрушить одним ударом башмака. Когда рассвело, я поднялся на балкон дома Монтсеррат[140]140
Дом в районе Борн, сохранился до наших дней, хотя и был перестроен в 1864 году.
[Закрыть], дворца одного из сбежавших из города предателей: оттуда виден был почти весь участок, где шел штурм, от бастиона Порталь-Ноу до Санта-Клары. И увиденное мною было самым грустным зрелищем, какое только может открыться глазам инженера.
Все пространство, которое мы ценой таких усилий защищали на протяжении тринадцати – тринадцати! – долгих месяцев, было теперь захвачено ордами безмозглых рабов. Сплошной ковер белых мундиров расстилался в проломах – солдаты шагали строем с ружьями наперевес: en avant, en avant![141]141
Вперед, вперед! (фр.)
[Закрыть] Их было так много, что они могли себе позволить не обращать внимания на людей, которые еще стреляли в них с высоты стен. И это уготовила мне судьба? Для этого воспитывали в Базоше все мои чувства? Для того, чтобы я острее ощутил падение Барселоны, гибель целого народа? Чтобы в этот последний день нашей свободы мои уши услышали больше криков и стонов, мои глаза плакали сильнее, а мои руки еще отчаяннее хватались за борт тонущего корабля?
Вот одна из таких картин: остатки стен возвышаются, словно башни, разделенные огромными проломами. Через подзорную трубу мне виден узкий обломок стены между двумя брешами, через которые уже движутся тысячи врагов. Наверху остаются только старик и молодой парнишка. Старик заряжает ружья и передает их пареньку, а тот стреляет вниз, в толпу белых мундиров, которая уже затопила все пространство вокруг их островка. Но руки старика двигаются слишком медленно, и его молодой товарищ начинает бросать вниз ружья с примкнутыми штыками, точно копья. Новая картинка в круглой рамке моей подзорной трубы: второй эшелон бурбонских войск овладел этим несчастным островком, старик и паренек, израненные, сдаются. Солдаты вынуждают их встать на колени на краю пропасти и сталкивают со стены ударами прикладов.
Картины проносятся вихрем в моей голове, одна сменяет другую. «Оргáны», из которых стреляют в упор по врагам мальчишки, уничтожая целые ряды гренадеров. Солдаты Коронелы, бросающие гранаты, пока вражеские солдаты их не окружат: последнюю гранату они приберегают для себя.
Но в этом калейдоскопе картинок всегда возникает одна, затмевающая все остальные, возносящаяся над самой трагедией, – появление человека, который благодаря этому своему шагу навсегда запечатлелся в памяти праведных, – дона Антонио де Вильяроэля Пелаэса. Дон Антонио! Но почему он снова оказался в Барселоне? В это время ему бы давно следовало плыть в открытом море, а он неожиданно явился на совещание старших офицеров. Его зычный голос раздался в городе вновь.
Ему бы следовало отправиться в Вену, где он мог бы жить в спокойствии и достатке, ему были бы возданы все почести, его ожидало блестящее будущее при императорском дворе Австрияка. Но он был с нами. События развивались таким образом: Вильяроэль до последней минуты ожидал, что правительство возьмется за ум и назначит нового главнокомандующего. Но этого не случилось, и, уже направляясь к спасительному берегу, дон Антонио вдруг повернул назад и просто возвратился в город. Он прекрасно понимал, что сам выносит себе приговор, ничего не получая взамен. «О, если бы я мог погибнуть вместе с ними, как простой солдат!» – таковы были его последние слова. Откуда берутся подобные люди? Не знаю. Но когда встречаешься с таким человеком, невозможно его не любить.
Мы оказались наедине в кабинете на несколько кратких минут. Я растерялся и ничего не сказал ему, ничего не сделал. Мне и сегодня досадно, что у меня не нашлось в тот момент слов, чтобы объяснить ему, как важен для меня его поступок. Наверное, это никакого значения не имеет. За весь день дон Антонио ни разу не упомянул о своей жертве. И только в те минуты, когда никого больше рядом не было, он вдруг посмотрел куда-то вдаль, пригладил мундир на животе и сказал:
– К дьяволу эти галиоты.
В тот день, 11 сентября, глава нашего правительства Рафаэль Казанова тоже сыграл свою роль, но не мог сравниться с Вильяроэлем в его величии. Будь я человеком сердобольным, сказал бы, что Казанова представлял собой фигуру скорее трагическую, чем жалкую, и его терзали противоречия, обусловленные, с одной стороны, его собственными интересами, с другой – интересами государства, а с третьей – решимостью его народа продолжать борьбу. Но, к несчастью, сердобольностью я не отличаюсь, – если хочешь, чтобы твоя страна тебя любила, ты должен быть готов за нее умереть. Вильяроэль, даже не будучи каталонцем, сумел это понять лучше, чем все Казановы этого мира.
Вильяроэль приказал подготовить две концентрические атаки. Одной он предполагал командовать сам, а другую – под знаменем святой Евлалии – должен был возглавить Казанова. По традиции святое знамя покровительницы города могло появиться на его улицах только в часы страшной опасности. Можно ли было вообразить опасность более серьезную? Дон Антонио прекрасно знал, что образ святой способен немного поднять élan[142]142
Дух (фр.).
[Закрыть] изможденных барселонцев.
К сожалению, согласно правилам наступление под святым знаменем должен был возглавлять человек, занимавший наивысший политический пост в городе, то есть Казанова с его вечными сомнениями. На совещание правительства меня, естественно никто не приглашал, но, скорее всего, какой-нибудь грубиян приставил ему пистолет к пузу и заставил беднягу надеть мундир полковника. Военным не следует вмешиваться в политику, как и политики никогда не должны выполнять обязанности военных. Но поскольку Казанова формально являлся главой ополчения Коронелы, звание обязывало его надеть мундир с золотыми галунами, оседлать какую-нибудь клячу и возглавить атаку. Когда Казанова размахивал шпагой над своей треуголкой, имитируя воодушевление, которое было ему глубоко чуждо, он напоминал мне актера, скрепя сердце согласившегося исполнять нелюбимую роль.
Процессия отправилась из зала Сант-Жорди. Мы узнали об этом по реву толпы, собиравшейся на улицах. Повсюду, где проходило шествие, к нему присоединялись грязные, отчаявшиеся люди. С балконов и из окон руки посылали сиреневой святой поцелуи. Кстати сказать, возглавляли шествие солдаты Шестого батальона – портные, котельщики и трактирщики, чьи мундиры тоже были сиреневого цвета.
Мне вспоминается рядом со знаменем еще какой-то богатей из красных подстилок, до сих пор сохранивший свои алые одежды. Он кричал женщинам, вышедшим на балконы, чтобы спускались на улицы и присоединялись к жертвенной процессии, вместо того чтобы молиться. Я помню, что эти женщины так ослабели от голода, что не держались на ногах и, цепляясь за балконные перила, отвечали ему:
– Doneu-nos pa i hi anirem! (Дайте нам хлеба, и мы выйдем на улицы!)
Было, наверное, часов семь утра, когда я увидел, как они отправлялись на битву: остатки войска, смешавшиеся с вооруженной толпой. Знамя святой Евлалии играло теперь роль, испокон веков предназначенную любому флагу, – оно было знаком, под которым собираются те, кто объединен общим делом. Когда процессия стала достаточно многолюдной, впереди нее выстроился ряд солдат со штыками наперевес, и они отправились к стенам, чтобы отвоевать захваченные неприятелем бастионы.
Я должен сказать вам, что бывают минуты, когда даже самое каменное сердце смягчается. Ветер колыхал длинное прямоугольное полотнище, и казалось, что фигура святой Евлалии оживает. Над нашими головами плыла девушка – такая молодая и такая печальная. Знамя двигалось, развеваясь на ветру, навстречу мученической гибели, и глаза девушки словно смотрели на тебя и именно на тебя.
Еще одна картина того дня: мне вспоминается Коста, который следит взглядом за процессией со слезами на глазах, опершись на ствол незаряженной пушки.
– Ради бога! – закричал ему я. – Не плачьте, а поддержите их своим огнем!
Он покачал головой и показал мне пустые ладони:
– У нас не осталось пороха.
И эта пестрая толпа обученных солдат и разъяренных горожан пошла в наступление. Их задача состояла в том, чтобы очистить от неприятеля стены между бастионом Порталь-Ноу и Санта-Кларой. Было бы гораздо легче добраться до Гибралтара, взять там скалу и вернуться, чтобы выставить ее на всеобщее обозрение в церкви Санта-Мария дель Мар.
Джимми уже направил тысячи солдат и сотни саперов, чтобы укрепить занятые позиции именно на этом участке, чтобы дать отпор, если какой-нибудь безумец осмелится оспаривать его победу. Но трагедия заключалась в том, что туда направлялся не один, а сотни и сотни безумцев. Они следовали за знаменем плотной толпой и, стремясь прежде всего защитить свой штандарт, забывали стрелять по врагам. Это было ужасно. Их расстреливали из ружей и пушек со всех сторон, но они шли вперед под огнем, оставляя след из десятков убитых, и не останавливались.
Наконец они оказались на стенах, верхняя площадка которых была довольно узкой. Два передовых отряда столкнулись на ней, точно бараны. Еще одна картинка того дня: сиреневые мундиры нашего Шестого батальона вперемешку с белыми мундирами противника – идет штыковая атака. Против всех ожиданий защитникам города удалось преодолеть довольно большой участок стен, захваченных бурбонскими войсками. Толпа вокруг сиреневой девушки таяла, но ее спутники продолжали двигаться вперед, осыпая врагов проклятиями и скидывая их со стен.
В этот миг, к счастью, кто-то приказал мне отправиться к месту основной атаки неприятеля, и таким образом меня избавили от необходимости наблюдать за этим массовым самоубийством. Некоторое время спустя, когда схватка еще не кончилась, Казанову вынесли с поля сражения. Причиной тому было ранение в ногу. Мы видели, как он проследовал на носилках в больницу, и, хотя я, конечно, не хирург, мне показалось, что это была простая царапина. Бедняга, совершенно очевидно, не столько пострадал физически, сколько пал духом. Когда, увидев его, кто-то из нас поинтересовался положением дел, он поднял голову и сказал:
– Отправляйтесь, господа, поддерживать наших солдат, ибо их ждет множество опасностей, – и тут же забыл о нашем существовании.
Мы не знали тогда, что, пока ему накладывали повязку, его врач уже составлял свидетельство о смерти, чтобы Казанова мог сбежать из города. Не будем об этом.
Картины, картины, одна за другой. Баррикады на каждой улице, ведущей от стен в город, чтобы помешать бурбонским войскам продвигаться к центру. К своему удивлению, Джимми обнаружил, что, вопреки всем правилам полиоркетики, захват стен вовсе не означал конца штурма, а стал лишь прологом к основному сражению. При любой другой осаде защитники крепости уже выслали бы парламентера к осаждавшим крепость войскам. В Барселоне люди продолжали сражаться на улицах, каждый дом стал бастионом, а его окна – бойницами. Здесь опять понадобились мои познания инженера. Улицы города были так узки, что маленькую баррикаду можно было соорудить на них в один миг. Не успевали горожане построить парапеты, как солдаты уже устраивались за ними и начинали вести огонь по бурбонскому авангарду.
На одной из этих баррикад я встретил Бальестера. Он привел подкрепление на позицию, где я помогал строить заслон. Да, Бальестер – это еще одна картинка того 11 сентября. Этому дню предстояло стать последним в его жизни; он понимал это и – поверите ли вы мне? – был почти счастлив, заряжая свое ружье и стреляя без передышки. Бальестер вел себя как беспечный гуляка, который дал приятелям слово на этот раз на празднике напиться допьяна.
От порохового дыма, стоявшего в воздухе, нам слепило глаза, но Бальестер разглядел что-то и, оставив шомпол, потряс меня за рукав:
– Ваш мальчишка! И карлик! Они бегут между линиями! Смотрите!
Я поднял голову и увидел двух чертенят, которые бежали по пространству, разделявшему стены, уже захваченные бурбонскими войсками, и нашей улицей. Воздух пронизывали тысячи пуль, и я мысленно взвыл: «Ну почему вы здесь шастаете?» Всего несколько часов назад Анфан дал мне клятву и вот сейчас уже ее нарушил. Они бежали не очень уверенно, что было им несвойственно. Обычно эти двое передвигались точно две гиены, которые так четко знают свою цель, словно на морде у них компас. Потом они упали. Я увидел, как пули настигли их среди вспышек огня и клубов порохового дыма. Сначала Нан. Анфан остановился, хотел было вернуться к товарищу, но и сам упал, издав короткий крик, в котором звучала не столько боль, сколько удивление. Пули летели на нас градом; огонь неприятеля был так силен, что мне удалось только чуть-чуть выглянуть из-за баррикады. Нан и Анфан исчезли. Я дернул Бальестера за рукав.
– В них попали? – спросил я, рыдая. – Вы это видели, вы в этом уверены?
Бальестер посмотрел на меня, и его молчание было мне ответом. И тут мы услышали стоны. В шуме перестрелки раздался предсмертный, затихающий хрип: «Pare, pare, pare»[143]143
«Отец, отец, отец» (кат.).
[Закрыть]. Умирая, Анфан снова стал ребенком. Он упал в какую-то канаву, и я его не видел. Слова Бальестера только прибавили мне мучений, когда он сдержанно, грустно сказал:
– Он вас зовет.
И тогда все погибло. Конец света заключается именно в этом: сын называет тебя отцом в первый раз и происходит это за минуту до его смерти. И в тот миг внутренняя энергия, которая дает нам силы жить, неожиданно покинула меня. Довольно долго я существовал в пустой оболочке. На самом деле я не знаю, сколько времени я простоял на коленях, не в силах совладать с болью. Следующая картина, которая мне вспоминается, – лицо Бальестера прямо перед моими глазами.
– Вы должны идти со мной.
Вокруг нас грохотало сражение, но трагедия города показалась мне какой-то далекой помехой, лишенной всякого смысла. Мной овладело безумное и неприличное безразличие, меня разбирал смех. Пока Бальестер волоком тащил меня прочь, я насмехался над ним и надо всем на свете.
Мы двигались в тыл. Я увидел Перета, но мне не захотелось расслышать, о чем говорило мне его лицо. Мое состояние было похоже на то, в каком мы порой пребываем в болезненном забытьи, когда во сне нам сначала открывается истина, а уже потом наши глаза видят, что случилось. Не знаю, сказал я это вслух или только подумал: «Я же говорил этой женщине, чтобы она не покидала берега». Перет и другие привидения, окружавшие его, проговорили: «Марти, мы сейчас на берегу». Я опустил взгляд, потом упал на колени, и они действительно погрузились в грязный песок. И неизбежно в моей голове возник вопрос, который я должен был задать себе гораздо раньше.
О чем хотел предупредить меня Анфан? Какое важное событие заставило его броситься искать меня, хотя я сам категорически запретил ему уходить с берега? Передо мной лежало тело Амелис.
– Ее убила шальная пуля, – сказал какой-то старческий голос, который, может быть, принадлежал Перету.
У меня не было сил даже не верить в ее смерть: мы успели увидеть много трупов. Зеленоватые лунки ее ногтей не оставляли никаких сомнений. Даже Бальестер зажал себе рот кулаком. В тот день, 11 сентября 1714 года, страданиям пришлось становиться в очередь, чтобы проникнуть в наши души.
Я прижался щекой к ее щеке, которая уже холодела. Да, этот необычный холод означал смерть. И хладный труп не может ожить, нет. И однако, это случилось. Ее тело вдруг всколыхнулось, словно в нем сработала какая-то последняя пружина.
Все люди, окружавшие нас, отступили. Я увидел глаза Амелис, неожиданно широко открытые, а в них – весь наш мир, всю нашу жизнь. Правой рукой она вцепилась в мой мундир на груди и попыталась произнести какое-то слово. Я знал, что Амелис мертва, что она возвратилась ко мне, только чтобы сказать что-то важное, прежде чем исчезнуть навек. И ей это удалось: на один миг она вернулась с того света.
В моих разрозненных воспоминаниях здесь возникает пауза в битве. Все звуки стихли в ожидании того, что Амелис должна была нам сказать. Конечно, это только мое воображение. Я думал, что мы уже пережили все жестокие минуты, но оставалась еще одна: четыре самых страшных слова, которые может услышать отец.
– Martí, – взмолилась Амелис, – tingues cura d’Anfan[144]144
Марти, позаботься об Анфане (кат.).
[Закрыть].
И ее не стало – устало расслабилась скорее ее душа, чем ее мышцы.
Как можно смириться с тем, что ее просьба оказалась невыполнимой, что было уже поздно? С тем, что ее последнее желание приковывало меня к миру цепью невыносимых страданий? Амелис не могла знать, что Анфан погиб и что погиб он, желая ее спасти, пытаясь позвать меня на помощь. Даже Бальестер испытал ко мне сочувствие. Гримаса скорчила его щеки под густой бородой, и он отвернулся, чтобы на меня не смотреть.
* * *
Картины калейдоскопа. На следующей из них я стою возле большой братской могилы, Фоссар-де-лас-Морерас[145]145
Фоссар-де-лас-Морерас – место захоронения защитников Барселоны; оно сохранилось до сих пор, там горит вечный огонь.
[Закрыть], где хоронили погибших при обороне города. Бой продолжается с прежней силой, но я, отрешенный от всего происходящего, несу тело Амелис, прикрытое одеялом. Рядом со мной идет Бальестер. Один из могильщиков задал нам непременный вопрос:
– Из наших?
Правительство распорядилось не осквернять священную землю трупами бурбонских солдат. Я не удосужился даже ответить, а Бальестер погрозил ему кулаком, и этого оказалось достаточно, чтобы могильщик быстро удалился.
Я спустился в яму. Это был огромный кратер, куда складывали мертвые тела. Красные подстилки, люди весьма предусмотрительные, приказали вырыть такую глубокую могилу, чтобы там можно было уместить трупы в пять этажей. Но к этому дню осады гора трупов почти сровнялась с землей. Похороны Амелис сопровождал грохот орудийных залпов. Пока я, встав на колени, как можно осторожнее и бережнее укладывал ее тело в могилу, Бальестер прислушивался к шуму битвы.
Случайная пуля. Амелис выжила среди опасностей, насилия и нищеты, и вот теперь, когда все это осталось позади, ее убила случайная пуля, пустячный свинцовый шарик. Против моей воли во мне родилась уверенность: этой случайной пулей был я сам.
Я упал на колени и, безудержно рыдая, произнес:
– Их убил я. Амелис. Анфана. Карлика. Всех.
Бальестер закатил глаза и спросил:
– Можете объяснить, что за чепуху вы тут несете?
Я заговорил, всхлипывая, и слезы бежали по моим щекам:
– Бурбонскую траншею спланировал я. Когда был там, по другую сторону кордона. Я думал, что для города это будет наименьшее зло, но только сам себя обманывал.
Мне хотелось – и клянусь, это чистая правда, – чтобы он вытащил свой нож и перерезал мне глотку, как должен был это сделать еще в Бесейте. Мне стало яснее ясного, что семь лет, прошедшие с тех пор, были просто сном. Но Бальестер не стал меня убивать; мои слова пробудили в нем только раздражение.
– О чем вы говорите? – закричал он. – Кого теперь волнуют ваши мерзкие расчеты, таблицы и циркули? Высуньте наконец голову из чернильницы и идите сражаться!
– Я превзошел самого себя. И сделал это не ради города или своих близких, а только ради инженерного искусства. О такой траншее мог бы мечтать любой маганон. Передо мной стоял строптивый город, а у меня были все необходимые средства, чтобы создать совершенную траншею. И хотя я снабдил ее ловушками, мной двигало только одно желание – превзойти моих учителей, победить в состязании самого двоюродного брата Вобана. Я не устоял перед искушением, а потом придумал себе отговорку. Но после этого, чтобы искупить вину, у меня оставался только один выход: вернуться в обреченную крепость и принять смерть от собственного произведения.
Он хотел увлечь меня за собой туда, где шли бои, но я вцепился в него одной рукой и удержал:
– И знаете, что хуже всего? – Я посмотрел в глаза Бальестеру, ища в них свой приговор. Нет, скорее мне хотелось, чтобы он привел этот приговор в исполнение, и поэтому я продолжил: – Если бы я на самом деле любил своих близких больше, чем инженерное искусство, если бы во мне любовь взяла верх над тщеславием, я бы не стал проектировать никаких траншей – ни хороших, ни плохих. Честные люди никогда и никак не служат дьяволу – ни хорошо, ни плохо.
– Но вы нанесли дьяволу ущерб, – сказал он в мое оправдание. – Исказив детали траншеи, вы подарили городу несколько дней жизни.
– И какой от этого прок? Посмотрите вокруг. Если я выживу, то до самой смерти меня будет угнетать мысль о том, что виновником его гибели был я.
Бальестер покачал головой, но я настаивал:
– Где истина? В наших поступках или в тех чувствах, которые нами движут? А я знаю, что разработал эту траншею не из любви и не из патриотизма, а просто ради тщеславия. И вот теперь я сам подписал смертный приговор своим близким.
Мне казалось, что я выплачу все глаза, такие горькие слезы текли из них ручьем. Бальестер преклонил колено, сжал руками мои щеки и устремил свой грозный взгляд прямо мне в лицо. Мир рушился, и Бальестеру было известно – теперь я это точно знаю, – что мы говорим в последний раз.
– Знаете, в чем ваша ошибка? – сказал он. – Вы сражаетесь только за живых. Французы, испанцы и наши красные подстилки убили моего отца, мою мать, моих братьев и сестер. Я потерял столько родных и близких, что отомстить за всех не смогу. Мне это стало ясно. Боритесь не ради живых и не ради мертвых. Те, кто придет за нами вслед, возможно, проклянут наши деяния, потому что мы совершали ошибки, потому что мы потерпели поражение. Так вот, пусть им будет стыдно за то, что мы сделали, а не за наше бездействие.
Я все стоял на коленях, безутешно рыдая. Бальестер поднялся на ноги и с высоты своего роста вновь заговорил со мной. Мне показалось, что взрослый человек обращается в этот миг к мальчишке.
– Вы и вправду думаете, что ваша дурацкая траншея – пуп земли? Хотите знать, что я думаю? Я вам желаю, чтобы это и вправду было самое лучшее творение вашей жизни. Ведь если это не так, то какая наша заслуга в том, что мы тут сражались против толпы идиотов в белом шмотье?
Бальестер выразил мне свои нежные чувства единственным способом, доступным мужчине: он заставил меня подняться на ноги.
– Вперед, вперед! – подгонял он меня.
И мы вернулись к месту сражения. Мне кажется, я последовал за ним, потому что не имел ни малейшего желания пережить Амелис и Анфана. И триумф моей траншеи.
При отступлении некоторые части Коронелы укрепились в нелепой, незаконченной линии защиты – во рву за стенами, который по плану должен был остановить наступление бурбонских войск. Десятки ополченцев сгрудились на дне этого рва, где после дождя под ногами хлюпала грязь, и пытались стрелять, укрепив ружья на краю окопа. Волна новой атаки неприятеля захлестнула бы их, и все они оказались бы погребены под землей. Мы спрыгнули в окоп, глубиной более полутора метров, и стали их оттуда выгонять.
– Вон отсюда! Назад, назад! – Мы толкали их на бегу, на поворотах окопа, и наконец Бальестеру и его ребятам удалось вывести солдат наружу.
Я указывал им на первую линию улиц за нашими спинами и кричал:
– Туда, к домам! Занимайте их и стреляйте из окон!
Мы снова побежали по окопу, чтобы вывести остальных, и не заметили, как бурбонские солдаты достигли рва. Десятки, сотни белых мундиров прыгали в ров с примкнутыми штыками. Они двигались к улицам города от захваченных стен, и там был по меньшей мере целый полк. Барселонцы и французы кололи и рубили друг друга во рву и около него. Я захотел вылезти наружу и уже подтянулся на локтях, чтобы выскочить из окопа, когда кто-то схватил меня сзади за шею. Я упал в грязь на дне рва, и тут – никогда этого не забуду – в голове у меня возникла мысль: «И почему он просто не прикончил меня ударом в спину?» Ответ был прост: меня скинул обратно в ров не кто иной, как мой старый приятель, капитан Антуан Бардоненш.
Он очищал ров от мятежников с командой французов, которые с примкнутыми штыками следовали за ним. Даже для него этот день оказался тяжелым. В первый раз в жизни его всегда белоснежный мундир казался грязным, на нем засохли кровавые брызги, лицо было испачкано сажей.
Он направил мне прямо в нос клинок своей шпаги и сказал:
– Mon ami, mon ennemi. Rendez-vous[146]146
Мой друг, мой недруг. Сдавайтесь (фр.).
[Закрыть].
– Ah, non! – ответил я оскорбленным тоном человека, которого принуждают оплатить чужой долг. – Ça jamais![147]147
О нет!.. Этого не будет никогда! (фр.)
[Закрыть]
Нет, вы все правильно прочитали: трусливый заяц Суви-Длинноног отказывался сделать то, к чему призывал с самого начала осады. У меня не было с собой даже шпаги Перета, а потому мой благороднейший маневр состоял в том, что я швырнул ему в глаза пригоршню земли, рассчитывая ослепить его на несколько мгновений и смыться. Его команда, вооруженная штыками, сражалась с ребятами Бальестера. Бардоненш вытер лицо и бросился за мной вдогонку. На одном из поворотов рва я споткнулся о труп, выхватил у него из рук ружье и, задыхаясь, приготовился защищаться штыком, точно копьем. Бардоненш остановился, вздохнул и сказал:
– Не делайте этого.
Бедный Бардоненш, бедный я, бедные все мы. На лице Антуана появилось выражение не только печали, но и глубокого сочувствия. Я, само собой разумеется, чувствовал себя как крыса, которую загнал в ловушку тигр. Вообразите себе ноль размером с Луну. Таковы были мои шансы победить в схватке Антуана Бардоненша, лучшего фехтовальщика Европы.
Я до сих пор считаю, что Марти Сувирия должен был погибнуть в тот день, 11 сентября, в грязном рву. Но тут Бальестер, точно пантера, спрыгнул с края рва вниз, упал на Бардоненша, и оба покатились по земле. Я был не настолько глуп, чтобы не воспользоваться такой прекрасной возможностью, а потому напряг свои длинные ноги и выскочил из рва.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?