Текст книги "За желтой стеной (сборник)"
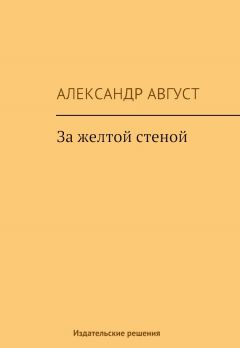
Автор книги: Александр Август
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
Петя слышит свою любимую команду, выпрыгивает из-под одеяла и скачками, по-заячьи, несется в сторону туалета. За Петей слезает с кровати Миха, и, напялив на себя то, что здесь называют пижамой, идет следом.
Виктор расталкивает залежавшегося «овоща», затем пытается то же самое сделать со Стасом, который отнекивается и наотрез отказывается вставать. Не справившись с ним (и с поручением санитара) Виктор идёт к туалету. Краем глаза он успевает заметить, как санитар пинками поднимает Стаса и гонит в одном направлении со всеми.
Дверь в туалет нараспашку. Изнутри несет жутким холодом и запахом хлорки, смешанным с запахами испражнений. У двери стоит второй санитар с коробкой, в которой разложены личные сигареты пациентов. Санитар спрашивает у входящего, есть ли у того курево и, порывшись в коробке, выделяет обладателю драгоценных сигарет одну штучку из его же запасов. Тем, у кого ничего в этой коробке нет остается надеяться на бычок от щедрости кого-нибудь из «богатеев».
Но и «богатеям» не все сладко. Бывает, что кому-то вдруг объявляют, что нет у него сигарет. Нет и баста! Скурил! Доказать свою правоту невозможно. Всю бухгалтерию по сигаретам и передачам ведут сами санитары. И если они поживились за чей-то счет, то тут никаким криком не поможешь. Но кричат, требуют вернуть. Требуют вызвать врача. Санитары впадают в праведный гнев: «Раз хорошего не помнишь, то больше вообще ничего не получишь. Сиди без курева! «.
Врач, если и влезет в эту разборку, то все перевернет с ног на голову:«Так ты, оказывается, не помнишь, были у тебя сигареты, или нет! «. И назначит что-нибудь дополнительно из нейролептиков – «для памяти».
Спокойнее будет, если молчишь. Вот все и молчат. «Выступают» редко и только по одиночке: бунтов в дурке нет и никогда не бывает. Всем известен результат: привяжут к кровати и уколют. Пропала передача или сигареты – молчи! Лучше уж попросить, чтобы курнуть оставили. А такие как Петя всегда могут заработать эту сигарету – нужно лишь отдраить туалет…
Стас входит в туалет последним. Санитар впихивает его, утрамбовав вместившихся до предела: сорок человек в помещении пять на четыре. Потом он дает прикурить ближайшим пяти пациентам, тем, что стоят у самого входа. И сразу закрывает дверь. Остальные уже прикуривают друг у друга.
Сигаретный дым поднимется к потолку. Он сгущается там, превращаясь в ядовитое облако, которое под своей тяжестью медленно двигается вниз. Постепенно оно закрывая всех. Санитар, наблюдающий через дверное окно, щелкает выключателем. Вентилятор, установленный в окне туалета, начинает реветь и стучать по решетке. Все иные звуки сразу же исчезают.
Все знают, что нужно успеть не только курнуть – на всё про всё санитарами выделено тридцать минут. За каждую следующую минуту будут матюги и подзатыльники. Петя Дюрин собрал уже с пола и из помойного ведра брошенные туда окурки. Все ждут. Наконец, дверь открывается и с коридора на иззябших людей тянет приятным теплом.
– Ну, все готовы? – спрашивает санитар и, встав на цыпочки пытается заглянуть через головы. – Выходим все! – приказывает он и предупреждает, – Окурки с собой не брать, по карманам не прятать! Если у кого-то найду, в репу получит!.. – А ты подожди, – говорит санитар Виктору и показывает рукой в сторону, продолжая считать выходящих.
Выпустив последнего, санитар приказывает идти за ним. Они идут мимо центрального выхода в служебный коридор. Санитар останавливается у палаты, что напротив процедурки. В такое счастье Виктор поначалу даже не верит.
Это «телевизор» – единственная на всю дурку комфортабельная палата. Она с унитазом и всего на три кровати. При необходимости её, конечно, могут сделать и «резиновой», но случаются такое не часто. А пока здесь очень уютно. Все понимают, что «телевизор» существует не для удобства дураков, а совсем наоборот – для удобства персонала. Здесь, за дверью «телевизора», с его огромным смотровым окном не только постоянно патрулируют санитары – здесь крутится вообще весь персонал. Раздевалка, каптерка, врачи, процедурка – все рядом. Это сильный, но терпимый недостаток для сидящих тут. Они вроде бы и не в надзорке. Но все же под усиленным надзором…
Виктор впервые в этой палате и все ему здесь интересно. Появляется санитар с его матрасом, и Виктор начинает устраиваться, поглядывая на соседа сопящего на кровати напротив. С людьми из «телевизора» в туалете не сталкиваются и о них мало что знают. Но «колесника» Женю знает все отделение.
Жене всегда не везёт. В этот раз он «влетел» самым смешным образом – потерялось у него где-то в карманах колесо родедорма. Сам Женя найти его не смог, а санитары обнаружили сразу и даже не на шмоне, а при осмотре карманов в поисках окурков. В результате мокро-влажное обертывание с аминазином в тандеме. Потом «телевизор». Женя был крайне возмущен:
– В конце концов, – орал он врачу на обходе, – меня же не с маковой соломкой поймали, а с вашими же колёсами!
За это Жене продлили аминазин еще на неделю и он давит подушку круглые сутки. Других соседей в палате пока что нет…
***
Виктор дремлет и сквозь сон слышит какой-то шорох в углу у двери.
«Колесник возится, – сквозь дрёму мелькает в голове ленивая мысль.»
Потом, словно подтверждая догадку, раздается звук упавшей крышки от унитаза и следом – шорох бумаги.
Он сонно поднимает голову и осматривает палату. Здоровенная усатая крыса пристроилась у самой двери и что-то тщательно пережевывает, держа свой ужин между передними лапами. Она так ловко пристроилась, что из дверного окна заметить её совершенно невозможно.
Виктор сорвался с кровати и заорал на всю палату, а крыса, мелькнув хвостом, тут же исчезла неизвестно куда. Тут же в дверном окне появилась заспанная рожа санитара. Через секунду за ним замаячила медсестра.
– Ты чего? – спрашивает санитар.
– Так… это… – Виктор даже растерялся. – Крысы… бегают!
– Где? Какие крысы? – возмущается санитар.
Зашевелился Женя, вырванный этим шумом из аминазинового сна.
– Крысы были? – спрашивает у него санитар.
– Кры-ы-сы?.. – удивленно и сонно переспрашивает он. – Не-е-е, только вы…
– Ты, остряк-самоучка… – психует санитар. – Я сейчас дверь открою и покажу вам крыс!..
– Да приснилось ему что-то, – успокаивает санитара медсестра. – А ты, – кивает она Виктору, – ложись. Спи. Или укол сделаю. И ты спи, – грозит она пальцем Жене.
Весь остаток ночи Виктор молча наблюдал за тем местом, где так странно появилась и исчезла крыса.
Но в эту ночь она больше не появилась.
Она пришла в следующую ночь и не одна, а с подружкой. Виктор готовился к этому визиту и специально разложил перед дверью старую газету. Он должен вовремя услышать шорох. Сейчас он ждал ее во всеоружии: тапочки лежали под рукой, на кровати. В цель они полетели сразу, один за другим. Но и на этот раз он промахнулся, а крысы, как и в первую ночь, исчезли неизвестно куда. Они словно растворились в воздухе.
На стук сразу появился санитар.
– Чего надо?..
– Да я крыс… гоняю… тапком кинул, – оправдывается Виктор.
Санитар открыл дверь и вошел.
– Какие крысы в палате? – спрашивает он раздражённо и подозрительно. – Где?
– Так… не знаю. Но были же, я сам видел…
– Но если были, где они? Куды подевались-то? Нет ни одной щели, куда можно было бы смыться! Тут даже мыши спрятаться негде…
– Ну, не знаю… были… Мне самому непонятно…
– Почему другие их не видели?
– Откуда я знаю…
– Ну, хорошо, – санитар косит на него подозрительным взглядом и захлопывает дверь.
На следующий день сразу после завтрака санитар привел Виктора в процедурку. У окна, кроме медсестры, топчется дневной медбрат. Обязанности у него нехитрые: быть рядом с «процедурами» и помогать персоналу в их проведении. Зовут его Виктор Гаврилыч (тезка) . В народе же он известен как Гавнилыч.
Гавнилыч всегда рад поучаствовать в какой нибудь «медицинской акции». Если где-нибудь (хоть и на другом этаже) мелькнет тень какого-то неповиновения – он тут как тут. Он всегда там, где мордобой и физическая расправа. Он все конфликты нюхом чует. Когда-то Гаврилыч работал в должности старшего фельдшера больницы. Но за любовь к различного рода силовым «акциям» был понижен до рядового медбрата…
Если бы Гаврилыч родился лет пятьсот тому назад, он непременно стал бы палачом. Но в наше время это уже умершая профессия. Правда, таких как он еще можно встретить в дурках. На Сычах заправляет Фанера, на Питерском спецу – Электрик и рано ушедший из жизни Валерьяныч. Они хранят и передают молодому поколению секреты своего заплечного ремесла.
При виде Гаврилыча Виктор мрачнеет.
– Садись вот на стул и руку оголяй до локтя, – медсестра не даёт времени на размышления (она уже держит в руках наполненный шприц) .
– Давай, шевелись, – толкает к стулу санитар.
Спереди, зажимая «в клещи», медленно наезжает Гавнилыч. В руках у него свернутое веревкой полотенце. На всякий случай. Если потребуется – вот она, готовая удавка…
Игла входит под кожу без боли. На нее сейчас лучше не смотреть. И не думать о том, что вливается в вену. Хорошего не вольют. Но всегда остается надежда, что и совсем плохо не сделают…
В голову ударяет тёплый шар, который сразу смещает все предметы в комнате. Все вокруг перекосилось и выглядит очень смешно. От смеха Виктор дергается и медсестра настороженно поднимает глаза:
– Чувствуешь что-то?
Виктор отрицательно мотает головой.
– Ну, когда вы справитесь? – слышен откуда-то из-за спины санитара голос заведующего.
– Сейчас, – отвечает ему медсестра.
Смеятся и говорить хочется неудержимо.
«Растормозка», – мелькает запоздалая догадка. Надо было «отрубиться», чтоб содержимое шприца не вводили полностью. Упадешь и выключишься – всё тут же остановят. Это ведь не карательная акция. Им сейчас не труп нужен, а «язык». Разговорчивый и самостоятельно передвигающийся «язык»…
– Ты слышишь меня или нет? – снова раздается голос медсестры, – Говорить можешь? Что чувствуешь?
– Весело, весело, весело, – бубнит Виктор. Он старается сконцентрироваться на этом слове. Когда-то от мужиков авторитетных слышал: не отвлекаться во время растормозки. Бубнить одно слово и ни на что больше не реагировать. Тогда есть шанс не проколоться. Но слова и смех сами рвутся наружу:
– Весело, весело, весело…
– Ведите, – машет рукой медсестра.
Гаврилыч и санитар хватают его за руки (каждый за свою) и волокут во врачебный кабинет. Сажают на стул. Виктор смотрит сквозь приоткрытые веки и бубнит:
– Весело, весело, весело…
– А почему весело-то? – улыбается Марк Владимирович, пытаясь заглянуть Виктору в глаза. С правого боку от него сидит ординатор отделения Галина (сейчас Виктор никак не может вспомнить её отчество) . Совсем неприметно в самом углу пристроился главный врач. Он сидит как-то отдельно ото всех. Как простой зритель, который к «медицинской акции» никакого отношения не имеет…
– Так весело же, – корчит из себя идиота Виктор.
– Ну, давай поговорим, – предлагает Марк Валадимирович после некоторого молчания.
– О чем?
– О лечении. О твоем здоровье… Согласен?
– Так уже говорим, – «гонит» свое Виктор и откидывается на спинку стула.
– Ты нам скажи, – неожиданно начинает Галина, – у тебя сон хороший?
– А что?.. Не жалуюсь…
– А как же так? – Марк Владимирович снимает очки и задумчиво протирает их. – Как же с крысами? Ведь приходят? Ночью? И спать мешают? – он надевает очки и пристально смотрит Виктору в лицо.
– Приходят.
– А почему этих крыс никто кроме тебя не видит? Почему они только тебя посещают?
– Это вопрос не ко мне. Это, пожалуйста, к крысам. Вы же мне все равно не верите…
– Почему не верю? – фальшиво возражает Марк Владимирович и разводит руками. – Верю… Скажи, а в прошлом они к тебе приходили?
– А крысы молча приходят? Или они издают какие-то звуки? – наезжает с другого боку Галина.
– Шуршат бумагой. И пищат. – Виктору смешно от этого допроса.
– А они обычных размеров? Или меньше?
– Обычные крысы… Обычных размеров.
– А куда же они из палаты уходят? Там же бетонные стены? И бетонный пол?.. Куда?
– Откуда я знаю… Вот была и тут же исчезла…
– А раньше ты голоса слышал? Людей вокруг нет, а голоса слышны. Было такое?
– Было…
– Расскажи! Когда, где?
– По радио случалось, – хихикает Виктор.
– А голова у тебя болит? – гнёт свое Галина. – А дома ты водку часто пил?
– Как все, – пожимает Виктор плечами.
– Утром опохмелялся? – Галина начинает сужать круги.
– Нет.
– А как ты сам считаешь – неожиданно «молвит» Марк Владимирович. – Ты здоров или болен?
– Здоров, наверное.
– Но ты ведёшь-то себя как! – восклицает доктор. – Крыс видишь. Почему их другие не видят? Воюешь с крысами. Здоровые люди так себя не ведут…
– Но я же не виноват, что крысы в палате… Я сам их боюсь…
Голова после «растормозки» постепенно встает на место.
– По-моему, всё ясно, – Марк Владимирович откидывается на спинку стула, обращаясь ко всем присутствующим. – У вас есть еще к нему вопросы? – спрашивает он у Галины.
– Нет.
– Уведите, – распоряжается доктор. – В свою палату.
Гавнилыч уже тут как тут. Он явно разочарован, что все так спокойно закончилось, и, схватив Виктора за руку, тащит его на выход. За другую руку тащит санитар…
***
После кабинета Виктора оставили в покое, но ненадолго. Минут через пятнадцать туда врывается Гаврилыч в сопровождении санитаров. У всех наготове ремни, простыни и другой пыточный инвентарь.
– Этого в другую палату, – Гаврилыч пальцем показывает на Женю.
Тот не испытывает судьбу и быстро собирает в кучу свои манатки.
Из-за спин санитаров выглядывает медсестра с наполненным шприцем.
– Раздевайся, – приказывает медбрат. – Нижнюю рубашку можешь оставить. А подштанники сними. И на кровать. На спину. Распоряжение такое есть: ограничить тебя. И укольчик. Противокрысиный, – улыбается он…
Санитары тоже улыбаются и, не тратя времени на пустые разговоры, начинают вязать.
Укол медсестра ставит в бедро, а не в ягодицу. Так удобней, потому что больного не надо кантовать со спины на живот. Вытаскивая шприц, она хихикает:
– Когда развяжут, ты мне поймаешь парочку крыс… На шапку…
***
Ужинать он отказался. Слабость от укола была такая, что немыслимо было оторвать голову от подушки. Во рту скопилась какая-то горькая гадость, которую не получалось ни сглотнуть, ни выплюнуть…
Виктор дремал в ожидании вечернего укола, пребывая в вязком нейролептическом кошмаре, откуда и выкарабкиваться бесполезно… Да и сил на это не было… Как открывали дверь, он не слышал. Очнулся лишь когда медсестра уже вошла в палату, но вдруг, уронив на пол шприц, она пулей ринулась обратно.
Даже отсюда Виктор слышал, как она повизгивает там, в коридоре и рассказывает про здоровенную крысу: «Коричневая такая… с усами и с грязным хвостом», которая скрылась в унитазе…
Сочинение
Cанитар, спавший в углу на стуле, поднял голову, зевнул и потянулся. Потом бросил взгляд на часы – маленькая стрелка подбиралась к цифре шесть: в семь подъем, там уже завтрак и недалеко смена – пошевеливаться пора!..
– Ну-ка ты, олух царя небесного, швабру быстренько в руки и мыть полы! Быстро, быстро! Я кому говорю! – дал подзатыльник Ласкову и за ногу стащил с кровати на пол. – Чтоб все блестело на отделении! И не забудь: в школу сегодня! Сочинение еще за тобой и алгебра, помнишь?
Ласков охнул, почесывая ушибленный затылок, и, встав на четвереньки, ужом нырнул под кровать, пытаясь на ощупь отыскать два здоровенных окурка и целую спичку, спрятанные там с вечера. Потом молчаливой тенью прошмыгнул мимо санитара в туалет и закурил.
Жизнь сразу перестала казаться отвратительной. Сон пропал, и мысли потекли спокойно и неторопливо.
«Ну что, козел, привязался? Третью смену подряд, дает, гад, одно и то же задание: сочинение на тему „Как я сюда попал и как мне здесь живется‟. И всегда его что-то не устраивает: то слог, видите ли, не тот, то ошибок много. Эстет хренов! А потом по отделению ходит и всем показывает… В прошлый раз орал: алгебра, алгебра! А когда ему сказал, что гипотенуза – это из геометрии, а не из алгебры, заставил возить его верхом по всем палатам и ржать… Козел»
Ласков докурил окурок до того, что тот прижег губы и, сплюнув от боли, с сожалением бросил его в унитаз. Посмотрел внимательно на окно в двери – не наблюдает ли санитар – и запустил руку в стоящую рядом урну в надежде отыскать новый. Не найдя ничего, нехотя поплелся за шваброй: полы-то полами, а сочинение к концу смены не закончишь – по шее точно получишь.
Шваброй немного повозил туда-сюда, чтоб хоть немножко сыро было – ну, чего там мыть-то? Ночью ж никого в туалет не пускают. Он же до утра закрыт! – и в палату быстренько за авторучкой и бумагой (санитар с вечера снарядил в школу) . Потом устроился в столовой, пока там никто не ползает и не мешает, разложил перед собой бумагу и, взяв в рот авторучку, задумчиво уставился в потолок.
«Сочинение Ласкова Сергея Сергеевича… Я что… Вообще погода давно стоит хорошая и поэтому жевать легко».
Он перечитал написанное, состроил недовольную гримасу и, вырвав из тетради испорченный лист, смял его. Слова, которым было так легко и свободно в голове, упорно не хотели ложиться на бумагу, и иначе как муками творчества назвать это было нельзя…
«Сочинение Ласкова Сергея Сергеевича, – начал он снова. – Я вообще пишу всем, санитар все равно покажет. Ну и пусть… Я поступил в больницу в шестьдесят шестом году. Мать меня привезла, говорит, больной ты и надо подлечиться. В больнице мне хорошо: здесь меня кормят, моют, одевают и бьют. Но это, когда что-то делаю не так. В обед нам дают суп и кашу. И из передачи что там есть. Вот такая вот у нас жизнь…»
Он снова взял ручку в рот и уставился в потолок, словно желая отыскать там исчезнувшие слова и удивляясь тому, что забыл, как сюда поступал.
«Вообще, мужики, не знаю, что и писать-то… Ну, как мне здесь живется? Известное дело как… И я, между прочим, ему, дураку, могу рассказать не только, как поступал…»
Ласков остановился и внимательно перечитал уже написанное. Потом скривил рот словно от зубной боли и жирно зачеркнул слово «дураку», так, чтобы прочесть было нельзя: подай ему не замазав, так он не только верхом проедется, но и простыней взнуздает…
«Вот, к примеру, кто скажет, в чем основное отличие жизни здесь и там, у вас? Ага, молчите, а я отвечу: у вас тысячи маленьких проблем, а здесь одна большая. Она все место занимает – дурдом. И давит она постоянно со всех четырех сторон, и самое главное здесь: не дай бог, если ты останешься один, без родственников, – тогда тебе хана… А я вот остался… У вас к человеку относятся как? Да одинаково, не важно, есть у тебя кто или нет… А тут только с позиции силы и возможностей. А какие у меня возможности, если нет родственников? Сам я не могу ни сходить куда-то, ни написать – все только через доктора да через доктора… А доктор что? Вот один товарищ у нас несколько лет назад взбунтовался, не помню уж из-за чего. От пищи отказался и прокурору написал. И что? Вызвал его тот самый врач, обозвал как-то обидно, ипохондриком, кажется. «А все жалобы твои, – говорит, – бредового содержания. А раз так, будем лечиться!» Но лечиться здесь, мужики, значит совсем другое. Это не то, что вы думаете, а совсем даже наоборот. А все потому, что у того больного никого не было, вступиться никто не мог. Так вот, когда я это понял, я и стал таким: мой полы – мою, вози верхом – вожу».
Ласков остановился, и, шевеля губами вслед за указательным пальцем, перечитал написанное. Вздохнул и пересчитал оставшиеся листы чистой бумаги. Почесал затылок и засопел дальше.
«А – а-а, я и забыл, что тема у меня совсем другая. Как я сюда попал и как мне живется. А как? Мать привезла меня тогда и уехала. А потом померла. Меня-то куда? Определили в психохроники. И в интернат. А там чего? Говорят: «Лечиться и жить хочешь – работай. Это трудотерапия у нас называется. Будешь работать – будешь здоров, и, значит, мы тебя лечить не тронем».
Поставили на пилораму. Доски таскать. И бревна. А мне чего-то очень тяжело стало от тех бревен. Я и отказался. И в побег ушел. Поймали. Да еще и спрашивают: «А чего убежал-то?» Как будто сами не знают! Сначала молнии и искры по проводам передают и этим мне жизнь портят, а потом еще спрашивают!..
А кому, интересно, понравится доски и бревна бесплатно таскать? А за отказ к кровати привяжут на месяц и в жопу всякие инородные предметы начнут запихивать, называя все это «лечением»… Потому я и сдернул. А они говорят: «Ты дурак, и пилорамой тебя все равно не вылечишь.» И сюда отправили. А тут я и задержался. Даже можно сказать застрял. И теперь меня так и гоняют: тут я им надоем – в психохроники отвезут на полгода (на пилораму или еще куда поставят полечиться) , А как начну филонить – меня снова сюда санитаров возить и полы мыть. Потому как домой нельзя – им там самим тесно и меня к себе не хотят…»
Ласков задумался, но вскоре тряхнул головой, отгоняя ненужные мысли и вернулся к прерванному занятию.
«Вообще-то, мужики, я ему сочинение пишу и полы мою не задаром, не запросто так: дураков-то и в дурдомах уже нет, а времена субботников давно прошли. Вот помою полы на коридоре и в туалете – он мне курить что-нибудь выделит или, по крайней мере, в туалет будет выпускать. А этого разве мало? Ну, а за сочинение плата будет отдельной: я когда ему «контрольную» по алгебре сдал, они всей сменой собрались вместе и долго ржали. И тут же мне пожрать организовали – супчику там и хлеба немного. И курить, конечно. А уже потом, через два дня, когда он смену следующую принимал, накинул на меня покрывало с кровати, как попону на лошадь и отделение на мне верхом объезжал. Это, говорит, круг почета за хорошую контрольную. Он ее своей жене показывал, а она, говорит, смеялась. Только что смешного может быть в алгебре? Наука-то серьезная. А попробуй выступи и скажи, что нет, сочинение писать не буду, алгебру тоже, а полы мыть вы сами обязаны. И нечего дедовщину в дурке разводить! Что будет, знаете? Ого-го-о! Я один раз так и сказал ему: и про дедовщину, и про полы, которые он ни разу не мыл. А что он мне в ответ, догадываетесь? А тогда, говорит, без дедовщины: мы все по уставу сделаем, а устав для тебя я сам придумаю! И придумал. Но об этом, мужики, на трех страницах не рассказать и в этом сочинении не уложиться – это целый роман о моих приключениях! А что я мог сделать? В надзорной палате санитар сидит круглосуточно и за нами наблюдает, и от него под одеялом не спрячешься – вытащит! И так двадцать четыре часа».
Ласков снова остановился и принялся внимательно перечитывать написанное, исправляя грамматические ошибки: за каждую, предупреждал санитар, будешь наказан. Потом посмотрел на оставшуюся бумагу и вздохнул с сожалением. Вот так всегда: пришло вдохновение и – заканчивай!
«Я что-то отвлекся, мужики, и не о том. А чего там еще рассказывать, как поступил? Все ж всем известно… Давайте-ка лучше расскажу вам, как первый раз в жизни голосовал. Вот вся жизнь у меня, считай, прошла в дурдомах, а такое лишь раз было. До сих пор вспоминаю. Потом еще много раз голосовал – за мэра и губернатора и даже за президента. А вот первые свои выборы забыть никак не могу. Меня тогда, после них, неделю привязанным держали и уколами в себя приводили – вот это впечатление так впечатление!
Раньше-то я о таком и подумать не мог. А если б на выборы попросился, сказали бы, совсем чердак съехал, лечить его надо! А тогда вдруг все заговорили о злоупотреблениях советских психиатров в политических целях, и, пожалуйста, голосуйте, Сережа, на здоровье! Гласность все-таки и, значит, демократия.
Ну, вот, значит. Жил я тогда, как и сейчас, в надзорной палате – я в ней всегда живу, в другую меня почему-то не переводят. Боятся, что ли? Ну, вот. Живу, значит. И прошусь у санитара, чтоб выпустил.
– Куда? – спрашивает. – В туалет?
А куда ж еще-то? Из надзорки только в туалет и можно выходить. И то по разрешению. Я киваю.
– Зачем? Курить, что ли?
Так я ему и сказал! Он по своим-то делам в туалет через раз пускает, а курить у него вообще не допросишься…
– Не могу больше!
– Иди… Но не курить и сразу назад!
Ну, захожу туда и сразу сажусь на горшок – вроде я и правда по своим делам. Но это так, для конспирации, на случай если санитар проверить захочет. А сам между делом руку в урну запустил – она рядышком стоит – и окурки там потихоньку нащупываю (он, сволочь, мне курить по пол дня не дает – уши пухнут) . Тут как раз один больной входит и говорит, значит, что выборы завтра будут в новый Верховный Совет и голосовать будет все отделение, даже надзорка. Неужто, думаю, все? Да не может быть такого? Во новость так новость – это ж с ума сойти можно!
Тут я, мужики, признаюсь, до того разволновался, что забыл про всякие там конспиративные тонкости, быстренько урну опрокинул, собрал окурки, потом штаны натянул и в палату. Подумать там в тишине. Не может быть такого, чтоб всех сумасшедших – и на выборы. Потому что очень странно получается: голосовать и избирать в Верховный Совет я могу, а чтобы в туалет меня одного отпустить – никак нельзя…
А вокруг уже суета и беготня. Санитары зашевелились, забегали, закомандовали – то на место поставить, это перенести, каждую пылинку подними. Потом всем белье заменили. Даже новые пижамы выдали. А на фиг белье-то портить? В надзорке вообще голые ходят – один халат на всех.
Пока я глазел на все это, санитар отловил меня и быстренько швабру в руки. Я разозлился, конечно, думаю, в такой день одному не побыть, не подумать! Вот козел! И тут мне как прозрение пришло – думаю, кто ж тут, в надзорке, голосовать-то будет? Как они, интересно, урну сюда доставят? Или всю надзорку на цепи куда поведут? Только подумал так и представил это, да как заржу на всю палату словно конь! даже швабру уронил! Санитар сразу по шее хрясь! Ну, я и замолчал, а сам дальше рассуждаю.
Если, думаю, поведут туда, то как Француз дойдет? Позвоночник у него поврежден, и ходить, как все нормальные люди, он не может. Да к тому же за последние полгода он три телевизора разбил, радио, а стекол – так не счесть. Он же от урны мокрого места не оставит! Вон рядом Сережа, тезка мой. Так тот вообще дурак глуховой, еще круче Француза – даже говорить не может. Двоих с белой горячкой не в счет – они уже неделю как к кроватям привязаны. Один трактор ночами заводит и все матерится, что тот у него глохнет. А второй рыбу ловит и сетку забрасывает. Потому ведь и надзорка, что собраны в ней самые-самые, кому особый надзор нужен. У вас ведь как? Всех ненужных и сумасшедших – в дурдом. А в дурдоме-то куда дураков девать? Таких вон, как Француз? А в надзорную палату – куда ж еще-то? Она у нас все равно как дурдом внутри дурдома – потому тут, в надзорке, одни дураки!
Ну со мной-то, дело ясное, ошибочка у них вышла, сами видите – здоровый я. Да такие, как я, и на свободе голосуют, а вот эти-то наши избиратели… Тут я опять как заржу! И снова санитар мне по башке хрясь! И как замкнуло сразу, как само на другой канал переключилось: а за кого голосовать-то, мужики? Вам-то хорошо – вы и газеты читать можете, и телевизор у вас, и радио, а тут, в надзорке, никакой информации. Только что санитар расскажет, то и знаем. Я уже у него хотел спросить, за кого голосовать-то, а он, наверное, сам понял, что объяснить нужно. Залез на мою кровать, скотина, прямо в грязных тапочках и орет оттуда как с трибуны:
– Слушать сюда все внимательно! Кандидат у нас только один! – и назвал его. – За него все и голосуйте! А если хоть одна падла против выступит, я проблем вам быстро организую: вечером вся палата в Бетховена играть будет!
Это они игру такую придумали – Бетховен: ставят всех в ряд и заставляют на губах музыку дудеть. И попробуй возрази! Возразишь, а санитар голову в дверях прищемит. А я что – дурак что ли? Лучше я ему месяц буду хоть петь, хоть дудеть, мне не привыкать. Но за его кандидата голосовать не буду. Они же хотят у власти своего поставить и из всей страны сделать один большой дурдом. У вас ведь там и так точь-в-точь как у нас на реабилитационном отделении, даже хуже – я два раза в побеге был и все видел… А если, думаю, начнется подсчет голосов и мой – решающий?! А я зачеркну все фамилии, санитар не заметит. Не буду я брать на себя такую ответственность. С тем и заснул.
И снится мне, мужики, что не я буду кого-то выбирать, а меня. Я-то знаю, что сделать было бы нужно, будь я депутатом или, еще лучше Президентом, то есть у руля. Я бы все дурдома закрыл к чертовой матери! Ну скажите мне, что они делают? Лечат, скажете? А я всю жизнь тут провел, но ни одного вылеченного не видел. Покажите мне такого! Наоборот видеть приходилось, а вот чтобы здоровые отсюда выходили – не помню. Я это однажды и врачу моему сказал, а тот мне говорит: «У тебя бред», – и на уколы меня пристроил… Закрыть их!
А санитар и медсестра зажали меня в угол и бумагу в нос суют. Они так всегда делают, когда твоя подпись нужна на добровольное лечение. А потом санитар угрожать стал. А я думаю, все равно заставят подписать. Либо подпись подделают. Но лечить все равно будут. Насильно. И только я хотел расписаться, как эта скотина мне снова в бошку – бац, и орет в самое ухо:
– Ну-ка ты, олух царя небесного, швабру быстренько в руки и мыть полы! Быстро, быстро! И чтоб чисто все было: выборы сегодня!..
Ну, нигде от него покоя нет!..
А после завтрака две смены собрались в надзорке. Шумели и обсуждали, как все нужно делать.
– С отделением, – старшая говорят, – ясно: всех в процедурку и там они голосуют. И там же телевидение будет снимать этот акт демократии.
– А надзорку как? – заспорили сестры и санитары, – их вести всех вместе или по одному?
Санитар, тот что у двери сидит и за нами всегда наблюдает, говорит:
– Куда всех вместе-то в процедурку? Я их ссать боюсь отпускать! Только с сопровождением и поодиночке!..
Наконец решили: сначала отделение в процедурку вести, и пусть там голосуют. А нас потом. И урну нам сюда доставить. А наблюдателям за выборами объяснить, что это больные тяжелые. Они сами, без посторонней помощи, передвигаться не могут. Для убедительности Француза им показать. И дополнительную силу привлечь из алкоголиков. На всякий случай. Тем более, что три пустые кровати для них есть.
Урну решили поставить в угол – подальше от греха (и от Француза) .
Так начались мои первые в жизни выборы!
Часа два нас не трогали. Отделение водили. Всех по очереди. Санитар по фамилиям выкрикивал. Потом старшая врывается в палату и шипит:
– Приготовились!
Алкоголики, что вместо охраны под дураков косят, сразу сели на кровати и ждут. Потом какой-то грохот, словно там кого-то бьют или вяжут. А это они урну толпой тащат… Я себе думал, там что-то особенное. А это обыкновенный ящик с узкой дыркой наверху (а разговоров-то о ней было, разговоров!) . За урной крадутся две испуганные тетки. И все по сторонам оглядываются. Как бы кто не покусал. И еще две бабы – с блокнотом одна и с фотоаппаратом другая. Одна все пишет, а другая сразу фотографировать. Следом мужик какой-то с видеокамерой на плече и за ним еще один – с лампами… Мужик снимает, баба фотографирует, и все со вспышками, и все эти вспышки-молнии на меня, с-с-суки, направили! Я даже глаза закрыл, но тут санитар (что характерно – безо всякого крика) меня за плечо трогает и говорит вежливо:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































