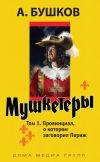Текст книги "Три мушкетера"

Автор книги: Александр Дюма
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
– Письмо не потеряно! – вскричал он.
– Как? – вскричал д’Артаньян.
– Нет! Его у вас похитили!
– Похитили?! Но кто?
– Вчерашний дворянин… Он заходил в кухню, где лежал ваш камзол, и оставался там один. Бьюсь об заклад, что он украл письмо!
– Вы полагаете? – отвечал д’Артаньян с сомнением, потому что лучше любого другого знал, что письмо это имеет значение только для него самого, и не представлял себе, кто бы мог на него польститься. Ни слуги, ни кто-либо из постояльцев не могли извлечь никакой пользы из этой бумаги.
– Вы говорите, – продолжал д’Артаньян, – что подозреваете этого наглого дворянина?
– Я вам говорю, что уверен в этом, – возразил хозяин. – Когда я ему сказал, что вашей милости покровительствует господин де Тревиль и вы имеете письмо к этому знатному лицу, то эти слова его, по-моему, весьма обеспокоили. Он спросил у меня, где это письмо, и тотчас направился в кухню, где, как ему было известно, лежал ваш камзол.
– Так вот кто этот вор! – вскричал д’Артаньян. – Я сообщу об этом господину де Тревилю, а он – королю.
Потом д’Артаньян с важностью вынул из кармана два экю, протянул их хозяину, который с шапкой в руках проводил его до ворот. Тут д’Артаньян вскочил на своего рыжего коня, а конь без дальнейших приключений довёз его до ворот Сент-Антуан в Париже, где владелец и продал его за три экю, то есть весьма выгодно, потому что в последний переход д’Артаньян совсем его загнал. Барышник, которому он уступил коня, признался ему, что эту непомерную цену даёт только ввиду необыкновенной масти лошади.
Итак, д’Артаньян вступил в Париж пешим, с узелком под мышкой, и бродил по городу до тех пор, пока не приискал комнату по своим скудным средствам. Это была комнатка на мансарде, на улице Могильщиков, близ Люксембурга.
Вручив задаток, д’Артаньян перебрался в свою комнату и остальную часть дня провёл, пришивая к камзолу и штанам галуны, отпоротые матерью от почти нового камзола г-на д’Артаньяна-отца и данные ему тайком. Потом отправился в Железный ряд и отдал приделать новый клинок к своей шпаге, и, наконец, – к Лувру[10]10
Лувр – королевский дворец в Париже.
[Закрыть], узнать у первого встречного мушкетёра, где находится дом господина де Тревиля. Дом этот, оказалось, находился на улице Старой Голубятни, неподалёку от того места, где поселился д’Артаньян, что показалось ему хорошим предзнаменованием.
Затем, довольный поведением своим в Мёне, без угрызений совести за своё прошлое, с уверенностью в настоящем и исполненный надежд на будущее, он лёг и заснул богатырским сном.
Этот сон, по привычке провинциала, продолжался до девяти часов утра, когда д’Артаньян наконец встал, чтобы отправиться к знаменитому господину де Тревилю, третьему, по словам отца, лицу в государстве.
Глава II
Приёмная господина де Тревиля
Господин де Труавиль, как звали его в Гаскони, или де Тревиль, как он сам стал называть себя в Париже, начал действительно как д’Артаньян, то есть без единого су, но с запасом смелости, ума и находчивости. Эти качества дают самому бедному гасконскому дворянину больше надежд, чем подлинное богатство, получаемое берийским или перигорским дворянином по наследству. Его дерзкая храбрость и ещё более дерзкая удачливость в такое время, когда удары шпаги сыпались как град, возвели его на самую вершину лестницы, именуемой придворным успехом, ступени которой он перешагивал по три и по четыре разом.
Он был другом короля, весьма чтившего, как всем известно, память отца своего Генриха IV. Отец господина де Тревиля служил этому королю во время войн его против Лиги с такою верностью, что, за недостатком денег – а их во всю жизнь не бывало у беарнца, уплачивавшего все долги свои единственным, что ему никогда не приходилось занимать, то есть остроумием, – он дозволил ему после сдачи Парижа внести в герб свой золотого льва на червлёном поле с девизом: fidelis et fortis[11]11
Верный и сильный (лат.).
[Закрыть]. В этом, конечно, было много чести, но мало пользы, и когда знаменитый сподвижник великого Генриха умер, то оставил сыну своему единственное наследство – шпагу свою и девиз. Благодаря этому наследству и безупречному имени отца господин де Тревиль принят был ко двору молодого принца, где он так хорошо служил своей шпагой и был столь верен своему девизу, что Людовик XIII, один из лучших фехтовальщиков королевства, говорил обыкновенно, что если бы кто-либо из его друзей дрался на дуэли, то он советовал бы ему взять секундантом, во-первых, его, а затем Тревиля, которому, впрочем, следовало бы отдать предпочтение.
Людовик XIII питал к Тревилю истинную привязанность, правда – привязанность монаршую, привязанность эгоистическую, но всё-таки привязанность. В эти несчастные времена знатные особы охотно окружали себя такими людьми, как Тревиль. Многие могли бы включить в свой девиз слово «сильный», но немногие дворяне могли бы претендовать на эпитет «верный», то есть на первую часть девиза, которую король дал для герба Тревилю. Тревиль принадлежал к тем редким натурам, которые верны и послушны, как преданные псы, беззаветно храбры, быстры взором и твёрды рукою, которым глаза служили лишь для того, чтоб видеть, не недоволен ли кем король, а рука для того, чтобы поражать неугодных, будь то Бем, Моревер, Польтро, де Мере или Витри. Тревилю до сих пор недоставало только случая, чтобы показать себя, но он выжидал его и твёрдо решил схватить его за вихор, лишь только случай представится. Людовик XIII назначил Тревиля капитаном своих мушкетёров, которые были для него тем же, по своей слепой преданности или, вернее, фанатизма, чем ординарная стража была для Генриха III, а шотландская гвардия – для Людовика XI.
Кардинал в этом отношении не уступал королю. Когда он увидел грозную стражу, которой окружил себя Людовик XIII, этот второй или, точнее сказать, первый правитель Франции тоже захотел иметь собственную гвардию. И обзавёлся собственными мушкетёрами, как Людовик XIII – своими. Оба властителя вербовали для своей службы во всех провинциях Франции, и даже за границей, людей, прославившихся в боевом деле. Нередко по вечерам, за шахматами, Ришелье и Людовик XIII спорили о достоинстве своих служак. Каждый из них хвалил выправку и мужество своих и, во всеуслышание ратуя против поединков и драк, на деле подстрекал их к этому, непомерно радуясь и искренне печалясь их победам или поражениям. Так, по крайней мере, говорят записки человека, бывшего участником некоторых поражений и многих побед.
Тревиль угадал слабую сторону своего монарха, и этому-то он и был обязан продолжительной и неизменной милостью короля, который не оставил по себе памяти человека, верного в дружбе. Вызывающий вид, с которым он проводил парадным маршем своих мушкетёров перед кардиналом Арманом дю Плесси Ришелье, заставлял седые усы его высокопреосвященства возмущённо щетиниться. Тревиль в совершенстве постиг искусство войны того времени, когда приходилось жить или за счёт врага, или за счёт своих соотечественников. Солдаты его составляли легион чертей, подчинявшихся только ему одному.
Неопрятные, полупьяные, растерзанные мушкетёры короля, или, лучше сказать, господина де Тревиля, шатались по кабакам, гульбищам, игорным притонам, крича во весь голос, покручивая усы, бряцая шпагами и с удовольствием толкая гвардейцев кардинала при всякой встрече, после чего обнажали шпаги посреди улицы, не скупясь на шутки. Бывало, их убивали, и в этом случае они были уверены, что о них пожалеют и за них отомстят. Часто они убивали сами, но и тогда не боялись засидеться в тюрьме, потому что господин де Тревиль всегда их выручал, за это господина де Тревиля хвалили на все лады обожавшие его мушкетёры. Хоть все они были головорезы, они трепетали перед ним, как ученики перед учителем, повинуясь ему по первому слову и готовые на смерть, чтобы избежать малейшего упрека.
Де Тревиль употреблял этот мощный рычаг, во-первых, на пользу королю и его приверженцам, а во-вторых, на пользу себе и своим друзьям. Впрочем, ни в одних записках того времени – а их осталось весьма немало – не сказано, что этого достойного дворянина в чём-либо обвиняли даже его враги – а они у него были и среди знатных людей, и среди чиновников, – нигде, повторяем, не сказано, чтобы этот достойный дворянин был обвиняем в том, что он когда-либо брал плату за содействие своим солдатам. С редким даром к интриге, который равнял его с величайшими интриганами, он оставался честным человеком. Мало того, многочисленные раны и утомительные труды не помешали ему сделаться одним из усерднейших поклонников прекрасного пола, одним из величайших щёголей, одним из искуснейших витий своего времени. Говорили о его успехах у дам, как за двадцать лет до того говорили об успехах Бассомпьера[12]12
Бассомпьер Франсуа (1579–1646) – маршал Франции и дипломат.
[Закрыть], а это значило немало. Итак, капитан мушкетёров вызывал восхищение, страх и любовь – иначе говоря, достиг вершин счастья и удачи.
Людовик XIV в лучезарном сиянии своём поглощал все мелкие светила своего двора; но отец его, солнце pluribus impar[13]13
Многим не равное (лат.).
[Закрыть], давал возможность каждому из своих любимцев сиять своим собственным светом и каждому из приближённых иметь собственное своё достоинство. Кроме утреннего приёма у короля и кардинала, в Париже насчитывали тогда около двухсот утренних приёмов, на которые принято было являться. В числе этих двухсот приём у господина де Тревиля был одним из наиболее посещаемых.
Двор его дома на улице Старой Голубятни походил на военный лагерь начиная с шести часов утра летом и с восьми зимою. Пятьдесят или шестьдесят мушкетёров, как бы сменявших друг друга, чтобы всегда быть во внушительном количестве, прохаживались по нему, вооружённые до зубов и готовые на всё.
По одной из широких лестниц, на месте которой в наше время выстроили бы целый дом, входили и спускались просители из Парижа, искавшие какой-либо милости, дворяне из провинции, желавшие быть зачисленными в мушкетёры, и лакеи в ливреях всех цветов, приносившие господину де Тревилю письма от своих господ. В приёмной на длинных, идущих вдоль стен скамьях ожидали избранные, то есть приглашённые на этот день. Там с утра до ночи стоял гул, между тем как в кабинете своём, смежном с этой приёмной, господин де Тревиль принимал посетителей, выслушивал жалобы, отдавал приказания и, как король со своего балкона в Лувре, мог из своего окна в любую минуту произвести смотр своей страже.
В тот день, когда сюда явился д’Артаньян, круг собравшихся был весьма значительный, особенно на взгляд провинциала, только что прибывшего из глуши. Правда, провинциал этот был гасконец, а в те времена земляки д’Артаньяна пользовались репутацией людей не слишком застенчивых.
Вновь прибывший, войдя в тяжёлые ворота, обитые гвоздями с четырёхугольными шляпками, попадал в толпу вооружённых людей, которые расхаживали по двору, окликали друг друга, ссорились и играли между собою. Чтобы проложить себе путь через этот людской водоворот, нужно было быть офицером, знатным вельможей или хорошенькой женщиной.
В этой сутолоке и в беспорядке наш юноша продвигался вперёд с бьющимся сердцем, прижимая свою длинную шпагу к тонким ногам и приложив руку к полям шляпы, с жалкой улыбкой провинциала, старающегося скрыть своё смущение. Миновав одну группу собравшихся, он вздыхал свободнее, хотя и определённо ощущал, что на него оглядываются. В первый раз в жизни д’Артаньян, до того дня имевший довольно высокое о себе мнение, чувствовал себя нелепым и смешным.
Когда он наконец добрался до лестницы, дело стало совсем плохо. На первых ступенях расположились четыре мушкетёра, которые забавлялись следующей игрой: один из них, стоя на самой верхней ступени с обнажённой шпагой в руке, мешал или, по крайней мере, старался помешать трём остальным подняться, в то время как десять или двенадцать их товарищей ожидали внизу своей очереди, чтобы принять участие в игре.

Трое быстро действовали против одного своими шпагами: д’Артаньян принял было это оружие за фехтовальные рапиры с тупыми концами, но вскоре по царапинам на лицах участников этой забавы определил, что каждый клинок остро заточен. При каждой новой царапине не только зрители, но и сами действующие лица разражались хохотом.
Мушкетёр, стоявший в эту минуту на верхней ступени, мастерски отражал атаки своих противников. Вокруг них собралась целая толпа. По условиям игры раненый выходил из игры при первой же царапине и уступал удачливому противнику свою очередь на аудиенции. В пять минут трое были задеты – один в руку, другой в подбородок, а третий в ухо, – причём сам защищающий ступень не был задет ни разу и, таким образом, по условиям, выигрывал три очереди.
Как ни хотелось нашему молодому путешественнику выглядеть невозмутимым, однако он не мог не удивиться такому препровождению времени. У себя на родине, где головы воспламеняются так легко, он всё-таки привык видеть поединки, основания для которых были более вескими. Забава этих четырёх игроков затмила всё то, о чём он слышал даже в Гаскони. Ему показалось, что он перенёсся в пресловутый край великанов, куда впоследствии попал Гулливер и где он натерпелся такого страха. Но это было ещё не всё: оставалась верхняя площадка и приёмная.
На площадке уже не дрались, там сплетничали о женщинах, а в приёмной – о дворе. На площадке д’Артаньян покраснел, в приёмной он затрепетал. Его необузданное воображение, которое в Гаскони делало его весьма опасным для молоденьких горничных, а иногда и для их молодых хозяек, даже в минуты самых смелых фантазий не рисовало и половины новых любовных чудес и рискованных похождений, которые были здесь темой разговоров, приобретавших особую остроту вследствие самых известных имён их участников и нескромных подробностей этих историй. Но если на площадке лестницы пострадала его скромность, то в приёмной было оскорблено его уважение к кардиналу. Там, к величайшему своему удивлению, д’Артаньян услышал громкое осуждение той политики, от которой трепетала вся Европа, а также частной жизни кардинала, за попытку проникнуть в которую поплатилось столько знатных и могущественных вельмож. Этот великий человек, так высоко почитаемый д’Артаньяном-отцом, служил посмешищем мушкетёрам де Тревиля, которые насмехались над кривыми ногами кардинала и его сгорбленной спиной. Здесь распевали песенки насчёт госпожи д’Эгильон, его любовницы, и госпожи де Комбале, его племянницы; здесь составляли заговоры против пажей и стражи кардинала. Д’Артаньяну всё это казалось чудовищным и невероятным.
Однако когда посреди всех этих шуток насчёт кардинала вдруг произносилось имя короля, то насмешливые уста сразу смыкались как бы замком, и все осторожно озирались, словно опасаясь ненадёжности перегородки, отделявшей их от кабинета господина де Тревиля. Но вскоре разговор возвращался к его высокопреосвященству, смех возобновлялся, и самые незначительные поступки кардинала освещались беспощадным светом.
«Вот господа, которых, наверное, посадят в Бастилию[14]14
Бастилия – укреплённый замок, служивший тюрьмой для политических преступников.
[Закрыть] и перевешают, – подумал д’Артаньян со страхом, – и меня с ними, потому что я слушал их, и, конечно, примут меня за их сообщника. Что сказал бы отец мой, внушавший мне такое почтение к кардиналу, если бы узнал, что я попал в общество подобных вольнодумцев».
Поэтому, как легко можно догадаться, д’Артаньян не смел принять участия в разговоре, а только глядел во все глаза, слушал обоими ушами, напрягал все пять чувств, чтобы ничего не упустить и, несмотря на доверие своё к отцовским советам, чувствовал, что его собственные пристрастия и вкусы побуждают его скорее одобрять, нежели осуждать всё то, что он видел.
Однако так как он был человек новый среди приближённых господина де Тревиля и здесь его видели впервые, то к нему подошли и спросили о цели его пребывания. В ответ д’Артаньян скромно назвал своё имя, упирая на то, что он земляк капитана, и просил камердинера, задававшего ему этот вопрос, испросить для него у господина де Тревиля минутную аудиенцию. Камердинер покровительственным тоном обещал сделать это в надлежащее время.
Д’Артаньян, пришедший в себя от первоначального удивления, стал незаметно разглядывать костюмы и лица присутствующих.
В центре наиболее оживлённой группы возвышался рослый мушкетёр с надменным лицом, привлекавший всеобщее внимание своим необычным костюмом. На нём был не форменный плащ – что и не требовалось в эти времена, когда свободы было меньше, но независимости больше, – а кафтан небесно-голубого цвета, несколько поблёкший и поношенный, и поверх кафтана роскошная перевязь, расшитая золотом и сверкавшая, как водная рябь на солнце. Длинный плащ из пунцового бархата картинно спадал с его плеч, открывая спереди великолепную перевязь, на которой висела огромная шпага.
Этот мушкетёр только что сменился с караула, жаловался на простуду и время от времени нарочито покашливал. По его словам, он поэтому и закутался в плащ, и пока он говорил, покручивая презрительно ус, остальные с восхищением любовались шитой перевязью, и д’Артаньян более других.
– Что делать, – говорил мушкетёр со вздохом. – На них пошла мода: это, конечно, глупость, но такова уж мода. Впрочем, надобно же на что-нибудь тратить деньги, которые достались мне по наследству.
– Ах, Портос, – воскликнул один из присутствующих, – не пытайтесь уверить нас, будто эта перевязь – дар отцовского великодушия! Тебе её, наверное, подарила дама под вуалью, с которою я тебя встретил в прошлое воскресенье у ворот Сен-Оноре.
– Нет, клянусь честью дворянина, я купил её на собственные деньги, – отвечал тот, которого называли Портосом.
– Да, так же, как я купил этот новый кошелёк на те деньги, которые моя любовница положила мне в старый, – сказал другой мушкетёр.
– Право, – сказал Портос, – и доказательством служит то, что я назову вам точную цену – заплатил за неё двенадцать пистолей.
Восхищение удвоилось, хотя сомнение и не исчезло.
– Не так ли, Арамис? – сказал Портос, обращаясь к другому мушкетёру.

Этот мушкетёр представлял собой совершенную противоположность с тем, кто обратился к нему и назвал Арамисом.
Это был молодой человек лет двадцати двух – двадцати трёх, с чистым и кротким лицом, нежными чёрными глазами и розовыми щеками, покрытыми пушком, как персик осенью. Тонкие усики образовали над верхней губой совершенно прямую черту; руки, казалось, боялись опуститься, чтобы жилы на них не надулись, и время от времени он щипал себя за мочки ушей, чтобы они оставались алыми и прозрачными. Молодой человек говорил кратко и неторопливо, часто кланялся, тихо смеялся, показывая зубы, которые у него были прекрасны и которыми он, как и вообще своей внешностью, по-видимому, много занимался. На вопрос своего приятеля он отвечал одобрительным кивком головы.
Это подтверждение, казалось, устранило все сомнения насчёт перевязи. Ею продолжали восхищаться, но говорить о ней перестали. Разговор естественным образом перешёл к другому предмету.
– Что думаете вы о рассказе конюшего господина Шале? – спросил другой мушкетёр, обращаясь ко всем присутствующим.
– А что же он рассказывает? – с важностью спросил Портос.
– Он рассказывает, что встретил в Брюсселе Рошфора, верного слугу кардинала, переодетого капуцином. Проклятый Рошфор благодаря этому маскараду провёл де Лега, как последнего болвана.
– Как болвана, – вторил Портос, – но верно ли это?
– Мне это сказал Арамис, – отвечал мушкетёр.
– В самом деле?
– Да вы же знаете, Портос! – произнёс Арамис. – Я вам рассказывал об этом вчера. Оставим это.
– Оставим это – вы так полагаете? – возразил Портос. – Оставим это! Чёрта с два! Как вы скоро рассудили. Как?! Этот кардинал подсылает шпионов к дворянину; при содействии изменника, разбойника и висельника выкрадывает его переписку. При содействии этого шпиона и благодаря добытым преступным образом письмам добивается казни Шале под нелепым предлогом, будто бы он хотел убить короля и женить его брата герцога Орлеанского на королеве. Никто не мог разгадать эту загадку. Вчера вы нам всё разъяснили, к величайшему общему удивлению, но не успели мы ещё опомниться от этой новости, как вы сегодня нам говорите: оставим это!

– Ну, так поговорим об этом, если вам угодно, – терпеливо отвечал Арамис.
– Если бы я был конюшим бедняги Шале, – вскричал Портос, – то этому Рошфору не поздоровилось бы. Я бы его проучил!
– А Красный Герцог проучил бы вас, – заметил Арамис.
– Красный Герцог! Браво, браво! Красный Герцог! – отвечал Портос, хлопая в ладоши и одобрительно кивая головой. – Красный Герцог, отлично сказано! Я пущу это в ход, дорогой мой! Ну и остряк же этот Арамис! Как жаль, что вы не могли следовать вашему призванию, любезный друг: какой бы из вас вышел прекрасный аббат!
– Это только временная отсрочка, – возразил Арамис, – я когда-нибудь им буду. Вы же знаете, Портос, я ведь продолжаю изучать богословие.
– Он сделает как говорит, – воскликнул Портос, – сделает непременно, рано или поздно!
– Скорее рано, – сказал Арамис.
– Он ожидает только одного, чтобы окончательно решиться и вновь надеть сутану, висящую в шкафу рядом с его мундиром, – сказал один из мушкетёров.
– Чего же именно? – поинтересовался другой.
– Он ожидает, чтобы королева дала наследника французскому престолу.
– Не будем шутить над этим, господа, – строго сказал Портос, – слава богу, королева ещё достаточно молода для этого.
– Говорят, господин Бекингем[15]15
Бекингем Джордж Вильерс (1592–1628) – лорд, английский политический деятель.
[Закрыть] во Франции, – произнёс Арамис с насмешливой улыбкой, придавшей этой заурядной фразе смысл довольно неблаговидный.
– Арамис, друг мой, на этот раз вы не правы, – прервал Портос, – ваша привычка к насмешкам заводит вас слишком далеко, и, если бы господин де Тревиль вас услышал, вы бы пожалели о своих словах.
– Уж не хотите ли вы меня учить, Портос! – вскричал Арамис, в кротких глазах которого сверкнуло пламя.
– Дорогой мой, будьте или мушкетёром, или аббатом, тем или другим, но не тем и другим одновременно, – продолжал Портос невозмутимо. – Помните, Атос сказал вам недавно, что вы едите из всех кормушек. Не обижайтесь, пожалуйста, это ни к чему. Вы же знаете условие, принятое между Атосом, вами и мной. Вы бываете у госпожи д’Эгильон и ухаживаете за ней, вы бываете у госпожи де Буа-Трасси, кузины госпожи де Шеврёз, и говорят, что вы в большой милости у этой дамы. Ради бога, не сознавайтесь в своём счастье, вас не просят раскрыть вашу тайну – ваша скромность хорошо известна. Но раз вы обладаете этой добродетелью, то применяйте её и по отношению к её величеству. Пусть говорят что угодно о короле и кардинале, но особа королевы священна, и если о ней говорить, то только хорошее.
– Портос, вы самонадеянны, как Нарцисс, – отвечал Арамис, – вы знаете, что я не терплю ничьих наставлений, кроме Атоса. У вас же слишком богатая перевязь, чтобы внушать уважение к вам в роли наставника. Если мне вздумается, я буду аббатом, а пока я мушкетёр и в качестве такового говорю, что мне придёт в голову. Теперь же мне пришло в голову сказать вам, что вы мне надоели.
– Арамис!
– Портос!
– Э, господа, господа! – вскричали все вокруг.
– Господин де Тревиль ждёт господина д’Артаньяна, – оборвал их слуга, отворяя двери кабинета.
При этом возгласе, во время которого дверь оставалась открытой, все умолкли, и посреди всеобщего молчания молодой гасконец пересёк комнату и вступил в кабинет капитана мушкетёров, довольный тем, что вовремя избежал развязки этой странной ссоры.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?