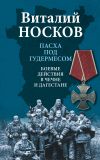Текст книги "Чечня: Трагедия Российской мощи. Первая чеченская война"
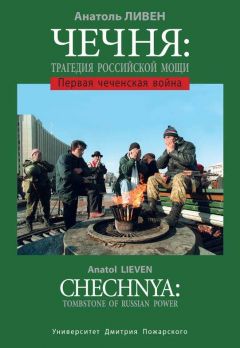
Автор книги: Анатоль Ливен
Жанр: Книги о войне, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 53 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Введение
Россия: по-прежнему медведь.
Заголовок в The Washington Post, 9 июля 1996 года
Найти путь к сердцу медведя.
Заголовок в The Economist, 14 декабря 1996 года
Всё еще в досягаемости русского медведя.
Заголовок в The Washington Post, 5 января 1997 года
Ни об одном другом животном, за исключением волка, не говорили столько ерунды, как о медведе гризли. Взрослые люди будут смотреть вам прямо в глаза и рассказывать о том, как у них волосы вставали дыбом при встрече с гризли, как тот с ходу бросается на человека и как может опередить лошадь, согнуть дерево и вообще сделать ситуацию жуткой без какой-либо причины. В действительности же у медведя, как и у любого другого животного, есть достаточное чутье, чтобы не соприкасаться с человеком без веского основания. Медведи в самом деле склонны к плохому настроению весной, когда они только что выбрались из спячки, как и большинство людей, только что поднявшихся с кровати.
Кроме того, весной медведи испытывают голо д. С них сошел жир, их бока обвисли, и они хотят остаться в одиночестве, чтобы спокойно поесть – полагаю, так же, как большинство из нас… Большая часть невероятных историй о медведях была рассказана у костра, чтобы произвести впечатление на новичка или туриста, а еще больше таких историй вытекло из бутылки виски.
Десмонд Бэгли. Оползень (Bagley, Desmond, Landslide. Collins, London, 1967. P. 240)
Войну между Россией и чеченскими сепаратистскими силами, происходившую с декабря 1994 года по август 1996 года, будущие историки, возможно, станут рассматривать как ключевой эпизод в российской, а может быть, и в мировой истории – не столько из-за ее последствий, сколько из-за того, что она полностью пролила свет на одно из самых важных событий нашего времени: конец России как великой военной и имперской державы. Еще до коллапса СССР было очевидно, что Россия не сможет играть на международной арене туже роль, что и Советский Союз. События в Чечне лишь показали, что даже в своих попытках удержать господствующие позиции на бывшем советском пространстве России придется справляться в обозримом будущем с очень серьезной нехваткой не только силовых ресурсов, но и, что еще более важно, с недостатком воли. С момента поражения России в Чеченской войне у некоторых ее соседей стал очень заметен рост самоуверенности.
Именно ослабление российского государства и армии представляет еще бо́льшую угрозу для западных интересов – если это приведет к нелегальной продаже радиоактивных материалов или даже ядерного оружия режимам-изгоям. Как раз по этой причине случившееся 30 октября 1996 года самоубийство профессора Владимира Нечая, директора бывшей секретной государственной атомной станции в Челябинске-70 (Снежинске), должно было привлечь больше внимания и вызвать большую озабоченность со стороны западной прессы, где в колонках мнений продолжали появляться все эти бесконечные высказывания о «российской угрозе государствам Балтии» и т. д. Профессор Нечай совершил самоубийство от безысходности, поскольку месяцами задерживались выплаты его сотрудникам и не хватало средств для содержания его научного центра. Еще более зловещими кажутся свидетельства о том, что для покрытия расходов он мог занимать деньги у «коммерческих структур» (скорее всего, связанных с мафией), и эти суммы он затем не мог вернуть. В июле 1997 года «Известия» сообщили, что в 1996 году предпринял попытку самоубийства 141 офицер российского Северного флота (под командованием которого находится большая часть атомных подводных лодок). Сам военно-морской флот признал факты 32 самоубийств и попыток самоубийства, совершенных прежде всего из-за отсутствия денег1. Дальнейший коллапс в финансировании вооруженных сил из-за возобновления экономического кризиса в 1998 году может лишь усугубить эту тенденцию.
Таким образом, причины поражения России в Чечне отнюдь не ограничиваются проблемами российских вооруженных сил в 1990-х годах, а отражают как долгосрочные процессы в демографии, обществе и культуре России, так и фундаментальные слабости современного российского государства. Последние – результат не только коллапса Советского Союза и сопровождавших это событие конвульсий и изменений, но и процесса приватизации государства и государственной власти, истоки которого обнаруживаются более 30 лет назад.
Однако степень бессилия российского государства была в некоторой мере скрыта из-за такой же, если не более серьезной слабости российского общества, вызванной семидесятилетним коммунистическим правлением. Российское общество неспособно породить ни протестные силы, которые в другой точке земного шара могли бы сокрушить всю систему, ни силы национальной мобилизации (в особенности среди групп русского населения за пределами российских границ), которые компенсировали бы неспособность государства распространять свою мощь.
Отсюда следует, что люди, горячо верящие в нечто, именуемое ими процессом «экономических реформ» в России и соседних государствах, должны быть чрезвычайно благодарны отсутствию гражданского общества в этих странах, поскольку население, обладающее спонтанными средствами социально-политической организации и мобилизации, едва ли стало бы терпеть как продолжительные лишения, так и глубоко прогнившую природу нового режима.
Центральный тезис этой книги заключается в следующем: вместо сравнений сегодняшней России с Советским Союзом или с царской Россией, которые и так бесконечно встречаются у столь многих экспертов и рядовых наблюдателей, более резонно было бы искать параллели и сходные модели в «либеральных» государствах Южной Европы и Латинской Америки конца XIX – начала XX века, а также в развивающихся странах в других частях сегодняшнего мира – при той ключевой разнице, что, пока их население растет, население России последовательно сокращается. В связи с этим я бы предположил, что такие понятия Антонио Грамши, как «пассивная революция» и «гегемония», могут предоставить неожиданно полезную «оптику» для понимания сегодняшней России.
Однако подобная картина чрезвычайно характерна для политических элит многих «развивающихся» стран, а поскольку в сегодняшней России речь в некотором смысле идет об элите традиционного латиноамериканского «компрадорского» типа (хотя и, разумеется, со специфическими постсоветскими особенностями), большая часть благосостояния которой зависит от контроля над государством для вытягивания льготных кредитов, разрешений на экспорт сырья и уклонения от налогов, эта элита может легко сыграть ключевую – и при этом вредоносную – роль в выхолащивании созидательного экономического роста.
Падение мировых цен на нефть в 1997–1998 годах и жестокий ущерб, понесенный российскими банками вслед за дефолтом в августе 1998 года, подорвали позиции некоторых ведущих магнатов. Как представляется, эти лица едва ли вновь будут играть ту же доминирующую роль, что и при Ельцине. Вместо этого власть в России в течение значительного времени, вероятно, вскоре будет распределена среди более широкого круга различных олигархов (прежде всего региональных) и патронажных групп. Однако я уверен, что сама суть компрадорской природы нового государства и его элит останется неизменной.
Очевидно, наиболее важным для будущего России является вопрос, станут ли россияне бесконечно терпеть правление подобных элит. Доселе, даже несмотря на сокрушительность последствий августа 1998 года для чаяний экономического прогресса, россияне оставались поразительно пассивны, и, хотя ситуация может измениться, если в Россию вернется гиперинфляция (что представляется вероятным), непохоже, чтобы это произошло в масштабе, который создаст угрозу новому государственному порядку. Это не означает, что (как, например, в прошлом в Латинской Америке) ближайшие годы в России пройдут без масштабных беспорядков, силового оспаривания итогов выборов, военных протестов и даже, возможно, государственного переворота. Однако представляется, что все эти события будут отражать соперничество между элитами, а не вовлеченность масс или попытки изменить всю систему
Анализируя причины политической пассивности большинства обычных россиян, я склонен допускать, что верным ракурсом для восприятия сегодняшней России и мира в целом может служить представление Фрэнсиса Фукуямы о триумфе либеральной демократии в современных обществах, – но лишь в том случае, если обильно приправить его идеи смесью из взглядов Антонио Грамши, исторического опыта и простого исторического здравого смысла.
Вторичным для мировой политики, но при этом имеющим огромный интерес как для военных, так и для антропологов, является – либо должен являться – вопрос о природе наземной войны и характере чеченского сопротивления. Если оставить в стороне слабость России, то победа чеченцев при столь огромном неравенстве в силах является выдающимся моментом в военной истории, несущим в себе уроки, которые следует усвоить в столь различных сферах, как военная антропология, национальная мобилизация, ограниченность эффективности применения военно-воздушных сил, природа боевых действий в городских условиях и, конечно же, природа войны как таковой.
Победа чеченских сепаратистских сил над Россией стала одним из величайших эпических примеров сопротивления колонизаторам в XX веке. Будет ли она сопоставима по своим историческим последствиям с битвой при Дьенбьенфу[3]3
Битва при Дьенбьенфу между французской армией и силами Объединенного национального фронта Льен-Вьет в марте – мае 1954 года стала решающим сражением Первой индо-китайской войны 1946–1954 годов. Капитуляция гарнизона Дьенбьенфу (примерно 11 тысяч французских военных) нанесла урон престижу и влиянию Франции на международном уровне.
[Закрыть] или победой Фронта национального освобождения[4]4
Фронт национального освобождения (ФИО) – левая политическая партия, в годы войны за независимость Алжира (1954–1962) возглавлявшая национально-радикальное движение арабского населения страны против белого населения Французского Алжира.
[Закрыть] в Алжире, зависит от того, как будут развиваться события в России. Однако в плане подлинных военных достижений чеченцы уже сравнялись с Вьетконгом, а полковник Аслан Масхадов заслужил право стоять в одном ряду с генералом Зяпом[5]5
Генерал Зяп, Во Нгуен (1911–2013) – главнокомандующий вьетнамскими войсками в сражении при Дьенбьенфу, самый известный вьетнамский полководец новейшего времени. Занимал должности министра внутренних дел правительства Хо Ши Мина, главнокомандующего Народной армией Вьетнама, министра обороны и члена политбюро Коммунистической партии Вьетнама.
[Закрыть] как командир редкого и оригинального дарования, и это делает еще более трагичной его неспособность обеспечить стабильность или эффективное государственное управление в послевоенной Чечне.
Я остановился на этих вопросах столь подробно, потому что в течение года, проведенного в Вашингтоне, я все более поражался тому, как мало сегодняшних американских военных аналитиков и советников имеют личный опыт участия в боевых действиях или хотя бы опыт солдатской службы и командования солдатами, а еще меньше из них, разумеется, сами попадали под длительные и тяжелые воздушные бомбардировки. В частности, многие из них совершенно не понимают изнутри те факторы, которые заставляют конкретных солдат сражаться или же спасаться бегством, а также общую природу боевого духа (morale). Это приводит к искажениям в их аналитических исследованиях, что имеет потенциально серьезные последствия для западной политики.
Чеченская война также имеет значение и представляет интерес для историков, причем не только для специалистов по Советскому Союзу и России, поскольку эта война включала в себя столкновение, эпохальное по своим последствиям, между двумя совершенно разными нациями, которые можно рассматривать как воплощение двух сил, противостоявших друг другу с самого начала зафиксированной человеческой истории. Русские, чья национальная идентичность долгое время была сосредоточена в ряде бюрократических государств, столкнулись с чеченцами, едва ли вообще имевшими в своей истории государственную организацию и своими грозными воинскими качествами обязанными не государственному устройству, а специфическим этническим традициям. На улицах Грозного деморализованные призывные армии Вавилона под командованием не воинов, а придворных евнухов и коррумпированных чиновников, под образами богов, демонстративно от них отвернувшихся, потерпели новое поражение от племен, спустившихся с гор.
Чтобы найти исторические параллели триумфу столь, казалось бы, «неорганизованных», «примитивных» сил над современной европейской армией, следует обратиться к поражению итальянцев от эфиопов при Адуа[6]6
Адуа – город в Эфиопии, где 1 марта 1896 года произошло решающее сражение итало-эфиопской войны 1895–1896 годов. Итальянские войска потеряли 11 тысяч человек убитыми и ранеными, включая двух генералов и 250 офицеров, до 4 тысяч было взято в плен. 23 октября 1896 года в Аддис-Абебе было подписано мирное соглашение, в соответствии с которым Италия была вынуждена признать суверенитет Эфиопии и выплатить контрибуцию.
[Закрыть], или испанцев от марокканцев при Анвале[7]7
Анвал – город в Испанском Марокко, близ которого 22 июля – 9 августа 1921 года состоялось сражение между испанской Армией Африки и нерегулярными марокканскими частями из региона Риф. В ходе штурма Анвала вся пятитысячная испанская армия во главе с генералом Сильвестре была уничтожена, после чего испанцы понесли еще ряд тяжелых поражений. Это спровоцировало в Испании политический кризис, который, в конечном итоге привел к установлению Второй республики и Гражданской войне 1936–1939 годов.
[Закрыть], или даже к победам краснокожих над британцами или американцами.
С одной стороны, конечно, это многое говорит о российской армии – ведь если сегодня она не превосходит итальянскую или испанскую армию вековой давности, то мировой военный порядок и в самом деле перевернулся с ног на голову. Но, с другой стороны, чеченская победа свидетельствует об экстраординарных воинских качествах и боевом духе, которые являются частью чеченской традиции, подвергшейся влиянию событий XX века.
Подчеркивая впечатляющую природу чеченской победы, следует также отметить небольшую численность самих чеченцев и вооруженных сил сепаратистов. Посчитаем: возможно, если не брать в расчет штурм Грозного российскими войсками в начале войны и чеченское контрнаступление в августе 1996 года, когда чеченские силы в Грозном и других местах могли составлять до 6 тысяч человек, численность боровшихся за независимость с чеченской стороны, согласно наиболее распространенной оценке, никогда не превышала 3 тысяч фактически действовавших единовременно бойцов – тогда как с российской стороны численность бойцов превосходила их, быть может, пятнадцатикратно. Конечно, общая численность чеченцев, которые сражались нерегулярно, была гораздо больше. Тем не менее в большинстве сражений федеральные силы имели куда более значительное численное преимущество, чем было у французов и американцев в Индокитае, у французов в Алжире или, кстати сказать, у советских сил в Афганистане. Более того, территория Чечни площадью примерно 6 тысяч квадратных миль (исключая Ингушетию) – это лишь небольшая часть площади перечисленных стран. Для сравнения можно представить, будто вся Вьетнамская война велась на территории провинции Хюэ[8]8
Хюэ (Тхыатхьен-Хюэ) – провинция в центральной части Вьетнама, на побережье Южно-Китайского моря. Площадь провинции составляет 5063 км2, что втрое меньше, чем территория Чечни (15,6 тысячи км2). Однако во время Вьетнамской войны нынешняя провинция Хюэ входила в состав более крупной провинции Биньчитхьен, которая также включала территорию нынешней провинции Куангчи (4747 км2). Иными словами, сопоставление Ливена вполне корректно, особенно если исключить Надтеречную часть Чечни, где во время первой и второй войн активных боевых действий почти не велось.
[Закрыть] – и американские вооруженные силы всё равно потерпели поражение.
Кроме того, обычная проблема армий, воюющих против «примитивного» врага или партизан – от римских легионов до американских рейнджеров, – заключается в том, чтобы заставить врага сражаться на одном месте. По выражению полковника сэра Чарльза Коллуэлла, «тактика благоприятствует регулярной армии, тогда как стратегия – неприятелю, следовательно, задача заключается в том, чтобы сражаться, а не маневрировать»2. Чеченцы приняли этот вызов – и разбили российскую регулярную армию, причем «по правилам» (fair and square). Поэтому их триумф является напоминанием о том, что, поскольку для отдельного сражающегося солдата война очень часто сводится к проверке его духа и моральных устоев, победа «цивилизованной» и «современной» стороны никогда не является само собой разумеющейся. И в будущем еще найдется место для новых поражений, таких как при Адуа и Литтл Бигхорне[9]9
Литтл Бигхорн – река в американском штате Монтана, у берегов которой 25–26 июня 1876 года произошло сражение между индейским союзом лакота – северные шайенны и Седьмым кавалерийским полком армии США, закончившееся уничтожением пяти рот американского полка во главе с командиром Джорджем Кастером.
[Закрыть].
Таким образом, в задачи книги входит, с одной стороны, обозначить это «столкновение цивилизаций», а с другой – сделать небольшой, но, надеюсь, полезный вклад в продолжающуюся академическую дискуссию о происхождении наций и национализма. Если говорить начистоту, то, сохраняя, как я надеюсь, надлежащую исследовательскую и журналистскую объективность, я также хотел выразить почтение храбрости и стойкости чеченского народа, которым я начал глубоко восхищаться.
* * *
Главным образом эта книга – а также, я бы сказал, большинство самих фактов – ставит под сомнение три тесно взаимосвязанных и крайне влиятельных направления западной мысли по поводу России. Первое из них ассоциируется прежде всего с профессором Ричардом Пайпсом (недавно он, кажется, изменил свою позицию, и теперь, как представляется, признает, что судьба России может быть неуникальной и сопоставимой с судьбой, например, различных латиноамериканских стран), но имеет широкое распространение в академических, журналистских и правительственных кругах. Представители этого направления усматривают глубокую преемственность, характерную и, возможно, ставшую определяющим фактором для всего хода российской истории от средних веков до царской империи, СССР и постсоветского настоящего. Второе направление, которое в значительной степени происходит от первого, рассматривает русских и русскую культуру как глубоко, извечно и первозданно империалистические, агрессивные и экспансионистские феномены.
Третье направление кажется абсолютно противоположным первым двум, но в действительности часто играет им на руку. Речь идет о подходе, характерном для наиболее оптимистичных западных экономических комментаторов событий в России, таких как Андерс Ослунд и Ричард Лейард, которые отрицают, что русская история и особенные характеристики современной России имеют первостепенную значимость, когда дело касается природы и прогресса российских реформ. Напротив, они утверждают, что Россия вполне встала на путь превращения в «нормальную» страну. Голоса многих из них после августа 1998 года примечательным образом притихли, что демонстрирует тщетность их надежд, однако в предшествующие годы в значительной части западных исследований преобладал именно их подход.
Проанализируем эти подходы поочередно. В своей статье 1996 года профессор Пайпс писал о явно устойчивой и неизменной «российской политической культуре», следствием которой стали как принятие ленинистской формы марксизма в 1917 году, так и проблемы российской демократии в 1996 году – как будто эта культура не изменилась за последние 80 лет, а голосование обычных россиян за коммунистов в 1996 году было мотивировано теми же настроениями, которые двигали ленинской Красной гвардией3.
Подобный подход ведет к крайне скептическому отношению к способности России когда-нибудь стать «нормальной» страной – «нормальной», разумеется, в смысле страны, расположенной в северо-западной части Северного полушария последней четверти XX века.
Пайпс также не делает различия между коммунистами и «националистами» (под которыми он, надо полагать, подразумевает генерала Лебедя), «поскольку и те и другие желают отвоевать утраченную империю». Похоже, что их разные представления об экономической политике и различное отношение к частной собственности для Пайпса попросту не являются теми аспектами, которые следует принимать во внимание, когда в дело вступают подобные первозданные этнические силы.
Представление о втором из указанных направлений, адепты которого уверены в исключительности (причем вредоносной), России, можно составить по следующему высказыванию профессора Ариэля Коэна: «Неосмотрительно отрицать или забывать тысячелетнюю русскую историю. Она наполнена войнами за расширение империи, русификацией этнических меньшинств и абсолютистским, авторитарным и тоталитарным правлением»4. (Разумеется, ни США, ни любая другая западная страна никогда не занимались экспансией, не завоевывали коренные народы или не навязывали им свои язык и культуру, либо сами не находились под властью авторитарных режимов.)
Эта ошибка историков, а также ошибочное представление о российской уникальности часто сопровождались склонностью преувеличивать сначала советскую, а теперь и российскую военную мощь. В США эта тенденция ассоциируется с многочисленными «аналитиками», а фактически и с ныне почти полностью дискредитированным изображением Советского Союза, созданным ЦРУ в 1980-х годах при Уильяме Кейси и Роберте Гейтсе5.
В самом грубом виде подобное отношение может принимать истинно расистские формы, как, скажем, в высказывании американского консервативного колумниста Джорджа Уилла: «Экспансионизм присутствует у русских в ДНК»6. Или же в словах Питера Родмена[10]10
Питер Родмен (1943–2008) – американский юрист, политик и эксперт по внешней политике из круга Генри Киссинджера, автор книги «Драгоценнее мира» о холодной войне, где превозносились действия администрации Рейгана по борьбе с коммунизмом в Афганистане, Анголе и Камбодже.
[Закрыть]: «Единственная потенциальная проблема великих держав в связи с безопасностью в Центральной Европе – это удлиняющаяся тень русской силы, и задача НАТО – создать для нее противовес. Россия – это природная стихия, и всё это неизбежно»7. Тон подобных высказываний отчасти объясняется тем влиянием, которое имеют в Америке этнические меньшинства из бывшей Российской империи, сохранившие горькие воспоминания о былом угнетении, а следовательно, и глубокую, устойчивую и, похоже, неизменную ненависть к России и русским.
Всё это крайние случаи, но нечто очень напоминающее подобные настроения лежит в основе подхода к России таких западных СМИ, как The Wall Street Journal. Ошибочным оказаться может даже более мягкое и уравновешенное представление о том, что волнует Россию. Например, по словам профессора Пайпса, «ничто так сильно не беспокоит сегодня многих россиян – даже падение их собственного уровня жизни или господство криминала – и ничто так не роняет в их глазах престиж их государства, как стремительная утрата статуса великой державы»8. Судя по ряду ситуаций последних лет, этот тезис подкрепляется высказываниями российских политиков, поведением российского правительства и значительным количеством голосов (хотя и только на одних выборах) за Владимира Жириновского. Но одно из главных утверждений моей книги заключается в том, что заявления политиков и даже обычных россиян на сей счет следует рассматривать со значительной долей скептицизма. Вопрос заключается в следующем: говорить-то они говорят, но подкрепляют ли слово делом? Ведь во всём мире полно наций, которые регулярно разражаются националистической риторикой, а еще больше элит, которые используют подобную риторику, чтобы замаскировать свои реальные неприглядные мотивы для удержания государственной власти. Но многие ли из них действительно обладают способностью или волей воплотить свою риторику в жизнь?
Каждый авторитетный опрос общественного мнения в России в 1994–1996 годах демонстрировал нечто совершенно противоположное предположениям Пайпса о приоритетах обычных россиян. Все они ставили на первое место в списке волнующих проблем уровень жизни, обеспеченность работой и криминал – эти темы оказывались гораздо значимее вопросов внешней политики или статуса великой державы9. Например, отвечая на требующую пояснения просьбу выделить «самую серьезную проблему, стоящую перед страной», сформулированную в опросе в апреле 1996 года, 56 % респондентов указали различные экономические проблемы, 17 % – этнические конфликты, 8 % – преступность и коррупцию, менее 1 % – темы, связанные с национальной безопасностью и подобными вещами.
Действительно, упомянутые опросы всегда демонстрировали очень сильное желание восстановить Советский Союз, но такое же желание было и у многих респондентов на Украине, в Закавказье и Средней Азии. В основе его, особенно у людей старшего возраста, лежало стремление не к империи и славе, а к возвращению безопасной жизни. Кроме того, большинство российских политиков вместе с подавляющим большинством обычных россиян подчеркивают, что воссоединение должно быть добровольным или по меньшей мере мирным. Лишь менее 10 % россиян, согласно опросам 1996 года, согласились бы подумать об использовании силы с целью либо воссоздания СССР, либо «воссоединения» России с территориями, населенными русскими, за пределами ее границ.
Взявшись за эту книгу, я также хотел исправить собственные ошибки, которые допускал в прошлом при анализе современной России. В свете последующих событий многие читатели моей предыдущей книги «Прибалтийская революция», написанной в 1992 году, посчитали, что я преувеличил степень угрозы для балтийских государств как со стороны России, так и (что более важно) со стороны русских меньшинств в них. По мере же приближения к Чеченской войне я, как и все прочие обозреватели, слишком переоценивал силу российской армии – или, скорее, недооценивал ее крайний упадок.
Если о наиболее русофобском или параноидальном направлении западных рассуждений о России я пишу в своих работах с неизменным раздражением, так это отчасти потому, что на меня оказал слишком большое воздействие образ России и русских, созданный такими исследователями, как Ричард Пайпс, Збигнев Бжезинский, Пол Гобл и Ариэль Коэн10. Ведь очень важно помнить, что если бы та российская нация, которую они изображают, реально существовала (если бы современные россияне действительно напоминали другие европейские имперские нации в прошлом), то в таком случае история бывшего Советского Союза в середине 1990-х годов пошла бы по совершенно иному пути и была бы гораздо ужаснее. Стали бы русские в странах Балтии, если бы ими владела мысль о национальной мощи и статусе, сидеть так тихо, в то время как их гражданские права резко ограничивались, а их язык вытеснялся из публичной жизни? Если бы важнейшей заботой русских в Крыму были национальная гордость и самосознание, не стали бы они бороться за независимость куда более активно? Стали бы российские элиты, если бы восстановление имперской мощи имело для них наивысшее значение, морить голодом свою армию, доведя ее до поражения от чеченцев? И разве бы не стали пусть даже и истощенные российские солдаты, будь они охвачены истинным национальным порывом, сражаться упорно и твердо, по меньшей мере чтобы сохранить территориальную целостность России и избежать отделения Чечни?
Но даже после Чеченской войны западная уверенность в российской военной мощи и страх перед ней остаются чрезвычайно крепкими. Например, 5 января 1997 года в The Washington Post была опубликована статья о бывших западных республиках СССР под заголовком «Всё еще в досягаемости русского медведя», присланная из Киева. В ней говорилось о России, чья «военная мощь простирается» по всей территории региона и угрожает соседям, о странах Балтии, «полностью уязвимых в военном отношении» со стороны России, о «высокомилитаризованном» калининградском анклаве, «фактически окружающем» Латвию, Литву и Эстонию. И всё это связывалось с историческим процессом, в ходе которого «российские правители от Екатерины Великой до Сталина» [sic!] «захватили эти земли» для «России».
Подлинно удивительной была датировка этой статьи – 5 января 1997 года. То есть текст вышел на следующий день после того, как последние российские войска были выведены из Чечни после унизительного поражения от противника, который явно и безнадежно уступал им по численности и вооружению, а фактически и после того, как на протяжении ряда лет Россия не предпринимала попыток военного принуждения в отношении ни одного из своих западных соседей.
Третий из упомянутых выше подходов, предполагающий, что для превращения России в «нормальную» страну почти нет препятствий, недавно подытожили Ричард Лейард и Джон Паркер. В той главе своей книги о России, которая носит заглавие «Отличается ли Россия?», они вкратце рассматривают, каким образом провалились предшествующие попытки «либерализовать» Россию, и задаются вопросом, следует ли из этого, что реформы и демократия в современной России обречены. На этот вопрос они дают следующий ответ:
«Короткий ответ заключается в том, что “история – это чепуха”: исторический опыт не дает реального руководства к поведению в настоящем, а исторически сформированные культурные характеристики не обязательно стоят на пути способности отдельной страны к изменению. Если культура столь значима, то как можно объяснить культурный успех в одну эпоху и неудачу в другую?»11
С одной стороны, очевидно, что такой подход более рационален, чем историцистский, но даже он, возможно, приведет нас к последнему. Проблема заключается в том, что этот третий подход предлагает крайне ограниченную в культурном и, конечно, временном смысле версию «нормальности», к которой должна стремиться Россия; при этом за «нормальное» принимается некая облагороженная и усредненная версия Запада конца XX века. Какой-либо уникальной или мистической культурной, исторической либо духовной причины, почему современная Россия может оказаться неспособной прийти к стабильной демократии и свободной рыночной системе, которые обеспечат процветание массам ее населения, не существует. Но, несмотря на ее отсутствие, для этого в действительности имеется множество весомых факторов, причем они далеко не уникальны для России и характерны для многих стран мира. Речь идет о слабости государства, правопорядка и гражданского общества, крайнем и циничном индивидуализме, коррупции, невежественности, поверхностности и алчности лидеров, глубоко укоренившейся власти экономически непродуктивных элит. К сожалению, на протяжении последних 150 лет не было ничего «ненормального» в подобных государствах с политически апатичным и дезорганизованным населением, управляемых небольшими по численности элитами, получившими свое состояние благодаря экспорту сырья и умению уклоняться от налогов за счет контроля над государством, тратящими свое богатство на приобретение заграничной собственности либо на потребление иностранных предметов роскоши и порой подогревающими шовинистский национализм с целью консолидировать свою власть и скрыть ее пороки.
По поводу «транзита» России и других бывших коммунистических государств подавляющая часть представителей западной, в особенности американской, прессы склонна к «одноколейному» подходу, согласно которому все эти страны находятся на одном «пути» к «демократии и свободному рынку». Они могут двигаться с разной скоростью, останавливаться и даже идти в обратном направлении, однако предполагается, что конечная цель единственна и нераздельна, и добраться до нее можно лишь по одноколейному пути. Наиболее изящной современной версией такого подхода, конечно же, является тезис Фрэнсиса Фукуямы о «конце истории», который был не раз осмеян академической критикой, и отчасти заслуженно. Однако исследование Фукуямы является хорошей базой для дискуссии, причем сам он стремится как можно более полно и честно проанализировать слабые места собственной аргументации12.
Напротив, в американских СМИ поверхностная и примитивная версия концепции Фукуямы настолько вездесуща, что ее слабые места не только не становятся объектом анализа и критики, но даже редко замечаются. Классическим и одновременно типичным примером этого можно считать одну статью в The Washington Post 1996 года. Она была посвящена Армении, но в ней использовалась совершенно идентичная формулировка по отношению ко всем бывшим коммунистическим странам, в которых были предприняты «реформы». Автор писал, что Армения «после советского правления и войны с Азербайджаном возвращается, хотя и со всё нарастающими страданиями, на путь свободного рынка и демократии»13.
Отвлечемся от поистине ужасного подтекста этой неоднозначной метафоры и обратимся к ее непосредственному содержанию (ведь, что вы будете делать в конечном итоге, если на пути к чему-либо ваши страдания лишь усиливаются, – спрячетесь за деревом?). Автор приведенного высказывания ухитряется использовать в нем по меньшей мере четыре случайные идеологические посылки сомнительного характера. Во-первых, речь идет о религиозно-мистической образности, связанной с метафорой «пути» (path), наводящей на мысль о духовных исканиях, паломничествах, приключениях и погонях за каким-нибудь Священным граалем. Следует подчеркнуть, что, за исключением редких революционных моментов, использование религиозных метафор для политических процессов обычно является ошибкой. Везде и почти всегда главным делом политиков является собственно политика: это процесс, посредством которого люди пытаются приобрести и удержать некоторую форму власти, богатство, проистекающее из этой власти, или же власть для защиты богатства. Все мы интуитивно об этом знаем, глядя на наших собственных политиков. Однако слишком часто, говоря о других странах, мы допускаем, что в них политические процессы отчего-то в гораздо большей степени приводятся в действие идеологическими «исканиями».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?