Текст книги "Мой век, мои друзья и подруги"
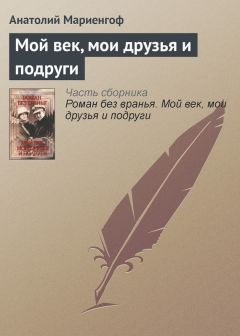
Автор книги: Анатолий Мариенгоф
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)
20
– Новость! Наш театр едет за границу.
Моя некрасивая красавица сегодня не сбросила мне на руки шубку и даже позабыла снять боты.
– Таиров только что объявил это. Было общее собрание. Все прыгали от радости. Старики выше всех. Уварова тоже прыгала.
Эта актриса играла комических старух.
– Понимаешь?
– Понимаю. Давай, Нюха, шубку.
– Театр едет во Францию, в Германию и, наверно, в Америку.
– Ух ты!
– В Париж… А?.. Здорово?
Словно предугадав гастроли, Мартышка четвертый месяц занималась с француженкой языком и уже читала со словариком французские романы.
– В Париж, Толюха!
– И ты ведь поедешь. Она сняла боты:
– А вот об этом еще надо подумать.
– Чего же тут думать?
– Как чего?..
– Ах, да… ты про это?
– Вот и давай решать.
– Нет, Нюша, решать будешь ты.
– Почему только я?
– Рожать-то тебе, а не мне.
– Но иметь сына или не иметь – это касается нас обоих. Не так ли?
Мы оба были уверены, что изготовляется мужчина.
– Или тебя это не очень касается? Я ответил каким-то междометием.
– Вот, Толя, и надо решать: Париж или сын.
– Думай, Нюша. Хорошенько думай. И решай.
– А я уже давно решила. Конечно, сын.
Я поцеловал ее в губы и сказал:
– Ты у меня, Мартышка, настоящий человек. Совсем настоящий. Хотя носа у тебя действительно маловато. Впрочем, я с первого взгляда не сомневался, что ты настоящая.
– Дурень! Это ведь только влюбляются с первого взгляда.
– Нет, шалишь! Все самое большое и хорошее делается с первого взгляда. И влюбляются с первого, и не сомневаются с первого, и предлагают руку с сердцем с первого. Все, все!
– Между прочим, ты мне их еще не предлагал.
– Неужели забыл?
– Ага! Ты ведь такой рассеянный.
А ночью, в кровати, при потушенной электрической лампочке, я ей сказал:
– Знаешь, Нюха…
– Знаю, знаю. Спи.
Она, конечно, сразу поняла, что я собрался утешать ее.
– Подожди засыпать, Нюха.
– О-о-ой! – простонала она.
– Понимаешь, есть наши русские повадки, которых я терпеть не могу.
– По матушке посылать? Я горячо возразил:
– Нет, эта очень милая! Я о других говорю. Ну, скажем, давать честное слово и не выполнять его.
– Спи, Длинный. Завтра дашь слово.
– Нет, я сегодня хочу дать. Сейчас.
– Вот беда! Пойми, мучитель: у меня утром ответственная репетиция.
Она готовила роль Коломбины в «Короле – Арлекине».
– Сплю! – И повернулась на левый бок.
– Стой, стой! Это чертовски важно!
– Ну, ей-богу, успеется. Мы ведь будем с тобой разговаривать… об очень важном… каждую ночь… еще лет пятьдесят подряд.
– Само собой! – воскликнул я, нисколько в этом не сомневаясь.
И, очевидно, не ошибся. Тридцать восемь лет мы уже проразговаривали.
– Так вот, Нюха, даю тебе слово, что когда нашему парню стукнет год…
– Пусть он еще сначала родится.
– За этим дело не станет. Так вот: когда ему стукнет год, мы со спокойной совестью оставим его на бабушку, а сами – в Париж!
– Что?..
– Везу тебя в Париж.
Ей сразу спать расхотелось:
– Ну да… везешь.
– Честное имажинистское!
Тогда Никритина немедля зажгла лампочку.
– А встречать нас с тобой будет на парижском перроне…
– Анатоль Франс! – ехидно вставила она.
– Нет, бери выше – Есенин.
– Есенин с Дункан! Ведь они к тому времени еще не разведутся.
– Пожалуй.
После этого мы проболтали до раннего утра, и она побежала на репетицию взволнованная, счастливая.
– Кланяйся Арлекину!
– Слушаюсь.
Его с блеском играл Николай Церетелли.
– Обязательно поклонись! Не забудь. А то ведь у нас передают поклоны только очень хорошо воспитанные люди. С гувернантками воспитанные.
– Значит, я обязательно забуду. И убежала.
– Боты! Боты! Надень боты!
А поклониться своему партнеру она, конечно, забыла. Воспитывалась-то без гувернанток. Где там! С девяти лет зарабатывала на жизнь, давая уроки восьмилетним буржуйчикам.
– Ох, и строгая я была! – с гордостью вспоминала бывший педагог. – Но репетитор отличный. Девчонок чуть что за косы драла, а мальчишек кормила подзатыльниками.
– Помогало?
– Очень! Они такие успехи делали! Родители даже удивлялись: вот, мол, сама от горшка два вершка, а детей прекрасно воспитывает.
А ночью, после уайльдовской «Саломеи» (Никритина играла пажа: «Посмотри на луну. Странный вид у луны. Она, как женщина, встающая из могилы. Она похожа на мертвую женщину…»), так вот, после недлинного спектакля, как только мы потушили над кроватью электрическую лампочку, я сказал:
– Знаешь, Нюха, мне хочется дать тебе второе слово. На этот раз она оказалась даже нетерпеливой:
– Имажинистское?
Любя наши стихи, с успехом читая их на концертах и зная нашу горячую веру в поэтический образ, Никритина принимала «честное имажинистское» по меньшей мере как дореволюционную клятву перед распятием.
– Давай, давай! Я честному имажинистскому верю.
Уж такая была верующая эпоха. Политические вожди верили в мировую революцию, поэты – в свои молодые стихи, художники – в свои бунтующие кисти, режиссеры – в свои спектакли с потухшей рампой и прожекторами, вспыхнувшими под потолком. В эту эпоху даже в Бога не верили с дерзкой верой в свое безбожие.
– Ну?
Это было самое ходовое никритинское словечко. Всегда и во всем торопясь, она и других неизменно поторапливала.
– Ну?
– Камерный театр надолго ли уезжает?
– Примерно на год.
– К его возвращению у меня будет написана пьеса.
– Хо! Очень она нужна Таирову! Ты что, Уайльд? Клодель, Скриб? Для того чтобы Таиров принял пьесу, тебе надо сначала стать англичанином или французом. Потом, чтобы тебя перевели на язык родных осин. Потом…
– Третьего дня, – перебил я, – мы встретились с Александром Яковлевичем на Тверском бульваре, он взял меня под ручку, усадил на скамейку и добрый час уговаривал написать пьесу для…
– Ага! Для Алисы?
– Подожди. О Коонен не было сказано ни одного слова.
– Ах ты мой длинный простофиля…
– Подожди, Нюшка!.. Так вот: я напишу пьесу. Это будет подарок тебе за сына. Пьесу с чудной ролью для тебя.
– Милый, любимый… – взмолилась она, – умоляю: не пиши с чудной ролью. Ни в коем случае! Только не с чудной!
Я сразу понял ее опасения.
– Да не сможет Коонен играть твою роль.
– Сможет, сможет!
– Нет!
– Обязательно сможет, если роль будет чудная.
– Да я, Нюха, кое-что соображаю. Действующие лица будут говорить о тебе: «У нее очень мало носа», будут говорить: «Тоненькая, как соломинка», «Легкая, как перышко», «С головкой, как черный шарик». Я тебя сделаю шестнадцатилетней негритоской.
– Все равно Алиса возьмет роль! Возьмет, возьмет!.. Если она будет чудная… – повторяла Никритина сквозь слезы.
– Слушай меня: по пьесе все станут называть тебя Мартышкой. Учти это.
– Мартышкой?
Глаза у моей актрисы мгновенно высохли и засияли.
– Это гениально!.. Мартышку Коонен не захочет играть. Ни за что не захочет!.. Она же играет только красавиц!
– Само собой.
– Ой, какой ты у меня талантливый! Какой умный! – И Мартышка стала целовать меня в нос, в рот, в уши, в глаза. – А когда ты начнешь писать пьесу? Садись сегодня же!
– Я уже начал. В голове начал. Это ведь самое главное.
– А как будут звать эту черномазую? Меня, меня.
– Зера.
– Зера?.. Ладно. Начну слегка привыкать и вживаться в нее. В эту черномазую Зеру. По Станиславскому.
Я сказал с упреком:
– Вживаться? Вживаться… по Станиславскому? Вот так актриса Камерного театра.
– Ты, Длинный, не рассказывай об этом Таирову. Он и так возмущен моей историей. Я ведь рассказала Алисе. А она, конечно, передала Таирову.
– И он уже предвидит твой живот?
– Вероятно.
– Это неэстетично… живот?
– Да, неэстетично. Александр Яковлевич действительно говорил, складывая по-наполеоновски руки на груди: «Театр едет на гастроли в столицы мира, а вы рожать вздумали! Что это за отношение к театру? Актриса вы или не актриса?»
А Изадора Дункан при каждой встрече нежно гладила Никритину по спине:
– Я буду обожать твою малютку. Я буду ей бабушка.
– А Таиров ругает Мартышку, – пожаловался я.
– У него очень маленькое сердце! – сказала Изадора.
– Но зато какие мизансцены! – сказал я.
– Один ребенок Никритиной больше, чем весь театр Таирова, – проронила она.
– Скажи это Таирову, Изадора.
– Корошо.
И она действительно сказала при первой же встрече. А тогда еще и горячо, от сердца посоветовала:
– Рожай, пожалуйста, Нюша, много-много. Рожай, пожалуйста, каждый год.
Я не улыбнулся на этот совет, так как глаза у нее наполнились слезами, и я понял, что в эту минуту она вспомнила своих детей, погибших в Париже при автомобильной катастрофе.
– Корошо?.. Корошо, Нюша? Ты будешь?..
Она прелестно говорила это «корошо» и была божественна, когда глаза у нее наполнялись слезами.
Весной Камерный театр уехал. Никритина стала тихой-тихой. Такая уж человеческая порода эти актрисы. Кончаются репетиции, прекращаются спектакли, уносятся домой ящички с гримом, тухнут фонари перед входом в театр, и они, эти актрисы, делаются задумчивыми и грустными, как охотничьи собаки без охоты: лежат целыми днями на своих подстилках и жалобно поскуливают.
– Пора и нам, Нюша, о своем лете подумать, – сказал я.
– Уже?.. Об лете?..
– Куда бы махнуть нам?
– Подумаем.
А подумать было о чем: хотелось найти синее небо, теплое море и песчаный берег поближе к родильному дому. Мечталось – даже по соседству с ним.
– Подайтесь-ка, друзья мои, в Одессу-маму, – посоветовал Вадим Шершеневич. – Одесситки любят рожать с комфортом.
– Это неплохо, – откликнулась Никритина со своей «подстилки», как я называл нашу неперсидскую тахту.
– Одесситки прелестны и умны, как черти! – сказал Шершеневич.
– Я вижу, Дима, у вас большой опыт.
– Поэту надо знать жизнь, Мартышка. Я спросил озабоченно:
– В Одессу?.. А у тебя, Нюха, в Одессе имеется хоть какая-нибудь подружка?
– Нет.
– Зато у меня найдется. И не одна, – успокоил Шершеневич. – Они будут теми же и для вас, ребята.
– Завидую тебе, Вадим, – вздохнул я. – В каком российском городе у тебя их только нет, этих подружек!
– А я, Анатоль, люблю путешествовать… с остановками.
– Очень завидую, Дима.
– Ну-ну! Я тебе сейчас так позавидую, любезный супруг!
– Это я, Нюша, чисто теоретически.
– Ладно уж. Шершеневич сказал:
– К серьезному делу, друзья мои, надо относиться серьезно. – И он, как перед выступлением в диспуте, погладил свой энергический подбородок. – Сегодня же я отправляю письмо в Одессу.
– Кому, Дима?
– Розочке Полищук. Дерибасовская, 24, квартира 3. Это прелестная молодая мать четырех детей.
– Всего-навсего?
– Пятый в проекте.
– Очаровательно!
– Поверьте, Мартышон, в Одессе выродите, как королева Великобритании – с полным сервисом.
– Серьезно?
– Честное имажинистское.
Когда за Шершеневичем захлопнулась парадная дверь, я взял Никритину за кисти рук:
– Поднимайся, дружок, поднимайся. Первый час. Надо вставать.
– Надо? А зачем? Зачем, собственно, мне это надо? – сказала она тем голосом, от которого у меня начинало щемить сердце. – Зачем?
В ее тоне появилось даже что-то мхатовское, что-то чеховское, что-то из «Трех сестер», напоминающее: «В Москву, в Москву!»
Я сказал:
– Того гляди, Нюша, мы с тобой уедем в Одессу. Не желаю, чтобы наш Кирилка был незаконным Мариенгофом.
– Ах, ты про это… – Она лениво, по-кошачьи, потянулась.
– Поднимайся, поднимайся. И пойдем в загс.
– Успеется, Длинный.
– А вот в этом я совершенно не уверен. Поскольку мне известно, у Господа Бога эта бухгалтерия не слишком точна.
– Конечно, случаются и просчеты, – согласилась моя отяжелевшая половинка.
Я поднял ее с тахты.
– Надорвешься, милый.
Встав на пол, она перевернула лист настольного календаря.
– Тринадцатое июня.
– Счастливое число! Пошли в загс. День был веселый, солнечный.
Загс расположился на Петровке. От нашего Богословского переулка было рукой подать.
Мы неторопливо дошагали неполный квартал. Еще неторопливей взбирались на пятый этаж.
– Уф!..
Явно было не предусмотрено, что попадаются и такие невесты, которым перед свадьбой надо передыхать на каждой площадке лестничного марша.
– Загс!
– Прошу, мадам.
И я с шиком ресторанного швейцара распахнул обшарпанную дверь.
Вошли.
До 1917 года это помещение, несомненно, было доброй половиной порядочного коридора в буржуазной квартире. Фанерная перегородка, выкрашенная, как железная крыша, в зеленый цвет, пыталась превратить бывший коридор в служебный кабинет. За пишущей машинкой почему-то сидела не машинистка, а машинист, то есть мужчина, с седой бородкой клинышком и в пенсне на черной ленте, свисавшей на старенький коричневый френч со следами от узких погон земгорского образца.
Этот советский служащий сразу несколько удивил нас. Даже в революционной Москве донэповской эпохи пишущие машинисты попадались нечасто.
– Добрый день, товарищи, – приветливо сказала Никритина.
– Милости просим, – строго ответила женщина в белой крахмальной кофточке с длинным темным галстуком, завязанным тщательно. Она сидела за письменным столом под большим пожелтевшим портретом улыбающегося Анатолия Васильевича Луначарского. Прорванное сукно письменного стола было обляпано фиолетовыми чернилами.
«Спасибо, что хоть наш нарком улыбается в этом невеселом кабинете», – подумал я.
Женщина под его портретом поразила меня сходством с покойной тетей Ниной, этой семейной «аристократкой», словно появившейся на белый свет готовой классной дамой женского благородного института.
– Входите, граждане. Мы ведь не кусаемся, – очень строго пошутила почти тетя Нина, не отрывая прищуренных глаз от никритинского живота.
– Спасибо.
И Никритина, взяв меня под руку, смело зашагала к письменному столу.
У почти тети Нины были такие же серые волосы, собранные в жидкий пучок, как и у настоящей тети Нины. После военного коммунизма пучки на женских затылках изменились. Даже немолодые дамы покупают в парикмахерских чужие косы и привязывают их к своим крысиным хвостикам или подкладывают старый шелковый чулок под собственные немногочисленные волосы. Тогда пучок становится пышным. Это умно. Это делает даже полустарух более или менее женственными.
– Товарищ Олегов, – сурово обратилась почти тетя Нина к пишущему машинисту, – будьте любезны, придвиньте кресло для уважаемой невесты.
– Не беспокойтесь, пожалуйста! – запротестовала Никритина. – Я постою.
– Что? Постоите? В таком положении! Это было сказано сурово.
«Что делать, как быть с неулыбающимися людьми? – мелькнуло у меня в голове. – Это, вероятно, неизлечимо».
К счастью, с канцелярской частью они покончили довольно быстро. Потом нам пожали руки и пожелали счастливой супружеской жизни.
– Спасибо, спасибо!
– Будьте здоровы!
– До свиданья!
– Прощайте! – сказали мы этим остаткам эпохи военного коммунизма и, задыхаясь от смеха, покинули большевистский храм любви.
– Уф!..
Выйдя из подъезда на солнечную Петровку, я обратился к подруге своей жизни в тоне почти тети Нины:
– Поздравляю вас, Анна Борисовна, с законным браком!
– И вас также, Анатолий Борисович! – тем же тоном ответила она.
И мы с наслаждением расхохотались.
– Теперь, Анна Борисовна, надо спрыснуть нашу свадьбу.
– А как же, Анатолий Борисович! Шлепаем в ресторан.
– Шлепаем! Но… – Я запнулся. – А как же быть с Кирилкой? Парень, пожалуй, накачается и поднимет в твоем пузе пьяный скандал.
– Обязательно! Я его характер знаю.
– В таком случае, Нюха, ты выпьешь только одну рюмочку шампанского.
– А ты?
– Только одну бутылку.
– Гусар! Денис Давыдов! – сказала она с доброй иронией. И такая бывает.
– Где уж нам в гусары!
И я рассказал супруге очаровательную легенду: в Париже в каком-то кабаке Денис Давыдов услышал, как французы заказывают: «Одну бутылку шампанского и шесть бокалов!» «А мне, пожалуйста, – обратился наш гусар к тому же гарсону, – шесть бутылок шампанского и один бокал!» Легенда уверяет, что восторженные французы, после того как Денис осушил последнюю бутылку, вынесли его на руках, хотя он мог великолепно идти на своих двоих.
– Даже не пошатываясь, – заключил я.
– Молодчина!
– К сожалению, это только предание. Поэтическое предание. Вероятно, и о нас с Есениным будут рассказывать что-нибудь в этом духе.
– Уже!
– Что «уже»?
– Уже рассказывают.
– Кто? Какие мерзавцы?
– Наши актеры.
– Ох уж эти актеры! – воскликнул я. – Они такое порасскажут!
– Слава Богу, им верят только дураки.
– И… многочисленное потомство, читающее дурацкие актерские мемуары.
– Ах, я так их люблю!
– Актриса!
– Увы. А ты бы, Длинный, мечтал жениться на докторе?
– Нет, нет! Только на тебе! Даже если бы ты была укротительницей тигров.
На углу Столешникова я купил букет сирени и преподнес своей узаконенной подруге. Она улыбнулась:
– Белая! Белая сирень! Символ моей чистоты и невинности?
– Именно.
– Спасибо, Длинный. Я обожаю язык цветов. Никогда, пожалуйста, не преподноси мне желтых роз. Я ненавижу ревновать.
– Тебе, Нюшка, и не придется.
– Честное имажинистское?
– Да! Да! Да!
– Запомним это. Я замедлил шаг:
– Стоп! Выбирайте, гражданочка, ресторан.
– Самый роскошный?
– Само собой.
– «Ампир»!
– Правильно.
Создатели этого заведения ранней эпохи нэпа пытались соперничать с Екатерининским дворцом в Царском Селе.
Сияя, как июньское солнце, мы свернули в Петровские линии.
Из «Ампира» я позвонил Шершеневичу.
– Вадим Габриэлевич дома? Попросите его.
– Анатоль?.. Это ты?.. А я только что звонил вам… Получил телеграмму из Одессы. В шестьдесят четыре слова!.. Розочка в восторге. Ждет Мартышку, ликует… Боже мой, а какой у Розочки телеграфный стиль!.. Романтика! Самая высокая! Прямо Виктор Гюго по-одесски. Родильный дом на Дерибасовской Розочка называет Дворцом деторождения. Палата для Мартышки уже забронирована. А в Аркадии, в пяти минутах от пляжа, снята для вас комнатенка… Что я! Вилла! Вилла! В десять метров и четверть балкончика в два с половиной метра… Розочка умоляет немедленно телеграфировать: день приезда Мартышки, каким поездом и номер вагона. Встречать ее будут на вокзале все Полищуки. А их в Одессе больше, чем в Москве Капланов! – кричал Шершеневич в телефонную трубку.
– Ты, Нюшка, все слышала?
– Еще бы! По-моему, и на Петровских линиях все было слышно. От слова до слова.
– Конечно. Он же великий оратор.
В ресторанном зале было пустынно. Незанятые столики сверкали реквизированным у буржуазии хрусталем, серебром, фарфором, скатертями цвета первого снега и накрахмаленными салфетками. Они стояли возле приборов навытяжку. Это был парад юного нэпа. Он очень старался, этот нэп, быть «как большие», как настоящая буржуазная жизнь.
Мы сели за столик возле окна.
Заказ принял лакей во фраке с салфеткой, перекинутой через руку (тоже «как большой»):
– Слушаю-с… Слушаю-с… Слушаю-с… Я проворчал:
– Вот воскресло и лакейское «слушание».
– Противно!
Потом Мартышка сказала:
– Я считаю, Длинный, что самое удобное – переправить на юг нашего парня в этом чемодане.
И она показала горячим глазом на свой собственный.
– В пузе? – спросил я не без волнения.
– Тогда у меня будут руки свободны. Для сумочки и зонтика.
– В этом, конечно, есть некоторое удобство.
– Огромное!
Но сердце у меня защемило.
– Сообразим.
– А когда, Длинный, ты думаешь разделаться со своими московскими делами?
– «Гостиницу» я выпущу дней через десять – двенадцать. (После отъезда Есенина за границу наш журнал «Гостиница для путешествующих в прекрасном» целиком лег на мои плечи.) И примерно еще неделька, чтобы наскрести деньжат на лето. На все лето.
– Придется ехать одной, – сказала она бодро. – Я во что бы то ни стало хочу рожать с полным сервисом… как королева Великобритании.
Жесткий спальный билет («купейный», как говорят теперь) был куплен накануне отъезда. На мягкое место не наскребли денег. На новый чемодан тоже не наскребли. Пришлось вытащить из-под тахты мой старенький фибровый. Укладывая вещи, я с признательностью похлопывал его по вдавленным коричневым бокам.
– Это мой добрый товарищ! – приговаривал я, приминая коленкой пеленки и распашонки. – Он верой и правдой послужил мне всю мировую войну… Давай, Нюха, сарафанчик!.. Давай халатик!.. А потом той же верой и правдой он служил нам с Есениным во всех наших скитаньях по земле советской в годы военного коммунизма.
– А теперь послужит превосходной кроваткой нашему парню, – добавила будущая мамаша.
– Послужит, послужит! Не сомневаюсь в этом.
Извозчик нам подвернулся лет пятнадцати. Но не на шутку осанистый. А его пролетка просто сверкала на солнце свеженьким лаком.
Моего верного фибрового товарища я устроил на козлах.
– Валяй, брат, задирай на него ноги! – посоветовал я нашему осанистому вознице.
По дороге на вокзал, на Мясницкой, я неожиданно увидел Рюрика Ивнева выходящим из магазина «Чай и кофе». Наш друг был страстным «чаепитчиком», как сам называл себя.
– Остановись, старина! – сказал я, постучав в спину возницы, как в мягкую дверь.
Он неохотно придержал коня.
– Рю-ю-юрик!.. – заорал я. – Рю-ю-юрик!..
– Толя! Мартышка!.. – ответил он девическим голоском. – Куда это вы? Куда?
– В Одессу!
– Зачем?
– Рожать!
– Сумасшедшие!.. Уже поздно!
– Рожать, Рюрик, никогда не поздно, – наставительным тоном ответила Мартышка.
– Я хочу сказать: не слишком ли поздно собрались?
– Лучше поздно, милый, чем никогда!
– Не уверен в этом, Мартышка! По-моему, лучше – никогда.
Он был заядлый холостяк.
Но извозчик уже тронул вожжой своего коня.
– Вот подлец! – проворчал я. – Он, видимо, струсил, Нюха, что ты рассыплешься на его блестящей пролетке.
– Конечно. Каждый бы на его месте струсил.
Я невольно вспомнил испуганные глаза Рюрика Ивнева, которыми он смотрел на наш знаменитый фибровый чемодан. Он с ним тоже раза два путешествовал во время гражданской войны.
Мне всегда нравились глаза нашего поэта под тяжелыми веками. Я даже написал о них целую строфу в своей поэме «Друзья». Это были глаза святого и великого грешника. Что всегда рядом.
А только что, в ту секунду, когда он пропищал: «Сумасшедшие!..» – я увидел, что это были добрые, по-настоящему испуганные глаза старого друга.
Рюрик Ивнев писал не только очень хорошие стихи, но и очень плохие романы. Поэтому их охотно печатали и еще более охотно читали.
Поэтому Шершеневич любил повторять крылатую фразу Мережковского: «Что пошло, то и пошло». И даже обмолвился эпиграммой:
Не столько воды в Неве,
Сколько в Рюрике Ивневе.
А Есенин говорил: «Наш Рюрик пишет романы очень легко. Легко, как мочится».
К счастью, наш друг не обижался. Мне даже казалось, что ему были приятны эти цитаты, обмолвки и литературно-критические сентенции.
А вот названия он придумывал для своих романов действительно отличные: «Любовь без любви», к примеру.
Наш поезд отходил в 20.14. Вечер был теплый, почти черноморский. Фибровый чемодан не слишком отягощал меня. А Мартышка несла в руках зонтик, сумочку и букет красных гвоздик. Я отлично усвоил язык цветов. Красный означал: «Люблю безумно».
– Осторожно… Не оступись… Здесь желобок… Смотри под ноги… ступенька…
– Мне кажется, Длинный, ты волнуешься.
– Чуть-чуть.
– Врешь, Длинный, что чуть-чуть.
– Если хочешь знать чистую правду: чуть-чуть больше, чем чуть-чуть.
– Опять врешь.
И она сжала мне руку теплыми пальцами:
– Немедленно, Длинный, выкинь из головы всякие ду рацкие страхи за меня. Слышишь?
– Слышу. – Ну!
– Есть. Выкинул.
– Опять врешь.
Фибровый чемодан я заботливо положил в головах – под жидкую вагонную подушку.
– Так тебе будет, Нюша, удобнее спать. Повыше будет. Правда?
– Конечно. Повыше и пожестче.
– Тогда я положу чемодан в ноги.
– Пожалуйста. Если он не обидится. Места нам обоим хватит. Все равно я сплю калачиком.
Нет, шутки до меня не доходили. Я был настроен слишком серьезно.
В купе уже расположились три курортницы: молоденькая в шелковой пижаме со шнурами на груди, как у гусара, не очень молоденькая в ситцевом сарафане и толстая крашеная дама в фиолетовом халате, которая мужественно боролась со старостью. Она вытирала кружевным платочком три потных подбородка, обмахивалась костяным китайским веером и громкими глотками пила боржом прямо из бутылки. Мне передавали, что англичане для развлечения ходят в немецкие рестораны, чтобы слушать, как немцы едят. Признаюсь, что это развлечение не в моем вкусе. И я трусливо сбежал.
– Они сразу увидели! – сказала Нюша, выйдя из купе в коридор, где я поджидал ее у раскрытого окна.
– Неужели?
– И не могли оторвать глаз. Я бодро сказал:
– Тебе повезло, Нюша. В купе одни женщины. Очень повезло.
– Но я, Длинный, предпочитаю мужчин. – И она с улыбкой пояснила: – Мужчины, видишь ли, поженственней, помягче.
Я сделал вид, что не согласился с этим:
– Чепуха! Парадокс! Держись, дружок, храбро.
– А я сразу лягу. Постель уже приготовлена.
– Правильно. Сразу на боковую. И спи. Проводник принес для моих гвоздик воду в полулитровой стеклянной банке из-под маринованных огурцов.
– Большое спасибо, товарищ, – сказала она провод нику.
И, поставив цветы в воду, вернулась к окну. Я поинтересовался:
– Все в порядке?
Нюша мотнула головой в сторону шептавшихся курортниц:
– Обсуждают мой живот.
– Не фантазируй, дружок.
– Мне ли не знать женщин? Сама-то я кто? Фиолетовая решительно закрыла дверь в купе. Я прокомментировал не слишком уверенно:
– Вероятно, хочет попудрить нос.
Но Нюша стояла на своем:
– Они смотрели на мой живот, как на Гималайские горы. Вероятно, похоже?
– Ничего подобного! Я даже поражаюсь, как они его заметили.
– Ах ты, мой длинный дурень! – И Нюша опять сжала теплыми пальцами мою руку.
Раздался второй звонок. Мы обнялись и крепко поцеловались. Она старалась приободрить меня:
– Не вешай, Толюха, носа. Я постараюсь не родить до твоего приезда.
– А это можно – постараться? Постараться или не постараться в этом деле?
– Конечно, можно! – сказала она убежденно.
И самыми правдивыми на свете глазами взглянула в мои глаза:
– Вообще, Длинный, все будет замечательно.
– Не сомневаюсь! – со слезой в горле согласился я. – Ни одной минуты не сомневаюсь.
И даже пошутил. Первый раз за тот вечер пошутил:
– Только, пожалуйста, милая, не играй в футбол. Она поклялась, что не будет. Потом добавила:
– В крайнем случае постою в воротах голкипером.
Когда поезд отгромыхал Москву, будущая одесситка вошла в купе, переоделась на ночь, съела яблоко, вынула из сумочки «Вечерку», легла и натянула до подбородка белое пикейное одеяло. Гималаи словно покрыл снег. Курортницы не отрывали глаз от этого величественного зрелища. Тогда будущая одесситка повернулась носом к стене и стала посапывать. «Вечерка» выпала из ее рук. Ничего сенсационного в ней не было.
– Заснула, как безгрешный ангел, – пробасила фиолетовая.
– Вот какие бывают «приятные» сюрпризы! – сказала не очень молоденькая. – Железнодорожные сюрпризы!
– Еще родит нам тут среди ночи! – как наработавшийся пильщик, тяжело вздохнула фиолетовая.
– Вполне вероятно, – согласилась не очень молоденькая. – Моя дочка на крыше родила. С биноклем в кармане. Во время солнечного затмения.
– Нет, не родит. Она в нашем купе не родит. Даю вам честное благородное! – твердо сказала очень молоденькая. – При первых же схватках я ее из вагона высажу.
– Куда? – безнадежно пробасила фиолетовая. – Куда вы ее высадите?
– К чертовой бабушке! Опущу тормоз Вестингауза и высажу. Хоть в чистом поле высажу. Вот увидите!
И очень молоденькая сердито надула свои пухлые розовые щечки с прелестными ямочками, которые возникают у тех, кого, как замечено, при рождении целует ангел в эти местечки. Словом, она была прелестна, эта юная супруга магазина «Комфорт», что процветал на Петровке по соседству с «Ампиром». Красотка ехала в Одессу «к папе и маме своего второго мужа», которому была фамилия Полищук, то есть та же, что и у Розочки.
«Вот как весело играет случай», – подумала Никритина. И, засыпая, твердо решила: «А моему Длинному я обязательно передам со стенографической точностью весь женский диалог. Писателю полезно знать жизнь как жизнь. Не подсахаренную».
Толпа Полищуков бурно встретила московскую актрису. Не хватало только еврейского оркестра.
Пылкая прелестная Розочка, громко расцеловавшись с прибывшей, сказала:
– Называйте меня просто Розочка.
– С удовольствием.
– А мне можно называть вас просто Аннет?
– Можно, Розочка. Но еще проще – Мартышка. Так меня все называют.
Жаль, что я не был при этом. Я бы сказал себе с удовлетворением: «О, это плоды нашего имажинистского воспитания! Три года тому назад ты, милая, была важной Мартышкой. На вопрос Розочки ты бы непременно ответила: "Меня зовут Анной Борисовной"».
Разговор на одесском перроне продолжался.
– Вы, Аннет, я вижу, обожаете путешествовать, – сказала Розочка.
На что Никритина пошутила:
– Преимущественно, Розочка, на девятом месяце. В конце девятого.
– Хорошо, что Димка написал об этом. Иначе бы никому не пришло в голову, что вы на девятом.
Она словно воспитывалась в Версале, у мадам Помпадур, а не у тети Фани, знаменитого на всю Одессу зубного врача.
– Вы отчаянная комплиментщица, Розочка.
В ответ Розочка страстно обняла свою новую подругу:
– У меня, Аннет, такое чувство, что я обожаю вас всю жизнь. Да, да! Будто мы вместе играли в «дочки-матери», а потом вместе влюбились в одних и тех же мальчишек… Давайте перейдем на ты!
– С удовольствием, Розочка.
Я приехал в Одессу 9 июля.
– Вот, Длинный, твоя Мартышка и сдержала свое обещание: без тебя не родила. Постаралась. Доволен?
Это были самые первые слова, которыми она встретила меня на перроне.
Мы расцеловались, и она опять спросила:
– Очень доволен? Очень?
– Еще бы!
Но подумал: «Постаралась не родить. Она постаралась! Нет, малоносая, не ты постаралась, а Бог за тебя постарался… Да». Нюшка великолепная актриса: врет с глазами праведницы. Для мужа это очень опасно. Черт побери, а вдруг когда-нибудь мне придется сказать своему парню: «Только, дружище, не женись на актрисе!» Спасибо, что вышло по-другому. Незадолго до смерти мальчугана кто-то спросил его: «Как ты думаешь, Кирка, в чем счастье?» Он задумался, взглянул на свою мамашу и ответил: «В хорошей жене». Это был ответ мудреца. Но об этом я поподробней расскажу дальше.
Итак, я приехал 9-го, а 10-го утром уже с упоением слушал, как пищит наш парень. Как необыкновенно, как замечательно он пищит! И еще, затаив дыхание, я любовался, как он, задрав лапы, согнутые в коленках, дрыгает ими. Причем пятки у него были красные, как одесские помидорчики.
А под воскресенье я уже перевез свое семейство на дачу в Аркадию.
На этот раз возница был на полвека старше нашего последнего московского. Вдобавок с усами, как на портретах Буденного, только с седыми.
– В Аркадию? – переспросил он. – В нашу счастливую Аркадию?
В это мгновение Кирка пронзительно закричал.
– Поехали, поехали, святое семейство. Но-о-о!.. И, взмахнув шикарным кнутом, усач скаламбурил:
– Бог даст, мамочка, не разнесу вашего Беню Крика… Что?.. Вы читали Исаака Бабеля?..
– А кто это такой, дедушка? – с самыми правдивыми глазами спросила счастливая «мамочка», считая Исаака Бабеля русско-еврейским Мопассаном.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































