Текст книги "Мой век, мои друзья и подруги"
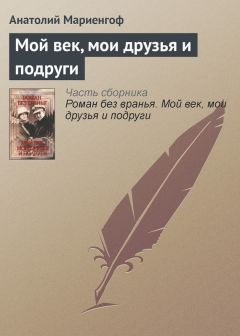
Автор книги: Анатолий Мариенгоф
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 17 страниц)
27
Иду по Невскому. День ясный. Прыгают воробьи. Так дошкольницы прыгают, играя в «классы».
Длинный золотой палец Адмиралтейства показывает путь в небо. А мне сегодня и на земле неплохо: только что я купил для своего Кирилки прелестную сучку-пойнтера. Какие уши! При насморке они вполне могут заменять ей носовые платки.
Какой смеющийся, болтливый хвост! Прошу прощенья, собачники говорят не «хвост», а «прут».
Провозившись с сучкой часа два, я ее удочерил в своем сердце.
Хорошее отношение к собаке невольно перешло и на людей: улыбаюсь первым встречным. Они, вероятно, думают: «Не иначе, как по займу, подлец, выиграл!» Ведь у нас слово «подлец» почти ласковое.
– Анатоль!..
Это меня окликает актер из Александринки, полуприятель.
Мы сворачиваем в скверик и останавливаемся возле вогнутого фронта морщинистых колонн Казанского собора. Кирилка когда-то называл его Казанским забором, и я не поправлял малыша, так как это довольно точно.
Актер целует меня. Все они поцелуйники. И гудит, словно из пустой бочки:
– Как жизнь молодая?
Такие голоса почему-то ценятся в театральном мирке. Даже Мейерхольд их ценил. Мой полуприятель плохо играл у него хорошие роли. А ведь Всеволод Эмильевич обладал изощренным вкусом и относился с надменной иронией к своему мирку.
– Эти… – говаривал он, – двухфамильные: Орлов – Чужбинин! Блюменталь – Тамарин! Коваль-Самборский!..
И брезгливо морщил сиранодебержераковский нос. Или:
– Ужас! Среднего образования им не хватает! Вместо «и» – говорят «ы». Далекый, дикый, великый!.. А кто виноват?.. Малый театр! Перепортил он интеллигентную русскую речь!
Я защищаю Дом Щепкина:
– Перепортил не русскую речь, а санкт-петербургскую. Серое облако с Финского залива закутывает солнце.
– Присядем, Анатолий.
– Пожалуй.
На скамейке расчихался старичок. У него в ушах ватка. Молодой командир неловко нянчит на руках плачущего младенца в голубом одеяльце. Шестилетняя девочка в больших металлических очках прыгает через веревочку. Скиснув, я мысленно спрашиваю: «Веселый пойнтерок, где ты?» Удрал, каналья, из моего сердца.
Старичок с ваткой в ушах, молодой командир с плачущим младенцем на руках, полуребенок в больших металлических очках – все они вызывают у меня грусть как недобрая насмешка над человеком.
– Живет человек, живет и… в ящик! – продолжает гудеть актер. – И гений в ящик, и бездарь в ящик. Так сказать, на равных демократических началах. Экое хамство!
– Да кто умер-то? – спрашиваю я, поднимаясь со скамьи. Он широко, как на сцене, разводит руками:
– Ка-а-ак! Ты не знаешь?.. Качалов помер.
У меня подкашиваются ноги. В самом прямом смысле слова – подкашиваются.
– Качалов?
– Ну да! Наш Василий Иванович! Так называла его вся Россия.
Я знал, что Качалов лежал в Кремлевке с воспалением легких.
– Когда? Когда это случилось?
– Сегодня, в шесть тридцать утра.
– Кто тебе сообщил?
– Господи, да у нас весь театр только об этом и говорит. Все актрисы зареванные, артисты за помин души пьют. Пойдем, Анатоль, выпьем по стопочке.
– Нет, нет!
Этим гудящим актерам только бы случай подвернулся, за что им выпить.
Я спешу домой. У меня странно заплетаются ноги, словно несу очень тяжелый чемодан.
Никритина уже все знает. Я понимаю это по ее глазам – сухим, расширенным и опустевшим.
– Надо, Толя, дать телеграмму. – Да.
– Напиши.
– Напиши ты. – Я?..
– Будь добра. Не умею я этого делать.
– Чего же тут не уметь? Ну, напиши так…
И молчит. Она тоже не знает, какие в эту минуту нужны слова.
– По-моему, Нюша, надо позвонить сначала в Москву. Пыжовой или Саррушке. А вдруг…
Спутница моей жизни безнадежно машет рукой:
– Сейчас в театре я подписалась под коллективной теле граммой. Какие уж тут могут быть «вдруг»?
И наконец-то вытирает пальцем первую скупую слезу.
Минут через десять междугородная соединяет меня с Пыжовой. В этот недомашний час она неожиданно оказывается дома.
– Ольга?.. Ты?.. Говорит Анатолий… Это верно, что… Закончить фразу, слава Богу, мне не пришлось.
– Да иди ты к чертовой маме!
– Нюша!.. Нюшка!.. – кричу я, захлебываясь от счастья. – Ольга ругается!
– Что? Ругается?
– Ого!.. Как настоящая леди!
В сущности, это была цитата из Шекспира. Может быть, вы помните слова Генри Перси: «Выругайся, Кэт, хорошим крепким ругательством, как настоящая леди!»
– Дай, Длинный, трубку! Дай! Передаю.
Вот что выясняется довольно быстро. Пыжову замучил проклятый телефон: дребезжит с самого раннего утра – разные москвичи задают тот же дурацкий вопрос: «Это верно, что…»
А Василий Иванович еще третьего дня перебрался из Кремлевки домой и сейчас с хохотом читает – телеграммы, телеграммы, телеграммы, выражающие соболезнования по поводу его «безвременной кончины».
Неясно только одно: каким образом вся наша немаленькая страна в течение нескольких часов узнала об этой качаловской «безвременной кончине»?
– Мистика! – говорит Никритина.
А разве не мистически путешествует анекдот? Сегодня, скажем, в поддень Ося Прут обмолвился им в киностудии, а к вечеру этот его анекдот уже гуляет по Ленинграду, Одессе, Киеву.
– Мистика! – отзываюсь я.
Примерно через неделю я был вызван в Москву Комитетом по делам искусств. Опять собрались запрещать мою пьесу. Скучная история, повторяющаяся из года в год. У чиновников комитета это называется: «Помогать драматургам в работе».
Приезжаю в Москву, устраиваюсь в гостинице, оставляю чемодан в номере и прежде комитета иду к Качаловым.
В коридоре встречает меня Василий Иванович. Он в суконной синей пижаме с витыми шнурами на груди, в мягких клетчатых туфлях. Гладко выбрит. Подстрижен ниже обыкновенного. Это всегда молодит.
От него пахнет крепким тройным одеколоном. Запах мужчины!
Чуть изменив классику, он жизнерадостно баритонит:
– Умерший тебя приветствует!
В углу на банкетке стоит большая именинная корзина из-под шампанского и фруктов, доверху наполненная телеграммами.
– А нашей здесь нет! – с гордостью говорю я. – Не поймал на удочку.
– Сорвался карась.
– Э, чего тут хвастать! Просто бездарен я в этом деле: не умею выражать соболезнования.
В кабинет входит Нина Николаевна.
– Да уж, конечно, – подергивает она плечиком, – если и по-настоящему умрешь, ты не пошевелишься подать телеграмму.
– Не пошевелюсь, Ниночка. Поэтому не умирай. Не советую.
– А я и не собираюсь, друг мой.
И, прихрамывая, она бегает вокруг письменного стола, что-то на ходу переставляя и перекладывая на нем, к огорчению хозяина. Но он мужественно это выдерживает.
Я спрашиваю Качалова:
– Что же все-таки было? Что за безвременная кончина?
– Была, Анатоль, генеральная репетиция. А скоро и спектакль.
– Да ну тебя, Василий Иванович!
И Нина Николаевна, прихрамывая, выбегает из кабинета. После завтрака мы с Качаловым отправляемся в Александровский сад.
Литовцева напутствует:
– Ты, Василий Иванович, на воздухе не дыши. Не дыши!
– А носом можно?
– Нет, нет! И носом нельзя! Ничем нельзя! А то опять воспаление легких схватишь. Ведь хуже ребенка малого! Еще начнешь на ветру во весь голос «Фауста» читать. Сейчас же дай слово, что не раскроешь рта. Пусть Анатолий свои стихи декламирует. А ты, Василий Иванович, только слушай. Клянись!
– В чем, Нина?
– А в том, что ни разу не раскроешь рта.
– А если я задохнусь?
– Задыхайся на здоровье. Это тебе полезно.
От Брюсовского до Александровского сада рукой подать. Но мы идем долго. Через каждые десять шагов приходится минуту-другую постоять: Василий Иванович раскланивается, благодарит, отвечает рукопожатием на рукопожатие, поцелуем на поцелуй незнакомых людей, радующихся его воскресению из мертвых.
– Интересно, однако ж, кто первый этот слушок пустил? – любопытствую я.
– Артист, конечно! – благодушно отвечает Качалов.
– Похоже на то.
– Как-то, видишь ли, температура у меня упала до тридцати пяти градусов. Один артист узнал об этом от нашей Нины. Побежал в пивнушку. А за столиком сидел второй артист. «Петенька, – кинулся к нему первый, – беда! Качалов отходит!» В Камергерском второй артист подлетел к третьему: «Коленька, друг, трагедия-то какая – Василий Иванович помер!» И пошло и поехало. Они ж знаменитые преувеличители, эти господа артисты.
– О-о-о! – обрадовался я. – Фантазеры, эффектеры! Садимся на скамью.
Иссиня-черная ворона гаркает над нашими головами:
– Прра!.. Прра!.. Прра!..
– Слышишь, поэт, она говорит: «Прра-вда!.. Прра-вда!.. Прра-вда!..»
– Вот, Вася, и еще один артистический рассказ набежал. – Что?
– Про говорящую ворону, которая вмешалась в нашу беседу.
Качалов хохочет.
– Стоп! Стоп! – останавливаю я. – Тебе не разрешено рта раскрывать.
На кремлевской башне звенят черные куранты с золотыми прыгающими стрелками.
Моя мысль отвлекается к общему, и я сетую:
– Ох, и подозрительная наука!
– Ты это про что, Анатоль?
– Да про историю. Она так же треплется, как товарищи актеры.
– История?
– Да, история. «Историческая наука». Наивные легковерные люди так ее называют.
– Треплется, говоришь?
– Конечно! Превращает в дикую чепуху всякий жизненный факт.
– К примеру, синьор?
– Ну, хотя бы об Иисусе Христе. Существовал довольно интересный человек. Слегка эпатируя, он гуманно философствовал в неподходящем месте – в Иудее. Среди фанатичных варваров. Если бы то же самое он говорил в Афинах, никто бы и внимания не обратил. А варвары его распяли. Так поступают во всем мире и в наши дни. Только распинают теперь не на деревяшке, а на газетной бумаге. Разница, в сущности, пустяковая. Возражаешь?
– Нет, не возражаю.
– Да уж ты мне, Вася, поверь: болтливая старуха-история мало чем отличается от актеров, только что тебя похоронивших.
Качалов умел великолепно слушать. Для больших артистов это также обязательно, как великолепно говорить. Только еще трудней.
28
Шла финская война. По улицам Ленинграда люди ходили ссутулившись, как во время сильного дождя. С вечера город погружался в раздражающий мрак.
– К тебе можно, папа?
– Конечно.
Кирка входит, целует меня в затылок, берет газету, берет со стола папиросу, закуривает и садится на низкую скамейку возле потрескивающего камина. Это теперь его любимое место.
– Что скажешь, Кирка?
– Да все то же, папа.
– А именно?
– Война.
– Ну?
– Она, папа, действует мне на нервы. Словно кто-то омерзительно скребет ногтем по стеклу. Так бы и дал в морду: не воюй!
– Ну и дай.
– Кому?
– Человечеству, которое еще не поумнело, хотя и живет на этом комочке грязи не первую тысячу лет.
– К сожалению, папа, я не Бернард Шоу.
– Неужели?
– Да и он только гладит по щекам, а не бьет по физиономии.
Кирка глубоко затягивается:
– Валя мне не звонила по телефону?
– Нет.
Он бросает окурок в камин:
– Может быть, Шура подходила к телефону? И кричит:
– Шура-а-а!.. Валечка мне не звонила?
– Не-е-ет!
Между его бровей ложится тоненькая морщинка.
– Тебя, Кирюха, это волнует?
– Как будто.
– Тогда позвони ты Валечке.
– Не желаю.
Со двора раздается резкий дребезжащий свисток.
– Это, пожалуй, нам свистят, – говорит он. – Шторы плохо задернуты. В наш век мир предпочитает темноту.
И, задернув поплотней шторы, он добавляет:
– Мы потерянное поколение, папа.
– А уж это литературщина. Терпеть ее не могу. И добавляю:
– Бодрей, Кирюха, бодрей. Держи хвост пистолетом.
4 марта Кира сделал то же, что Есенин, его неудавшийся крестный.
Родился Кира 10 июля 23-го года.
В 40-м, когда это случилось, он был в девятом классе.
На его письменном столе, среди блокнотов и записных книжек, я нашел посмертное письмецо:
Дорогие папка и мамка!
Я думал сделать это давно.
Целую.
Кира
В глубокой старости благополучнейший Гете сказал, что за свою длинную жизнь он, в общем счете, был счастлив не больше пятнадцати минут.
Моя жизнь не так уж благополучна. Но счастлив я был больше пятнадцати минут. Однако ни разу не мог сказать: «Сегодня я самый счастливый человек на земле!»
А вот в страшные мартовские дни я был убежден, что среди миллиардов людей, населяющих землю, я самый несчастный человек.
В том же, конечно, была уверена и мать Киры.
Друг мой, живу, как во сне.
Не разговаривай строго.
Вот бы поверить мне
В этого глупого бога!
Все время вспоминаю разговор с Ольгой Ивановной Пыжовой о счастье:
– Вот оно, вот оно, и… нет его!
Из Киркиных записных книжек, тетрадей и блокнотов. Почти без выбора.
* * *
«Поздно вечером я возвращался домой. На дворе, прислонившись к стене, стоял пьяный. Он был маленький, лысый. Рядом в грязи валялась его шапка. Пьяный стоял и плакал. К нему подошел мальчишка и ударил его по лицу. За что? Так. Пьяный плакал. Он чувствовал, что его жизнь горька, как дешевая папироса. Он побежал за мальчишкой. Другой мальчишка дал пьяному подножку и тоже ударил его. Пьяный упал в лужу. Стукнулся головой об асфальт.
Мне показалось, что люди все-таки очень жестоки».
* * *
«Я занимаюсь с немкой. У нее серые грязные волосы и нависшие брови. Она побывала в Париже, в Лондоне, в Берлине, в Риме. Даже в Шанхае. А сидит и рассказывает мне старые сентиментальные истории из учебника немецкого языка».
* * *
«Будущее поэзии, если у нее вообще есть будущее, заключается в коротких лирических стихах, которые можно будет успеть прочитать, стоя в небольшой очереди за хлебом».
* * *
«Не надо употреблять слов „всегда“ и „никогда“. За них мы не можем ручаться».
* * *
Давно забытое свиданье,
Многоречивое прощанье
В нас вызывают легкий шум,
Приподнятую цельность дум,
Скептическое замечанье.
* * *
«Я сижу один, и мне хочется, чтобы кто-нибудь позвонил, поздравил с Новым годом. Зачем скрывать? Именно, чтобы она позвонила и сказала издалека: „Киру можно?“ В эту минуту я слышу телефонный звонок. Я бегу, перескакиваю через тахту и хватаю трубку. „Алло!.. Киру можно?“ – „Это я… Кира!“ – „Не Киру, а Шуру…“
Шура – наша домработница».
* * *
«Слово „грусть“ вызывает у меня тошноту. Всякий дрянной поэтишка, недалекий составитель романсов, глупый человечек стараются скрыть недостаток мыслей и чувств словом „грусть“».
* * *
«Секрет театральности Шекспира в том, что он своими метафорами, рассуждениями и мыслями не тормозит развития пьесы, а наоборот – ускоряет».
* * *
«На ночь приходили меня целовать папа и мама. Сначала целовал папа, и обязательно в лоб, потом мама – в щеки и губы. Мама целовала так, как будто прощалась надолго и не могла насмотреться».
* * *
«Я хочу, чтобы Валя была около меня и чтобы она любила меня. А если нет, то и не надо, можно и так».
* * *
«Презирал, любил, ненавидел, возмущался, восторгался; и это – в течение одного какого-нибудь дня, даже в течение часа».
* * *
«Иногда мне кажется, что я неспособен чувствовать. Всякое возникающее во мне чувство я стараюсь проанализировать, разобрать по винтикам, и оно делается каким-то мелочно – ничтожным».
* * *
«Им нравились фотографические карточки, где они совершенно не были похожи на себя. Эти карточки награждали их чертами, которых у них не было, и они начинали верить в них, воображать, что они действительно ими обладают».
* * *
«Я все время думаю о ней, а о чем она сейчас думает? Вдруг она сейчас с кем-нибудь танцует? Вдруг кто-нибудь обнимает сейчас ее? А? Нет, не может быть, она, наверно, с родителями».
* * *
«По-моему, я довольно мелкими шагами иду к славе. Но мне еще мало лет. Успеется».
* * *
«Женщина вспоминает дни, которые ушли. Она видит их перед собой такими, какими они были, с той разницей, что в хороших днях она опускает плохие мелочи, а в плохих днях – хорошие».
* * *
«А вдруг я бездарный? Вдруг я действительно бездарный?
Вдруг все мечты разлетятся? Нет, этого не может быть. А вдруг?..
И это "вдруг" растет, увеличивается, делается совершенно вероятным и отчетливым. Кажется, что оно-то и случится в жизни. Ну нет! Тогда я покончу самоубийством. Но я чувствую, что это самоубийство – сплошная литература и никогда я не сделаю этого. Становится совсем тяжело. Неужели даже наедине не можешь быть искренним? Нет, не могу.
Я могу быть искренним, когда говорю с другими. Тогда это у меня получается. А наедине ничего не выходит».
* * *
«В самой философствующей пьесе, то есть в „Гамлете“, действия не меньше, чем в любом авантюрном романе».
* * *
«Когда ей исполнилось шестнадцать лет, какая-то чертова сила потянула ее к мужчине. Сначала ей нравилось разговаривать с ними, потом ей стало нравиться сидеть с ними рядом, потом она стала прижиматься к ним, а потом она уже захотела, чтобы ее обнимали».
* * *
«Оставляя две копейки на стеклянной тарелочке кассы, они уходят с таким видом, будто подарили сто рублей».
* * *
«Я ехал в Москву и оттуда в Крым в Коктебель. Я очутился на верхней полке и смотрел на женщину, которая сидела против меня на нижней полке. У нее были красивые ноги и узкий носок туфли. Как я понял из разговора, она была актрисой Камерного театра. К ней подошел мужчина, по-моему тоже актер, и сказал, что купил консервы и что везет их домой. Женщина запрыгала вокруг него, запищала и очень неуклюже старалась изобразить маленькую девочку, как это любят делать многие женщины. Мужчина растерялся, начал заискивающе улыбаться и отдал ей одну банку. Она заплатила ему за нее, долго роясь в сумочке. Мужчина взял деньги, сначала отказываясь, хотя протянутая рука сразу выдала его. Видно было, что они небогаты. Мужчина долго еще говорил о консервах, о том, как ему удалось достать эти несколько банок, как он рад, что везет их домой.
Я улыбнулся.
Потом еще долго не мог заснуть. Мне почему-то жалко было этого актера с его консервами».
* * *
«Очень часто героем романа является идея автора».
* * *
«Она смотрелась в каждое оконное стекло и перед каждым стеклом поправляла шапочку и подслюнявливала брови. А когда проходила мимо подвальных стекол, любовалась своими ногами. Нечто вроде болезни: постоянное желание видеть себя. Она смотрелась даже в чайник, в кастрюлю, в полированную поверхность буфета, шкафа и столов из красного дерева. Всюду, где можно было увидеть собственное отражение. А своей тени она боялась, потому что думала: „Тень делает меня смешной“».
* * *
«Конечно, неприятно сознавать, что вы уйдете, исчезнете, провалитесь в ничто, а ваши знакомые будут есть, спать, целоваться, стонать, веселиться, грустить и говорить фразы. Но что делать! Мы – только люди, то есть высшие животные класса млекопитающих».
* * *
«Преклоняйтесь перед „Гамлетом“. Лучшего создать невозможно».
* * *
«Мы с ней шли под руку по только что выпавшему снегу, и он хрустел под нашими ногами, как огурец».
* * *
«Он мог бы сказать: „Я родился случайно, как плохой сюрприз недоумевавшей матери“. Никто не ждал его, никому он был не нужен, а только мешал. Он старил уже состарившуюся женщину и неприятно тревожил спокойного мужчину – своего отца».
* * *
«Иметь дело с женщиной – иногда счастье, с двумя – сущее бедствие».
* * *
«Она говорила, что Мопассан – хороший писатель, и при этом хитро посматривала. Говорила, что Шекспир – великий, что Байрон – гений, что Пушкин – замечательный. Но стихов не любила, считая, что предложения в них составлены неправильно.
Она была такой же, как все, говорила то же, что все, и совсем не была повинна в этом».
* * *
«Я хотел бы положить голову к ней на колени и лежать так. А ведь больше всего не люблю сентиментальность».
* * *
«Годы, как столбы, ужасно похожи один на другой, хотя некоторые бывают и повыше.
В этом году я ехал в Москву один, в этом году я стоял на площадке до часу ночи, в этом году я курил папиросу.
Этот год был немного повыше. Я чувствовал себя взрослым, и от этого чувства я понимал, что еще ребенок».
Кире казалось, что он похож на Байрона. Он и в самом деле был несколько похож на него, но гораздо больше на мать, хотя и без ее «мартышкости».
А чтобы сильней подчеркнуть приятное сходство с автором «Чайльд Гарольда», он носил отложные белые воротнички наружу, а не внутрь – под тужурку.
И тормошил темные волнистые волосы, чтобы они были еще волнистей.
Фигурка же у него была моя: безбедрая, тонкая, прямая. Но я длинный, а он, вероятно, был бы чуть повыше среднего роста. Впрочем, ребята очень вытягиваются после шестнадцати лет.
Сейчас проклинаю свою идиотскую, слюнявую интеллигентность. Так называемую интеллигентность.
Ведь я не только никогда не позволял себе войти в Кирину комнату без стука или порыться в ящиках его письменного стола, но даже не заглядывал в тетради-дневнички, если они лежали, по случайности, раскрытыми.
То, что он писал роман, писал короткие рассказы, стихи, «мысли», драму («Робеспьер») – явилось для меня полнейшей неожиданностью.
А работал он много, тщательно, со многими черновиками и вариантами, кропотливо отделывая фразу, подыскивая то единственное слово, сплошь и рядом коварно ускользающее, без которого фраза неточна или мертва.
Для каждого человека своего будущего романа у Киры имелась тетрадь с подбором поступков, выражений, черточек характера и бытовых деталей. На полях то и дело стояло: «Мало мелочей!», «Больше мелочей!»
До сих пор я не могу понять, где он брал время на такую работу. Школа, теннис (зимой тренировался на закрытом корте), немка, англичанка, француженка, которая у него сидела по два, по три часа. Наконец, театр, кино и шумная ватага веселых друзей, являвшихся к нему поздним вечером.
Вероятно, мальчуган очень мало спал.
Среди его рукописей я обнаружив и новеллу, страшную новеллу о том, что он сделал. С философией этого, с психологическим анализом, с мучительно-точным описанием – как это делают.
Боже мой, почему я не прочел эти страшные страницы прежде? Вовремя?
Уберечь можно. Можно! Ему же и семнадцати еще не исполнилось. Впрочем, в Древнем Риме мужскую тогу надевали даже несколько раньше.
Тропинка ль, берег, подойду к окну ли,
Лежу, стою…
Вот, милая, и протолкнули
Мы жизнь свою.
Отцы, матери, умоляю вас: читайте дневники ваших детей, письма к ним, записочки, прислушивайтесь к их телефонным разговорам, входите в комнату без стука, ройтесь в ящиках, шкатулочках, сундучках. Умоляю: не будьте жалкими, трусливыми «интеллигентами»! Не бойтесь презрительной фразы вашего сына или дочери: «Ты что – шпионишь за мной?»
Это шпионство святое.
И еще: никогда не забывайте, что дети очень скрытны, закрыты. Закрыты хитро, тонко, умело, упрямо. И особенно – для родителей. Даже если они дружат с ними. Почему закрыты? Да потому, что они – дети, а мы – взрослые. Два мира. Причем взрослый мир при всяком удобном и неудобном случае говорит: «Я большой, я умней тебя». А малый мир в этом сомневается. И порой довольно справедливо сомневается.
Перед тем как это сделать, Кира позвонил ей по телефону.
Они встретились на Кирочной, где мы жили, и долго ходили по затемненной улице туда и обратно. И он сказал ей, что сейчас это сделает. А она, поверив, отпустила его одного. Только позвонила к его другу – к Рокфеллеру. Тот сразу прибежал. Но было уже поздно.
Домработница Шура в это время собирала к ужину. А мы отправились «прошвырнуться».
«Прошвырнулись» до Невского. Думали повернуть обратно, но потом захотелось «еще квартальчик».
Была звездная безветренная ночь. Мороз не сильный.
Этот «квартальчик» все и решил. Мы тоже опоздали. Всего на несколько минут.
Многие спрашивали:
– Кира это сделал из-за той девчонки?
– Нет, нет!
Вообще, мне кажется, что человек не уходит самовольно из жизни из-за чего-то одного. Почти всегда существует страшный круг, смыкающийся постепенно.
– Это ужасно! – говорит человек сам себе.
– И это ужасно.
– И это.
– И это.
И стреляет себе в сердце, принимает яд или накидывает петлю.
Не слишком задумывающиеся люди принимают за причину наиболее доступное их пониманию «это». Причем особенно для них убедительно, я даже решусь сказать – привлекательно: человек убил себя из-за любви.
Могут ли теперь мои стихи быть веселыми?
Никритиной
С тобою, нежная подруга
И верный друг,
Как цирковые лошади по кругу,
Мы проскакали жизни круг.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































