Текст книги "Дети Арбата"
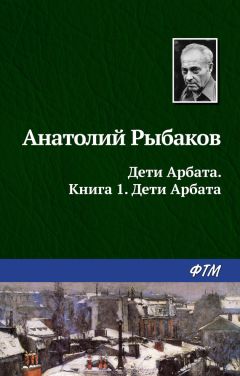
Автор книги: Анатолий Рыбаков
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 41 страниц)
11
– Прочитайте!
Пока Ягода читал свое же последнее донесение, Сталин рассматривал его: грубое узкое лицо красно-кирпичного цвета с маленькими усиками под носом, как у Гитлера. Угрюмый настороженный взгляд. Не красавец!
На нем он остановил свой выбор еще в 1929 году. Менжинский тяжело болел, практически был не у дел, на Семнадцатом съезде партии вместо него в состав ЦК ввели Ягоду, его заместителя. Можно было бы освободить товарища Менжинского от должности председателя ОГПУ и назначить на его место Ягоду, но это было бы неправильно понято – в Менжинском все видели преемника Феликса Дзержинского. Месяц назад Менжинский умер. Тут же состоялось давно подготовленное решение Политбюро о создании Народного комиссариата внутренних дел. В него включили Главное управление государственной безопасности, милицию, пограничную и внутреннюю охрану, исправительно-трудовые лагеря и колонии, а также пожарную охрану и загс. Наркомом внутренних дел назначили Ягоду.
Кандидатура Ягоды не вызвала возражений в Политбюро – старый член партии, кадровый чекист, не политик, не член Политбюро, «нейтральное» лицо, не нарушит равновесия в партийном руководстве.
Свердлов, на племяннице которого женат Ягода, был в свое время невысокого мнения о талантах родственника: послал его сначала в редакцию «Деревенской бедноты», потом на рядовую работу в ВЧК. Но Свердлов мало разбирался в людях и напрасно хвастался, будто весь отдел кадров ЦК ему заменяет записная книжка. Ведь и ЕГО Свердлов считал «индивидуалистом», говорил ему это в глаза еще там, в Туруханской ссылке, и ОН не обижался. Свердлов, в общем, простой хороший парень, однако не личность. Ленин и поставил его во главе ВЦИК, должность чисто представительскую. После смерти Свердлова Ленин на это место подыскал тверского мужичка Калинина – «всероссийского старосту».
Покойный Дзержинский тоже недолюбливал Ягоду, держал его на вторых ролях – управделами. Но при всех своих достоинствах товарищ Дзержинский был барин по рождению.
Естественно, что Менжинский, тоже барин, к тому же полиглот, знавший четырнадцать языков (зачем большевику четырнадцать языков?!), был ему ближе, чем Ягода – простой аптекарь из Нижнего Новгорода. И при всех своих достоинствах товарищ Дзержинский, надо сказать, не лишен был некоторого позерства… Потому и не любил Троцкого, тот в позерстве далеко его превзошел. Естественно, что малообразованный «канцелярист» не слишком импонировал Железному Феликсу…
Но в ГПУ ангелы не нужны, красавцы тоже не нужны, искусство руководства состоит в умении поставить нужного человека на нужное место, а затем, и это главное, когда он станет ненужным, убрать его. Ягода пока на своем месте – понимает истинный смысл того, что ему говоришь.
Подозрение, будто Ягода работал на царскую охранку, возможно, небезосновательно. Но такие дела сложны и запутаны, проверить эти подозрения практически невозможно. Косвенные доказательства всегда зыбки и ненадежны, прямых доказательств почти не существует – в первые же часы после революции охранка уничтожила почти все архивы. Много ли имен бывших осведомителей мы получили? А полученное тоже малодоказательно: охранка умела запутывать следы, умела пускать по ложному следу. И вообще для человека, который общался с жандармскими чинами и был вынужден маневрировать, чтобы сохранить себя для партии, неизбежны ситуации, которые теперь, через много лет, могут показаться сомнительными.
Доказать, что человек был связан с охранкой, трудно, но еще труднее доказать, что он с ней связан не был, если такое подозрение возникло и если есть хоть кое-какие материалы. Кое-какие материалы на Ягоду были представлены, материалы косвенные, неубедительные, но достаточные, чтобы при желании обвинить Ягоду в провокаторстве. Лицу, представившему эти материалы, ОН объявил тогда, что партия считает эти материалы неубедительными, и приказал никогда и нигде к этому вопросу не возвращаться. Но материалы оставил у себя. И Ягода знает это. И человека, представившего материалы, запретил трогать. И это Ягода знает. Будет предан из страха, а это лучше, чем преданность по убеждению: убеждения меняются, страх не проходит никогда.
Ягода положил бумаги на стол и ничего не сказал – Сталин пока ни о чем не спрашивал. И не смотрел на Сталина: смотреть на товарища Сталина значило задавать ему немой вопрос, вызывать на разговор. Сталин этого не любил, он сам знал, когда и что ему надо говорить. Конечно, Сталин показал ему его же собственный рапорт, однако пока неясно, что за этим стоит.
Сталин едва заметно кивнул на стул, возле которого стоял Ягода. Предложил сесть, значит, разговор предстоит длинный, и, как уже понимал Ягода, разговор серьезный в том смысле, что ему придется разгадывать в нем немало ребусов.
Прохаживаясь по кабинету, Сталин сказал:
– О чем свидетельствует ваш доклад? Он свидетельствует о том, что товарищ Запорожец не справляется со своими обязанностями. Если бы ликвидация зиновьевской оппозиции в Ленинграде была простым делом, можно было бы поручить эту задачу товарищу Медведю с его аппаратом. Но товарищ Медведь – человек Кирова, а товарищ Киров, к сожалению, не сознает размера зиновьевской опасности для партии и для себя лично. Неправильно оценивает обстановку в Ленинграде.
Медленно и неслышно Сталин прохаживался по ковру.
– В чем особенность этой обстановки? – продолжал он. – Особенность обстановки в Ленинграде состоит не только в том, что в ленинградской партийной организации сохранилось много зиновьевцев. Главное, их сохранилось много в руководстве ленинградской партийной организации, их много сохранилось в окружении товарища Кирова. Куда, спрашивается, девались десятки тысяч людей, голосовавших за Зиновьева перед Четырнадцатым съездом партии? Они там же, в Ленинграде, на тех же местах, на тех же постах. Товарищ Киров утверждает, что ныне они за генеральную линию партии, ныне они за ЦК… Так ли это? Да, они за товарища Кирова, но это не значит, что они за ЦК! Как им не быть за товарища Кирова, если товарищ Киров сберег их в Ленинграде в целости и сохранности? Естественно, что они за товарища Кирова, естественно, что они преданы товарищу Кирову. Но не принимает ли товарищ Киров преданность себе за преданность партии? Не ставит ли товарищ Киров знак равенства между собой и партией? Не рано ли он это делает? Что же удивительного в том, что честные ленинградские коммунисты недовольны подобным положением в ленинградской партийной организации? Ничего удивительного в этом нет. Такое недовольство вполне закономерно, особенно, как вы сами правильно пишете в своем донесении, у молодых коммунистов, выросших и созревших уже после зиновьевского периода. Они протестуют против подобного положения, тем более что на пути их роста, их продвижения стоят старые зиновьевские кадры, которые, естественно, двигают своих и не дают дороги другим, чужим, а чужие для них – это честные и искренние сторонники ЦК.
Сталин замолчал, продолжая медленно и неслышно ходить по кабинету, потом заговорил снова:
– В чем заключалась задача товарища Запорожца? В том, чтобы изменить обстановку в Ленинграде, изменить отношение ленинградской организации к зиновьевцам, показать размеры троцкистской и зиновьевской опасности. Что же сделал товарищ Запорожец? Ничего. Жалуется, что Киров и Медведь не позволяют ему, видите ли, этого сделать. Такие жалобы недостойны настоящего чекиста. Он жалуется, что аппарат подчинен не ему, а Медведю. Дурак! Пусть подберет свой аппарат или пусть распишется в своем бессилии.
Сталин вдруг остановился против Ягоды.
– Со сторонниками Зиновьева и Каменева надо покончить раз и навсегда. Товарищ Киров окружил себя зиновьевцами, они же и отблагодарят его за все его благодеяния. Безусловно, – Сталин снова стал прохаживаться по комнате, – безусловно, в сегодняшней конкретной обстановке устранение Кирова не выгодно зиновьевцам – он сохраняет в Ленинграде их кадры. Но при обострении ситуации в обстановке борьбы за власть Киров им будет не нужен. Обстановка может обостриться и в случае угрозы войны. А война выгодна только противникам ЦК, война открывает путь к перемене власти. Сейчас Зиновьев и Каменев пытаются использовать товарища Кирова как ударную силу против ЦК, но придет час, когда он станет им не нужен и они уберут его, чтобы вызвать кризисную ситуацию в стране. Киров держит за пазухой троцкистскую змею против Сталина, а не укусит ли она самого товарища Кирова?
Он взял со стола и бросил Ягоде его доклад.
– Партии нужны не бумажки, а дела. Вы свободны.
Сталин отпустил Ягоду. Понял ли он его? Все понял. Впрочем, лучше всего, если Киров согласится переехать в Москву. Он секретарь ЦК, пусть и работает секретарем ЦК. Будет на глазах. Правда, рядом с Орджоникидзе, но посмотрим, во что выльется их нежная дружба, если в ведении Кирова, как секретаря ЦК, будет вся промышленность, в том числе и тяжелая, а значит, и Серго со своим аппаратом. Орджоникидзе не шибко умен, в этой паре ходит вторым, но подчиняться Кирову впрямую не захочет. Ну что ж, здоровое недоверие – лучшая основа для совместной работы.
Сталин вышел в приемную и приказал Поскребышеву вызвать к нему товарища Ежова.
В аппарате ЦК Ежов появился в двадцать седьмом году. Маленький, почти карлик. Сталин любил низкорослых, его собственный рост – 160 сантиметров.
Редкий случай – Сталин забыл, кто его рекомендовал. Мехлис? Поскребышев? Товстуха? Кто-то из них. До этого Ежов был на партийной работе в Казахстане.
В секретариате проявил себя хорошо, помнил, кто, где, когда, на каком месте работал, держал в голове сотни фамилий. Прирожденный кадровик. В 1930 году ОН сделал его заведующим отделом кадров ЦК. И не ошибся. За десять минут Ежов давал исчерпывающую справку о любом работнике номенклатуры, в том числе и любом члене Политбюро – картотека Ежова включала всех, этот коротышка не признавал авторитетов, для него партстаж, социальное происхождение, прошлые заслуги не играли никакой роли. Все эти понятия он считал устаревшими, даже вредными, ибо они давали их обладателю иллюзорное право на исключительность. Когда Ежов докладывал материал на членов Политбюро, его фиалковые глаза становились равнодушными, для него члены Политбюро ничем не отличались от людей из номенклатуры. Единственный в секретариате, он был свободен от всяких личных связей, никому ранее не ведомый партработник из далекого Казахстана, именно поэтому ненавидел кадры, сцементированные данными связями, эти «обоймы» он безжалостно разрушал, вынимая из них самые важные звенья, проводя ЕГО политику разобщения людей в аппарате. Конечно, Ежов – одиночка, в борьбе с могущественными «обоймами» отстаивал себя и свое положение. Безусловно, слепая ненависть – плохое качество в политике, мешает принимать правильные решения. Но и плохие черты характера можно использовать. Ежов – не «белые перчатки». Ежов – «черные перчатки», но и они полезны для дела. Не рассуждает, а действует, свободен от всякого нравственного тормоза, от этических условностей. Внешне скромен, однако честолюбив, хочет управлять людьми, решать их судьбы, но тайно, в своем кабинете, за своим столом, со своими папками, со своей всемогущей картотекой. Практически он уже контролирует органы НКВД, и Ягода его ненавидит – тут баланс найден. На Семнадцатом съезде ОН ввел его в состав ЦК – одна из немногих перемен, которая ему тогда удалась. Теперь надо ввести его в состав секретариата для наблюдения над органами НКВД, суда и прокуратуры – тогда равновесие закрепится окончательно. С Ежовым и Ягодой, двумя партнерами, ненавидящими друг друга, за этот участок можно быть спокойным.
Сталин кивнул на стул.
Ежов сел и положил перед собой блокнот.
– Есть предложение, – сказал Сталин, – видоизменить структуру ЦК, дополнить аппарат ЦК новыми отделами.
Когда товарищ Сталин говорит «Есть предложение», это означало, что предложение исходит от самого товарища Сталина.
– Чем вызвано это предложение? – Сталин задал вопрос как бы самому себе.
И сам на него ответил:
– Я думаю, оно вызвано разумными соображениями.
Ежов смотрел в блокнот, держа наготове карандаш.
– Мы тогда простили товарищу Рязанову его поступок, – сказал Сталин, – простили потому, что на этот поступок его спровоцировал Пятаков. Однако сам по себе поступок возмутительный. Арестовать комиссию из центра! На это не решился бы ни один секретарь обкома. А вот директор завода решился, даже не посоветовался с секретарем горкома партии. Это серьезный сигнал.
Сталин сделал паузу. Ежов, не поднимая головы, писал.
– О чем свидетельствует этот сигнал? – снова спросил самого себя Сталин.
И сам ответил:
– Этот сигнал свидетельствует о том, что руководящие кадры промышленности бесконтрольны. Аппарат промышленный из аппарата советского превращается в аппарат технократический. Это большая опасность!
В этом месте Сталин сделал ту особую паузу, означающую, что сейчас он произнесет фразу-обобщение, которая должна быть доведена до самой широкой аудитории. Ежов сосредоточился, чтобы точно записать ее.
– Технократический аппарат стремится к экономическому господству, экономическое господство есть господство политическое, это азбучная истина марксизма. Допустить экономическое, а следовательно, политическое господство технократии мы не можем, это означало бы конец диктатуры пролетариата.
Выждав, пока Ежов запишет, Сталин сказал:
– К сожалению, товарищ Орджоникидзе недооценивает эту опасность.
Ежов перестал писать: все, что касалось членов Политбюро, он должен запоминать, а не записывать.
– Впрочем, товарищ Орджоникидзе повторяет ошибку многих наших высших руководителей, которые преданность своего аппарата себе лично принимают за преданность этого аппарата партии и государству. Технократический аппарат действительно предан товарищу Орджоникидзе. А почему ему не быть преданным? Товарищ Орджоникидзе всячески защищает этот аппарат, оберегает, выводит из-под контроля партии, поощряет его автономистские тенденции, возражает против ареста любого инженера-вредителя, возражал даже против процесса Промпартии. Конечно, при таких условиях технократический аппарат ему предан. Но предан до поры до времени, предан, пока набирает силу. А вот когда они наберут силу, они обойдутся без товарища Орджоникидзе! Рязанов арестовал и выгнал комиссию, назначенную Пятаковым. Но ведь Пятаков – заместитель товарища Орджоникидзе! Где гарантия, что завтра товарищ Рязанов не выгонит комиссию, назначенную самим товарищем Орджоникидзе? Изгнав комиссию Москвы, товарищ Рязанов совершил акт политический. Почему же свой политический шаг он не согласовал с политическим руководством в лице секретаря горкома товарища Ломинадзе? Товарищ Ломинадзе лично не авторитетен для товарища Рязанова? Допустим. Но каков бы ни был товарищ Ломинадзе, он все же возглавляет партийную организацию, а партийную организацию никому не позволено обходить…
С того места, когда Сталин перестал говорить об Орджоникидзе и заговорил о Рязанове, Ежов снова начал записывать.
– Товарищ Рязанов, – продолжал Сталин, – уже не считается ни с Москвой, ни с местным партийным руководством. Что это означает? Это означает, что технократический аппарат почувствовал себя бесконтрольным и безнаказанным. Почему?
Сталин опять сделал паузу, предвещающую обобщение, Ежов склонился к блокноту.
– Хозяйственный аппарат, – продолжал Сталин, – почувствовал себя бесконтрольным потому, что ему нет равнозначного партийного контроля. Какую роль может играть партийная ячейка Наркомата тяжелой промышленности, если во главе наркомата стоит член Политбюро? Какую роль могут играть партийные ячейки при главках, трестах, заводах и фабриках, если начальники главков и директора заводов – члены обкомов, а то и ЦК партии, а секретари ячеек, в лучшем случае, члены райкомов партии? На таком уровне роль партийных организаций практически равна нулю. Дело Рязанова подсказывает нам решение первостепенной задачи: контроль за деятельностью хозяйственного аппарата надо осуществлять на равнозначном партийном уровне. Партийный аппарат должен контролировать все аппараты страны, в том числе и народнохозяйственный, и прежде всего аппарат промышленный, располагающий наиболее самостоятельными, образованными и чванливыми кадрами.
При слове «чванливыми» в желтых глазах Сталина мелькнула злоба, и он после паузы добавил:
– Любые поползновения к созданию в нашей стране технократии должны быть уничтожены в корне, разбиты вдребезги. Поэтому есть предложение к ныне существующим отделам ЦК добавить еще три отдела: промышленный, сельскохозяйственный и транспортный. Таким образом, основные отрасли народного хозяйства – промышленность, сельское хозяйство и транспорт – будут иметь прямую связь с Центральным Комитетом партии. Таким образом, партия сумеет лучше помогать решающим участкам народного хозяйства. Руководители этих новых отделов должны быть работниками того же, а может быть, и большего масштаба, чем народные комиссары, тогда они будут иметь вес и авторитет. Подготовьте проект решения о реорганизации партийных органов и покажите мне. Подберите кандидатуры на посты заведующих новыми отделами и тоже покажите мне. Курировать каждый отдел будет секретарь ЦК, а возможно, и член Политбюро. Промышленный отдел, как наиболее важный, должен курировать, безусловно, член Политбюро. Товарищ Киров, например. Ведь у него, кажется, техническое образование. Кстати, принесите мне его полное личное дело.
Сталин встал.
Поспешно поднялся и Ежов, закрывая блокнот и опуская в нагрудный кармашек самопишущую ручку.
Уже стоя, Сталин сказал:
– Наказать Рязанова в тот момент значило бы оправдать провокационную вылазку Пятакова. Но принцип демократического централизма нельзя нарушать, даже если центр не прав. Пусть в этом теперь разберется обком партии. Пусть обком потребует объяснений, пусть произведет расследование и материалы доложит вам. Инцидент должен быть зафиксирован.
12
Еще весной, накануне выпуска из института, Шароку позвонила Малькова и велела завтра утром явиться в отдел кадров Наркомюста.
Итак, его вопрос решен. Если завод – прекрасно, если суд или прокуратура, то, безусловно, Москва, иначе его не вызвали бы в наркомат. В институте все уже получили назначения, и всех загнали на периферию.
На следующий день в назначенное время Юра явился к Мальковой. Она встала при его появлении, коротко и сухо бросила:
– Идемте!
Привела его в маленькую полупустую комнату с голыми стенами, стояли там только обшарпанный канцелярский стол без тумбочек, покрытый зеленым, в чернильных пятнах, листом бумаги, и три стула. С потолка на проводе свешивалась лампочка без абажура, заброшенная, неизвестно для чего предназначенная комната.
У мутного, давно не мытого окна стоял небольшого роста человек. Он обернулся, когда они вошли, Малькова пропустила вперед Шарока и тут же вышла, плотно закрыв за собой дверь.
Некоторое время они разглядывали друг друга. У человека было неподвижное детское лицо, которому большие роговые очки придавали неестественную взрослость. Юра всегда сторонился таких сухариков – слабосильны, но обидчивы и мстительны. Сухарик назвался Дьяковым, предложил Юре сесть и сам уселся против Шарока.
– Кончаете институт, товарищ Шарок, – начал Дьяков, – предстоит распределение, хотелось бы поближе познакомиться. Расскажите о себе.
Точно такими же словами встретила его в свое время и Малькова. Не слишком оригинальны работники отдела кадров. И Шарок ответил Дьякову точно так же, как ответил тогда Мальковой: сын рабочего швейной фабрики, по прошлой специальности фрезеровщик, вел в институте такую-то общественную работу. Есть и сложность – брат судим за воровство. В общем, ответил так, чтобы ничем себя не скомпрометировать и в то же время оказаться не пригодным для работы в органах суда и прокуратуры, пусть отпустят на завод.
Однако в отличие от Мальковой Дьяков не стал читать ему нотации по поводу брата, видимо, уже осведомлен на этот счет. Зато подробно расспросил о другом: откуда родом родители, кто родственники, где живут, какая у Шароков квартира, наконец, каковы его планы после института.
– Хочу вернуться на завод.
Дьяков сочувственно кивнул головой.
– Мое дело выяснить ваши намерения, остальное решит начальство. Я вам еще позвоню.
Итак, его хотят взять в наркомат или прокуратуру, неясно только, на какую работу. Выделили из всего выпуска, лестно, конечно, но нарушает его планы. И хотя наркомат или прокуратура означают Москву, он решил все же добиваться назначения на завод.
Через несколько дней Дьяков позвонил и попросил приехать в Наркомат юстиции. Юра приехал. Дьяков дожидался его в бюро пропусков. На лифте они поднялись на четвертый этаж и прошли в ту самую комнату, где прошлый раз принимал его Дьяков.
У окна сидел и читал газету грузный человек в военной форме с четырьмя ромбами в петлицах гимнастерки. Петлицы были малиновые – войска ОГПУ. Юра сжался – понял, на какую работу хотят его взять.
– Товарищ Березин, – объявил Дьяков.
Березин опустил газету, Юра увидел бронзовое эскимосское лицо и снова почувствовал тревогу.
Движением руки Березин пригласил Юру сесть.
Дьяков продолжал стоять и сел уже во время разговора, когда Березин и ему кивнул на стул.
Березин молча разглядывал Юру, потом медленно произнес:
– Партийная организация рекомендует вас для работы в органах НКВД. Я ознакомился с вашим личным делом. Ваш брат осужден за уголовное преступление. Вы были знакомы с теми, кого судили вместе с ним?
– Я их впервые увидел на суде.
– Вы дружили с братом?
– Он на четыре года старше меня. У меня были свои друзья, у него свои.
– Вы поддерживаете с ним связь?
– Он пишет отцу, матери… Они отвечают… Передают мои пожелания закончить срок и вернуться к честной, трудовой жизни. Помогут ли мои советы, не знаю.
Березина интересует не брат, а он, это Юра отчетливо понимал. И надо отвечать так, чтобы не вызвать сомнений в своей искренности, но и так, чтобы его не взяли в органы. Они сами должны отказаться от него. Березин никогда не будет ему верить, того же плана, что и Будягин, из железной когорты.
– А кто ваши друзья? – спросил Березин.
– Особенно близких друзей у меня нет, – осторожно начал Шарок, понимая опять же, что это и есть главный вопрос. Только о ком хочет узнать Березин: о Саше Панкратове или о Лене Будягиной?.. Но и Саша, и Лена уже давно не его друзья… – Особенных друзей у меня нет, – повторил Шарок. – Есть знакомые по институту, по школе, где я учился, по дому, где живу.
– Вы учились в седьмой школе?
Так, ясно… Дело в Саше или в Лене.
– Да, в седьмой.
– В Кривоарбатском переулке?
– Да.
– Хорошая школа. С кем из школьных товарищей вы встречаетесь?
Подбирается к Саше Панкратову. Умолчать? А зачем? Все равно знают. И что могут ему вменить? Дружбы-то никакой не было, наоборот, вражда была. Но и про вражду говорить не следует, подумают, что клепает на арестованного. Ничего не было – ни дружбы, ни вражды. Жили в одном доме, однолетки, значит, и учились в одной школе, потом работали на одном заводе, давно все это было…
– Видите ли, – сказал Юра, тщательно обдумывая каждое слово, – по существу, мы уже не встречаемся друг с другом. Да и раньше встречались так, случайно – жили в одном доме. А теперь разошлись в разные стороны. Костин Максим, например, кончил пехотное училище, уехал на Дальний Восток, Панкратов Александр арестован, по какому делу, откровенно говоря, не знаю, Иванова Нина – учительница, видимся иногда во дворе, здравствуй – до свидания… Да еще Марасевич Вадим, живет не в нашем доме, но на Арбате, иногда видимся, он филолог… Кто еще? Лена Будягина живет в Пятом доме, тоже почти не видимся.
– Дочь Ивана Григорьевича? – спросил Березин.
– Да.
– У вас есть невеста, подруга?
Этот вопрос, заданный сразу после того, как Шарок упомянул Лену, показал, что о нем осведомлены. Они и должны быть осведомлены. И цель вопросов – не столько узнать о подробностях его жизни, сколько проверить честность.
– Жениться пока не собираюсь, – улыбнулся Юра.
– Любите театр, кино, потанцевать…
Знают, что он бывал с Леной в ресторанах.
– Потанцевать люблю.
– С хорошенькими девушками?
– Лучше с хорошенькими.
Березин помолчал, потом спросил:
– Вы упомянули Панкратова. Это Панкратов Александр Павлович?
– Да, мы его звали просто Сашей. Он был у нас секретарем комсомольской ячейки. Но он арестован…
– Что он за человек?
Шарок опять пожал плечами.
– Это было давно. Восемь лет прошло, тогда он был хороший как будто парень, честный, – он улыбнулся, – комсомольский вождь. Ну а что с ним произошло потом, я не знаю.
Иначе он ответить не мог. Отрицательная, даже сдержанная характеристика вызвала бы вопросы, на них ему нечего отвечать и незачем. Тогда Панкратов был хороший парень, тогда Саше было пятнадцать лет, тогда и Шароку было пятнадцать лет, тогда он смотрел на все молодыми доверчивыми глазами. Он и сейчас смотрит доверчивыми глазами, вряд ли им нужен такой открытый, откровенный да еще с братом-уголовником.
Шарок и не подозревал, что именно этот его хороший, «искренний» отзыв о Саше Панкратове и решил его судьбу. На него, на Шарока, Березин перенес свое отношение к Саше, как и в Панкратове, увидев в Шароке хорошего, честного парня. Жестокая ошибка, она дорого обошлась потом Березину.
А пока он сказал:
– Мы обдумаем вашу кандидатуру. Но прежде вы сами должны решить: хотите вы у нас работать или нет? Это высокая честь, органы Чека – вооруженный отряд партии. Насильно никого не заставляем, откажетесь – в обиде не будем. – Он снова повернулся к Дьякову: – Дайте товарищу Шароку свой телефон.
– Есть. – Дьяков привстал.
– Вопрос не решен, – сказал Березин, – и разговор остается между нами.
– Я понимаю, – ответил Шарок.
Почему именно он? Он средний студент, не отличник. И общественник средний – выполняет порученное дело. Видимо, такие средние и нужны.
Он пытался представить их разговор о себе. Березин будет сомневаться. Почему брат уголовник? Почему ходит по ресторанам? Наверное, тот, уголовник, тоже любил роскошную жизнь, вот и ограбил ювелирный магазин. Почему именно такого надо брать к нам? А Дьяков будет за Шарока, он остановился на его кандидатуре и должен защитить свой выбор. Что-то такое промелькнуло между ними, взаимное понимание, что ли. С ним бы Юра сработался.
А вот с Березиным…
– Бываете с отцом на бегах? – спросил Березин.
– Нет, не бываю.
Этот вопрос показался Юре самым неприятным. Они знают о нем все, они знают все обо всех. А он-то всегда боялся Будягина. Не Будягина надо бояться, Березина. Будягин известен, Березин нет, и все же Березин – главная сила. Обладая властью тайной, они стоят за спинами тех, чья власть на виду.
И Дьяков – тоже сила, хоть вставал при каждом обращении к нему Березина. Юра вспомнил свой первый разговор с ним, как основательно Дьяков тогда уселся на стул. Нет, не середнячков он выискивал в институте, зачем им середнячки. Выбор Дьякова уже точно сделан – он, Шарок, создан для этой работы, он, а не простодушный Максим Костин, не мягкотелый интеллигент Вадим Марасевич, не чересчур самостоятельный Саша Панкратов. У Шарока бы никто не вывернулся, перед ним никто бы не оправдался, он не верит ни в чью искренность – невозможно искренне верить во все это, и тот, кто утверждает, что верит, – врет.
Все. Решение правильное. Надо довериться судьбе. Согласие он даст, а там пусть решают. Захотят – возьмут, не захотят – не возьмут. Именно там он будет в безопасности. Там его никто не тронет, они сами всех трогают.
Юра позвонил Дьякову и сказал, что решает вопрос положительно.
– Зайдите вечером, – сказал Дьяков.
С пропуском в руках Юра шел по длинному коридору, вглядываясь в номера кабинетов. Неужели он будет здесь работать?
Дьяков принял его в крохотном кабинете, но это был его кабинет, он сидел здесь как хозяин. В военной форме, с тремя шпалами в петлицах гимнастерки. Как ни странно, военная форма шла ему, делала его тщедушную фигуру представительной.
– Правильно сделал.
Он обращался к нему на ты, говорил приветливо, как со своим, вытащил из стола папку.
– Твое дело. Будем оформлять.
Юра чувствовал, что нравится ему.
– Слушай, Шарок, – сказал Дьяков, – прошлый раз ты назвал Панкратова, что он за парень?
– Ну, – Юра пожал плечами, – я уже рассказывал… В школе был секретарем комсомольской ячейки. Тогда он производил впечатление человека честного. К его недостаткам я бы отнес стремление выглядеть умнее других, более знающим, более осведомленным.
– Может, он и был более осведомленный?
– Возможно, – согласился Юра. Он все понял и теперь уже знал, что ему говорить. – Его дядя, Рязанов, начальник строительства. У нас в школе вообще учились дети многих ответственных работников. Панкратов бывал у них дома. Я бы про него сказал так: любил командовать, быть первым.
– То-то и оно, – серьезно проговорил Дьяков, – вот и натворил. И себя запутал, и хороших, честных ребят.
– Говорят, выпустил какую-то стенгазету.
– И это было, и по другой линии связи… Скажи, у кого из ответственных работников он бывал?
Интересуется Будягиным, но не называет – слишком большое имя. Юра тоже не назовет, такая информация пойдет не от него. В разговоре с Березиным он уже упомянул Лену, хватит!
– У нас учились ребята из Пятого дома, вот у них и бывал.
Дьяков покосился на Шарока.
– Заполнишь анкету и напишешь автобиографию… – И добавил весело: – Я думаю, мы с тобой сработаемся.
Юра сразу привился в новых условиях, подошел этому учреждению, даже украсил его своей молодостью, приветливой улыбкой, открытым русским лицом, с возрастом оно приобрело некую скандинавскую правильность. Стройный, ловкий, он был к тому же сообразителен, деловит, сдержан – качества, оцененные и Дьяковым, и Березиным.
Покровительство Березина обеспечивало Шароку быстрое продвижение, но Юра опасался этого покровительства, боялся Дьякова. Березин высоко, он неделями не видит Юру и вспоминает о нем тогда, когда тот предстает перед его глазами. Дьяков рядом, может в любую минуту воспользоваться Юриной неопытностью и сломать. Березин – один, Дьяковых – много. Да и крючкотворство Дьякова было Юре ближе прямодушия Березина. Березин верил, Юра не верил ни во что. Дьяков притворяется, будто верит.
Но с Дьяковым надо быть начеку, интриган – Шарок сразу это сообразил и был настороже. Дьяков передал ему ряд людей, с которыми работал, среди них и Вику Марасевич.
Вот тебе и на! Вот так новость! И Вика, значит… Непонятно, случайно Дьяков ее передает или что-то знает об их отношениях?
На всякий случай Шарок сказал:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































