Текст книги "Магнолия. 12 дней"
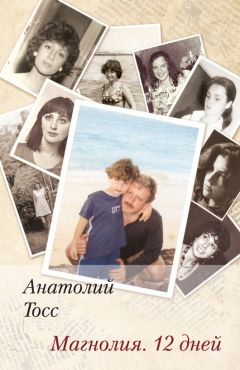
Автор книги: Анатолий Тосс
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 28 страниц)
– Ну что, похоже, жить будешь, – заметила она оптимистично и, конечно же, улыбнулась.
– Это что, диагноз? – поинтересовался я.
– Конечно. Петя позвонил, успокоил.
– А ты что, волновалась? – задал я ненужный вопрос.
– А как же. Я же принимаю в тебе участие. Ты разве не заметил? Помнишь у Пушкина в «Египетских ночах»? Там один граф подходит к молодой девушке и шепчет ей интимно: «Я принимаю в вас участие».
Никто никогда не говорил, что принимает во мне участие. Тем более женщины. Им я, бывало, сбалтывал нечто подобное, хотя и другими словами. В народе такое называется «вешать лапшу на уши». Вешает ли она мне сейчас? Я слегка пожал плечами, какая мне, в конце концов, разница?
– Чего ты пишешь? – сменил я неловкую тему, кивнув на пухлую, все еще раскрытую тетрадь.
– Да так, – она отмахнулась, – материал для диссертации собираю.
– Зачем тебе? У тебя уже есть одна, – прикинувшись полным чайником, удивился я.
– Вторая тоже не помешает. – Она снова небрежно махнула рукой, мол, все это пустое, не стоит и разговора, закрыла тетрадь, подняла на меня глаза.
Мы молчали, пересекаясь взглядами, перекрещиваясь, сцепляясь ими, будто играли в детскую игру, в которой проигрывает тот, кто первый моргнет или отведет глаза. Я смотрел и думал о том, что у нее наверняка все получится. И докторскую защитит, и профессором станет, и академиком, и директором клиники, и вообще, кем захочет. Если кто-то и должен стать, то она.
– Слушай, выпить хочешь? – вдруг ошарашила она меня вопросом.
– Выпить? – переспросил я.
– Ну да, у меня здесь целая батарея спиртного. Коньяки всякие, виски, шотландские, французские. Даже гавайский ром недавно притащили.
– Французский виски? – не поверил я.
– Нет, конечно. Французские – коньяки. Шотландский – виски. Кто только не несет. Все несут. Наверное, думают, что моя единственная мечта – это спиться поскорее.
– А что, не мечта? – попытался пошутить я, но, похоже, не получилось.
– Не-а. – Она отрицательно покачала головой. – Мечты у меня совсем другие. А что касается спиртного, так я к нему равнодушна. Во-первых, я всегда за рулем. А потом, я небольшая, – она улыбнулась, чуть пожала кокетливо плечами, мол, что тут скажешь, уж какая получилась, – и мне алкоголь сразу в голову ударяет. Да и вообще я его не люблю. Меня раздражает, когда я над собой контроль теряю.
– Это я как раз понял, – не преминул вставить я. Но она не обратила на мои слова никакого внимания или сделала вид, лишь слегка наморщила наполовину прикрытый челкой лоб.
– А тебе, кстати, полезно будет. Расслабляет, боль притупляет, вроде анестезии.
– Значит, ты как врач рекомендуешь? – уточнил я.
Она кивнула:
– И как врач тоже. Если нужен рецепт, могу выписать.
– Да нет, я и без рецепта могу.
Она поднялась, подошла к шкафчику, стоящему у стенки, больнично белому, обитому зачем-то по углам железом, как и все здесь, в кабинете, насквозь медицинскому. Достала рюмку, бутылку; рюмку сполоснула в раковине, врачам ведь полагается быть стерильными, вот им в каждый кабинет раковину и вешают, поставила бутылку и рюмку на стол. Затем открыла другой шкафчик, вынула коробку конфет, я тем временем разглядывал ярлыки на бутылке. Они были причудливые, фирменные, совершенно французские, от них так и веяло неведомым экзотическим Провансом, или где там у них спиртное изготавливают.
Должен признаться, что французскими коньяками я избалован не был. Если уж совсем честно – то вообще их никогда не пробовал. В лучшем случае армянский, три звезды, ну если повезет, то пять. А вот с французскими происходил полный пролет. Дело даже не в деньгах, которых тоже, понятное дело, не хватало, а в полной коньячной недоступности. Ну, не поступали французские коньяки в свободную продажу, не пускали их туда.
Наконец Милочка снова устроилась у стола.
– Кроме конфет, ничего нет, – заметила она и, достав шоколадный кирпичик из коробки, тоже иностранной, с заковыристыми непонятными буквами, надкусила. Ротик сразу же окрасился коричневатым, вязким, с оттенками багрового шоколадным замесом. Он накапливался, сгущался, на глазах набухал, пытаясь оторваться от спелых, теперь уже совсем пухлых, расслабившихся губ. Тут на помощь пришел язычок, ловкий, юркий, вынырнул, пробежался по губам, сначала по верхней, потом по нижней, подхватил сгустившуюся конфетную вязкость, затянул в свою таинственную, пещерную утробу.
Милочка не могла не заметить моего навязчивого взгляда, улыбнулась, сверкнула глазами так, что по озерной поверхности пробежала рябь, и на секунду показалось, что влага сейчас не удержится и, сочась, начнет выходить из берегов.
– Давай, ты тоже немножко, – предложил я, указывая глазами на бутылку.
– Я не могу, я за рулем. – Она будто извинялась.
– Полрюмки, подумаешь, ничего не будет. Заешь конфеткой, даже не заметишь.
Она кокетливо качнула головой, даже не головой, а всей шеей, слева направо, точно так двигают шеей специально обученные узбекские танцовщицы. А может, киргизские. Только у них амплитуда сдвига побольше.
– Ладно, полрюмки, чтобы тебе скучно не было, – согласилась Милочка и снова встала из-за стола, пошла за второй рюмкой.
Налил я ей, конечно, не половину, а две трети и уж совсем полную рюмку себе.
– Ну что, давай за то, чтобы у тебя левый бок не болел, – предложила она. – Там ведь сердце недалеко.
– Это врачебное пожелание или женское? – не совсем разобрался я.
– А каким оно может быть, если женщина – врач, да еще кардиолог? – ловко увернулась от ответа доктор Гессина.
Я пригубил, проникся непривычным вкусом, пригубил еще, в нем было невозможно разобраться, в этом вкусе, он состоял из переплетения, из наслоения, где каждый пласт нес свою незнакомую, неизведанную составляющую. Сразу стало понятно, почему те, кто в этом разбирается, такое наслоение называют «букетом». Показалось, что в этот тихий, вечерний кабинет где-то на заснеженной, замерзшей Профсоюзной улице вдруг проникла частица теплой, загадочной, совершенно недоступной, пропитанной небом и морем Южной Франции. С ее каменными старыми городками, где узкие, зажатые между стенами домов улочки увиты солнечной виноградной лозой.
Я допил, прислушался, как смягчающее тепло тягуче растекается по телу, по всем его удаленным закоулкам.
– Заешь конфетой, – посоветовала заботливый доктор.
Я покачал головой.
– Нет, не хочу смешивать вкусы, сбивать ощущение. Я лучше еще себе налью? – на всякий случай спросил я.
– Конечно, – искренне удивилась вопросу Милочка.
Я налил себе, она прикрыла свою рюмку небольшой, но решительной ладошкой, отказываясь категорически, да я и не настаивал, я же понимал, что означает аскетичное «за рулем». К тому же ее рюмка по-прежнему оставалась заполнена больше чем на треть.
– Теперь за тебя, за твою докторскую, – предложил я.
– При чем тут докторская? Докторская – это скучно. От молодого писателя хотелось бы что-нибудь пооригинальнее услышать, – снова стрельнула глазками Милочка. На сей раз не без ехидства.
– Ну, хорошо. – Мне пришлось выдержать паузу, задуматься на секунду, но ничего оригинального в голову не приходило. – Давай теперь за твой левый бок. Но это я тебе не как врач желаю, даже не как кардиолог, – кое-как нашелся я, выделив ударением двойное «не».
Вроде бы получилось совсем неплохо – улыбка расползлась, выплыла за пределы Милиных губ, превратилась в звонкий смех.
– Вот так лучше, – просочились сквозь него слова. – Только я не поняла, ты хочешь, чтобы он у меня болел? Или не болел? – задала она, отсмеявшись, двусмысленный вопрос, и он окончательно загнал меня в тупик.
Потому что если бы я поддался на его двусмысленность, то обозначил бы свою причастность к ее левому боку. А никакой причастности мне обозначать не хотелось.
– Как тебе самой хочется? – на сей раз ушел от ответа я и маленькими, неспешными глотками стал впитывать вкус и запах неведомого французского юга.
– Да пусть ноет иногда, – как бы себе самой ответила Мила и тоже не спеша справилась со своей поистине медицинской дозировкой.
Коньяк снова растекся по венам, присовокупился к первой порции, добавил несильной концентрации, жизнь сразу стала чуть лучше. В смысле, еще лучше.
– Слушай, а не поехать ли нам в театр? – Необычная женщина напротив с яблочными, теперь я точно понял, французскими щечками, с полными, чуть выпяченными губами, казалось, и не шутила совсем.
– Куда-куда? – не сразу сообразил я.
– В театр, – повторила она. – Что нам может помешать отправиться в какой-нибудь театр? Драматический или музыкальный? Взять прямо сейчас и отправиться.
Я задумался. Вообще-то кое-что мне мешало, я собирался к Тане, я ведь ей даже не позвонил, думал, куплю цветы и завалюсь вечером, с мороза, неожиданный, нежданный, и снова задержусь на ночь-другую.
Но тут Таня, цветы, идея полного погружения в квартиру на Патриках как-то сразу расплылись, отодвинулись и показались необязательными, вполне переносимыми на более поздние, ночные часы.
– Да вроде ничего не может. Разве что мой бок.
– Не волнуйся, он будет под постоянным медицинским наблюдением, – заверила меня доктор и подтянула к себе телефонный аппарат.
На другом конце провода долго не подходили, я откинулся на спинку стула, мне стало спокойно и размеренно на душе; эта сидящая напротив малознакомая женщина, казалось, хотела оградить меня от всех забот, все решить за меня, любую проблему, удовлетворить любое желание. И похоже, у нее совсем неплохо получалось. Нужна ли мне была ее забота, ее опека? Сейчас, сидя у нее в кабинете, пропитываясь французским коньяком, я не знал.
Телефонная трубка по-прежнему испускала протяжные, однородные гудки, я слышал, как они просачивались между пластмассовой черной крышкой и нежным Милочкиным ушком.
– Налей себе еще, – между гудками распорядилась Милочка и уточнила, указав пальчиком сначала на бутылку, затем на рюмку. Я, конечно, с удовольствием глотнул бы еще коньячной туманной экзотики, но почему-то инстинктивно выставил вперед плоско распластанную пятерню, отрицательно покачал головой.
Милочка попыталась было что-то сказать, но в этот момент телефонный гудок оборвался, не дотянув до середины, и его сменил жеманный женский голос. Слов я разобрать не мог, слышал только, что голос женский и жеманный.
– Тамарочка, это Мила Гессина, – проговорила, не сводя с меня глаз, сидящая напротив докторша, даже кивнула утвердительно, как бы говоря, что раз дозвонилась, значит, все будет в порядке.
Голос на другом конце что-то защебетал, что-то на высоких нотах, я только расслышал слово «давно», оно прозвучало несколько раз, оттого я его и расслышал. Я тут же сам додумал контекст, например: «Ах, Милочка, как давно мы не виделись!» Или: «Почему ты так давно не звонила?»
– Что у вас сегодня идет? – после обмена общими фразами поинтересовалась Мила. Потом посмотрела на часы. – Ну да, через полчаса мы, наверное, успеем. – Снова какое-то невнятное, но радостное волнение на другом конце провода. – Да, два места, я с другом. – Еще одна возбужденная женская реакция, но слов я опять не разобрал. – Сама увидишь, – прервала реакцию Милочка, не отпуская меня глазами, заговорщицки улыбаясь, и я, конечно, легко догадался о сути незамысловатого женского вопроса.
Наконец трубка придавила упругие телефонные рычажки, Мила посмотрела на меня, развела руками.
– Ну что, готов к искусству?
– Да мне к нему и готовиться не надо, – самоуверенно заявил я.
– Тогда надевай свитер, летим в Большой.
– В большой что? – не сообразил я с ходу.
– В Большой театр, – уточнила приятная женщина в белом халате.
– И там будет искусство? – Не знаю почему, но мне хотелось куролесить, нести чушь, вот я ее и нес. Наверное, из-за попавшего в меня французского хмельного градуса.
– А чему там еще быть? – ответила Мила на ходу, унося рюмки к индивидуальной стерилизованной раковине, там же их быстренько и простерилизовав. По ее четким, но не торопливым, а, наоборот, выверенным движениям я понял, что мне тоже следует поспешить. И я поднялся и стал спешить. Голову в свитер я просунул достаточно легко, а вот с рукавами сбился и запутался – левой рукой, по предписанию врачей, двигать не полагалось, а правая, оставшись в одиночестве, от непривычки растерялась и беспомощно затрепыхалась, заблудилась в трубном, матерчатом лабиринте. Конечно же, повозившись, я бы и сам преодолел это несущественное затруднение, но возиться мне не пришлось. Ловкие, заботливые пальцы нашли за меня рукав, натянули его на потерявшуюся было руку, потом помогли и левой отыскать спасительный выход к свету.
– Извини, что я тебе сразу не помогла. – Мила была так близко, прямо передо мной, на почти сведенном к нулю расстоянии, как ни разу еще не была.
Я заглянул в ее глаза, у меня просто не было другого выхода, как бы мой взгляд ни старался их избежать, все равно только на них и натыкался. С чем бы их сравнить? Вот французский коньяк тоже был многослоен, но оказался до обиды упрощен по сравнению с Милиными глазами. Чем они только не были наполнены! Если на поверхности доминировала завораживающая изумрудная яркость, увлажненная, будто смазанная специальным прозрачным маслом, что, видимо, символизировало жизнерадостность и задорный оптимизм. То в глубине было столько всего намешано, что выделить, отделить одно от другого было немыслимо. И все же в самой кромешной, трясинной пучине, мне показалось, я разглядел. я не мог поверить. печаль, возможно, тоску, возможно, даже усталую, переходящую в хроническую боль.
Мне ничего не стоило ее поцеловать, повторю, расстояние между нами было провокационное, наверное, она ждала, что я придвинусь, трону губами ее губы. Но я не двигался, не приближался, и, когда пауза искусственно разрослась и переполнила отделяющее нас пространство до краев, стала выплескиваться из него, Мила отстранилась, может быть, чуть резче, чем полагалось.
– Ах, вот что еще, – произнесла она и, оттолкнувшись от меня, снова подошла к шкафу, достала оттуда плоскую металлическую фляжку, быстро плеснула в нее коньяка. Я удивился отточенной филигранности – даже капли на поверхность стола не упало.
– Положи в карман, – сказала она мне.
Я покачал головой в недоумении:
– Зачем?
– Балет под хороший коньяк намного лучше усваивается.
– Балет? – переспросил я.
– Ну, не опера же. – Она улыбнулась, блеснула глазами, значит, снова взяла себя в руки.
Мила сняла халат, под ним оказалось длинное серое платье, наверное, шерстяное, плотно облегающее тело, оно выделяло, оттачивало каждую плавную линию ее уже не девичьей, а зрелой женской фигуры. Потом подошла к зеркалу над раковиной, провела рукой по коротким, густым волосам, подправила что-то в косметическом оформлении лица – что-то подрисовала карандашиком, провела по губам помадой, повернулась ко мне, обновленная, радостная, восторженная.
– Оп-ля, – развела она руками, как разводит руками на цирковой арене факир, только что проделавший свой самый коронный фокус. – Ну что, пора ехать, у нас всего двадцать пять минут осталось, если опоздаем, нас поместят в самый арьергард. Ты готов?
Она снова подскочила к шкафу, но уже к другому, не медицинскому, а скорее платяному, достала оттуда элегантные сапожки на высоких каблуках, сбросив легкие туфли, сунула в них ножки, нагнулась, застегнула молнию. Вслед за сапожками наружу вылезла короткая шубка, сверстанная из какого-то совершенно неведомого мне пушистого зверя, и передо мной предстала очень интересная, можно сказать, блестящая женщина из какого-нибудь итальянского фильма – я, например, таких в нашей пресной советской жизни и не встречал никогда.
Ну да, вспомнил, у Феллини в «Сладкой жизни», когда приезжает голливудская актриса и Мастроянни вынимает ее из ночного римского фонтана. Только там актриса была высокой и белокурой, а здесь брюнетка, да и ростом поменьше, хотя на каблуках все же почти до меня дотягивалась.
И тут я почувствовал себя частью мезальянса, причем недобирающей, мизерной его частью. Если рядом с этой женщиной каким-то чудным, противоестественным образом и возникло свободное место, то возникло оно совсем не для меня. Кто я? Желторотый, неимущий студент, который примечателен разве что тем, что пописывает короткие рассказики в местные газеты-журналы. Которые, кстати, и самого автора, и его рассказики по большей части отшивают. Нет, ни по одному параметру я не подхожу ей – несерьезный, несолидный, ничего не добившийся, ничего не имеющий.
Вот так уверенность, вильнув своим упругим хвостиком, и выскользнула, и сразу растворилась в полумраке слабо попахивающего коньяком медицинского кабинета. А без уверенности я сразу почувствовал себя частично выпотрошенным, зажатым, неловким, неуклюжим – даже в рукава куртки без посторонней помощи с трудом попадал.
Видимо, я слишком долго ковырялся с рукавами, Мила снова подлетела, сняла с шеи косынку, оказывается, под воротником шубки цветастой лентой струилась вниз шелковая косынка. А может, и не шелковая, я не разобрал. Соединила два конца у меня за шеей, завязала узлом, пальцы ее то и дело касались моей кожи, я слышал запах ее духов, чувствовал горячность тела, дышащего теплом из-под раскаленной шубки, и все больше и больше ощущал себя маленьким, мелким, ничтожным, неподходящим.
Она взяла мою левую руку, осторожно, по врачебному аккуратно просунула ее в мягкую петлю косынки.
– Расслабь кисть, ты слишком напряжен, – приказала она, не поднимая больше на меня глаз. Потом помогла вдеть правую руку в рукав куртки, накинула ее на левое плечо, как накидку, и получалось, что теперь мы оба готовы в вечернему рауту в Большом.
Москва того времени, в отличие от Москвы сегодняшней, отличалась немногочисленностью частного транспорта. Улицам были неведомы пробки, особенно в морозные, заснеженные вечера, когда большинство, как их тогда называли, «автолюбителей» даже не пытались заводить свои капризные ржавеющие «Москвичи» и «Запорожцы». А вот Милины «Жигули» мороза почему-то не боялись, завелись, как им и полагалось, с пол-оборота, и вот мы уже рассекали Профсоюзную и минут через пятнадцать планировали оказаться как раз на площади Свердлова, прямо напротив вздыбленных лошадей Большого.
За эти резвые двадцать минут я уже более-менее восстановился, обрел заблудшую было уверенность и кое-как ощутил себя прежним, привычно знакомым себе. Ну да, конечно, несолидным, конечно, несерьезным. что там меня еще недавно смущало?. Недобившимся, недостигнувшим, и прочее, и проч., и пр.
Но, с другой стороны, все же молодым, все же в меру беспечным, в меру удачливым, не без способностей, с надеждами и планами на будущее. А значит, нет никакой причины тушеваться ни перед роскошными дамами, ни перед жизнью как таковой.
В кассовом предбаннике топталось небольшое стадо хорошо одетых, солидных людей. Хотя несолидные топтались тоже. Даже в окошко к администратору мелко колыхалась, переваливалась с ноги на ногу тягучая очередь. Но и она, как оказалось, не предназначалась для нас. Там, рядом с окошком, находилось еще одно окошко, закрытое, занавешенное с внутренней стороны плотной серенькой занавеской. Милочка подошла, постучала пальчиком в лайковой перчатке в толстое, почти пуленепробиваемое стекло, занавеска на мгновение шевельнулась, потом застыла снова.
– У вас тут явка, что ли? Конспирация на самом высоком уровне. Ты пароль-то не позабыла?
– Ладно болтать, пойдем. – Она взяла меня за руку, как мамаша берет за руку ребенка, ну хорошо, не мамаша, а старшая сестра, и деловито потащила к большим, тяжелым, помпезным входным дверям самого большого и помпезного театра в стране. Оказывается, нас там уже ждали.
Женщина лет тридцати, а может, и моложе, под тридцать, высокая, красивая, а главное, невероятно ухоженная, в длинном черном до пят платье, про такое, насколько я понимал, говорят «вечернее», с глубоким декольте, занавешенным, впрочем, густой, тоже темной шалью, стояла у дверей, поеживаясь от холодного вестибюльного сквозняка.
– Людмила Борисовна, – бросилась ухоженная женщина к Милочке, – Елизавета Аркадьевна просила вас зайти к ней. Вот, возьмите контрамарки. Пойдемте. – Она хлопнула ухоженными, красивыми ресницами, бросила на меня взгляд ухоженными, красивыми глазами, улыбнулась ухоженными, тоже красивыми губками, показав ровные (хотел написать, «ухоженные») зубки, длинными ухоженными пальцами поправила на плече шаль, так что та колыхнулась, как давеча занавеска в окошке, чуть приоткрыв ухоженное, красивое декольте, и первая двинулась внутрь святейшего из всех храмов искусств. – Одежду можете у меня в администраторской оставить, чтобы потом в очереди в гардероб не толкаться, – посоветовала администраторша и открыла едва заметную, замаскированную портьерой дверь.
– Спасибо, Тамарочка, – отозвалась моя покровительница, – куда повесить?
– Вот сюда, на вешалку. – Тамарочка все еще поеживалась, поглаживая длинными худыми руками узкие плечи, видимо, пусть и кратковременное, но непривычное пребывание в вестибюле подморозило ее основательно.
Мила стянула перчатки, положила их в маленькую лакированную сумочку с блестящей металлической цепочкой, затем защелкала пальчиками по пуговицам на шубке, начала было ее снимать. Но не тут-то было. Пусть подраненный, но лихой джигит (то бишь я), сбросив с плеч легкую свою бурку, перекинув ее через висящую на перевязи поврежденную руку, отлично подходящую сейчас в качестве вешалки, другой рукой уже помогал освободиться от верхней одежды даме своего сердца. Ну, хорошо, не сердца, но все равно даме.
Шубка не весила ровным счетом ничего, я ее пристроил на вешалку, прикрыв своей незатейливой курткой, так, на всякий случай, чтобы не выделялась. А изящная Тамарочка, поеживаясь, заботливо поглаживая себя по плечам, продолжала бросать самые доброжелательные взгляды то на Милочку, то на ее спутника. Мне, кстати, показалось, что взгляды на спутника у нее выходили даже более доброжелательными.
Потом мы шли по роскошной мраморной лестнице, среди роскошных, тоже почти мраморных людей, я, конечно, в будничных брюках и свитере чувствовал себя несоответствующим, не вписывающимся в общее архитектурное великолепие, но меня ведь никто не предупредил заранее ни про балет, ни про Большой. Хотя если бы и предупредили, я все равно надел бы именно эти брюки и свитер, они считались самыми приличными из всего моего гардеробного ассортимента.
На втором этаже мы выбрались из проторенной человеческим потоком колеи и свернули в какой-то едва заметный закоулок. Там снова оказалась дверь, которую ухоженная Тамарочка отперла специальным театральным ключиком, возможно, и золотым, я не разглядел. За дверью опять потянулся коридор, но теперь не такой помпезный – поуже, потемнее, хотя тоже вполне впечатляющий. Мы пару раз спустились по узким коротким лестницам, затем поднялись по одной, два раза повернули, оба раза налево, Тамарочка решительно двигалась в авангарде, все так же потирая длинными холеными руками зябкие, прикрытые лишь шалью плечи. В результате мы попали в другой коридор, по обеим сторонам которого располагались уже не такие величественные, не такие тяжелые, а вполне кабинетные двери. Тамарочка постучала в одну из них и, не дожидаясь ответа, распахнула перед нами таинственный сезам.
Сезамом оказался небольшой кабинет, посередине стоял заваленный стопками бумаг стол, за ним сидела немолодая женщина, завидев нас, вернее не нас, а Людмилу Борисовну, она тотчас же поднялась, шагнула навстречу. В отличие от администраторши она не выглядела ни высокой, ни статной, ни даже красивой, ни даже такой продуманно ухоженной. Небольшая, хрупкая, с немного усталым лицом, непонятно почему знакомым, она вполне годилась мне в матери. Но отчего-то самым необъяснимым образом Тамарочкина броская красота рядом с ней сразу бесповоротно поблекла и потерялась. Изящество, вот что отличало эту хрупкую женщину – неброское, даже скромное, оно завораживало утонченностью, оно само по себе было искусством, произведением.
Я тут же вспомнил Таню, у которой по идее должен был сейчас находиться, но не находился. Впрочем, изящество немолодой женщины отличалось от Таниного – оно было замешано на аристократизме, было естественной, неотъемлемой частью общей гармонии. А у Тани не только наблюдался аристократический дефицит, но и само изящество выглядело нарочитым, как бы умышленно выставленным напоказ, будто существовало само по себе, отдельно от Тани, и единственная его цель заключалась в том, чтобы его заметили и оценили.
В этом, наверное, и есть разница между балетом и гимнастикой, подумал я и вдруг остолбенел. Я понял, наконец-то узнал, догадался, что женщина передо мной – великая балерина, возможно, самая великая из всех великих, когда-либо выходивших на сцену.
– Милочка, дорогая моя, как чудесно, что ты все-таки смогла нас посетить. – Балерина подплыла к Миле, они на мгновение прижались друг к другу щечками в легком, бесконтактном поцелуе, они были почти одного роста, но Милочка была на каблуках, вот ей и пришлось чуть подогнуть ножки. – Как папа? – И, не дожидаясь ответа, добавила: – Передай ему большой привет. – И потом, чуть тише, более интимно: – Мы же знаем, что он кудесник.
– Это вы кудесница, – не согласилась Милочка.
– Ну хорошо, мы с ним оба кудесники, – не стала спорить балерина. И продолжила негромко: – Кстати, после спектакля у меня дома будет маленькая вечеринка. У нас же сегодня премьера, вот мы и решили отметить, мы каждую премьеру отмечаем, ты же знаешь. – Милочка кивнула, значит, действительно знала. – Так вот, ты подъезжай, ладно?
– А удобно ли? – заскромничила доктор Гессина. – У вас же все свои будут.
– Конечно, удобно. – Хозяйка предстоящей вечеринки снисходительно улыбнулась. – К тому же ты всех знаешь. И спутника своего не забудь. Кстати, представь нас.
– Это Толя. – Я кивнул, постаравшись вложить в кивок максимум почтения. – А это Елизавета Аркадьевна[11]11
Основная задача этого текста, как я уже говорил, сделать его максимально приближенным к реальным событиям, людям, к их характерам, судьбам. Потому я и стараюсь использовать реальные имена. Но когда речь идет о людях публичных, я не чувствую себя на это вправе (все же «Магнолия» не документальное, а художественное произведение) и заменяю имена на вымышленные.
[Закрыть].
– И чем же Толя примечателен? – повернулась она ко мне и беззастенчиво оглядела с ног до головы. Так, наверное, на балетных экзаменах оглядывают конкурсантов – их посадку, разворот бедер, попки, ляжки, ширину плеч, легкость прыжка или что там еще важно в конкурсантах. Впрочем, о легкости моего прыжка ей пришлось только догадываться – прыгать я не собирался. – Толя наверняка чем-то примечателен, раз ты с ним. – Балерина повернулась к Милочке, потом снова ко мне, взгляд у нее был не мягкий и не легкий, вот его бы в балетную школу точно не приняли. Но люди с мягкими взглядами, насколько я понимаю, легендами не становятся.
– Да ничем, – ответил я, отражая ее взгляд своим. – Абсолютно ординарный, среднестатистический Толя.
– Не верю, вы наверняка лукавите. – Она попыталась еще глубже пробраться в меня взглядом, буравя мои глаза, но я выстроил там целую баррикаду из спокойной лучистой иронии. Поди, прошиби ее.
– И правильно делаете, что не верите, – вмешалась Милочка, улыбаясь, но тоже не без иронии. Вот и получалось, что я просто оказался окруженным иронией, окольцован ею. – Помимо прочих достоинств, Толя еще и писатель, его печатают. Вот только что в «Юность» рассказ взяли.
– Ну вот, а вы скромничаете. Я же вижу. В ваши молодые годы печататься в журналах – уже достижение. Знаете, вас излишняя скромность не красит.
– Да нет, правда, – не сдержался я, хотя знал, что лучше бы сдержаться. – В компании одних кудесников я даже близко не кудесник. Если бы была школа по подготовке кудесников, меня бы в нее даже не приняли. А если бы и приняли, то исключили за неуспеваемость после первого семестра, – произнес я, удивляясь собственной дерзости.
– Смотри-ка, – обратилась умирающий в прошлом лебедь к кандидату медицинских наук, – а он за словом в карман не лезет.
– Еще как не лезет, – вздохнула в ответ кандидат. Тоже с иронией вздохнула.
– Значит, я вас жду, часам к одиннадцати, сразу после спектакля. Ты же помнишь, как ко мне на Кутузовский проехать.
– Конечно, – закивала Милочка.
– Тогда до встречи. – Они снова прижались друг к дружке щечками, а меня неповторимая Одетта снова удостоила взглядом. На сей раз он был чуть помягче и полегче.
Оказалось, что в специальной ложе все места заняты, видимо, на премьеру съехались люди поблатнее доктора Гессиной. Поэтому Тамарочка приземлила нас где-то в районе третьего ряда, напоследок стрельнув в меня слишком лучистым, пронизывающим взглядом, будто хотела запомнить до конца жизни.
Я придавил было мягкое, удобное кресло, но тут же вскочил – что-то жесткое впилось в правую ягодицу, я сразу вспомнил, что там, в заднем кармане, хранится металлическая плоская фляжка с заморским нектаром. Пришлось фляжку достать, засунуть под свитер, чтобы не смущать приличную публику очевидным алкоголем.
– На третьем ряду даже лучше, – проговорила Мила, которая, видимо, про балет знала если не в таких деталях, как про сердце, то тоже немало. – На первом слышен стук пуантов об пол и даже иногда запах пота доносится.
– Не может быть, – не поверил я про пот.
– Конечно, на сцене же жарко под софитами. Да и работа у них физическая. Кажется, что все легко и без усилий, а на самом деле труд адский.
Я кивнул, соглашаясь. Да и мог ли я возражать, я на балете всего-то раза два бывал, родители водили еще ребенком, приобщали, так сказать, к большой культуре. Но сидели мы тогда совсем не в первых рядах, оттого, наверное, полностью приобщиться так и не удалось.
Мне нравится, как поэт Бродский написал о балете:
Классический балет есть замок красоты,
Чьи нежные жильцы от прозы дней суровой
Пиликающей ямой оркестровой
Отделены. И задраны мосты.
И так далее.
Мне кажется, что здесь отлично отражена самая суть балета, самого искусственного из искусств. Конечно же, оно было создано не для простого смертного, типа меня, а для истинного небожителя. Вот я и постарался в последующие два-три часа прикинуться небожителем.
Поначалу я пытался оценить какое-нибудь особенно невероятное па или прыжок, или разные другие балетные трюки, которым даже не знал названия. И не только оценить, но и проникнуться в каждый из них чувством. Но проникнуться мне никак не удавалось. То есть я, конечно, ощущал определенный эстетизм в происходящем, понимал, что технически совсем не просто вот так крутиться волчком на одной ножке, да и растяжки, конечно, впечатляли, особенно женские. Но вот чтобы все это слилось в единый, зацепивший меня, душевный порыв – нет, такого не происходило.
Даже женщины казались какими-то ненастоящими, искусственными в своих кукольных пачках, с неестественно большими стопами, упрятанными в пуанты с пробковыми носками-наконечниками. Потому и не вызывали они ничего, кроме эстетизма, ничего того, что вообще-то должны вызывать женщины с такими отточенными фигурами и с таким годами натренированным умением.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































