Текст книги "Магнолия. 12 дней"
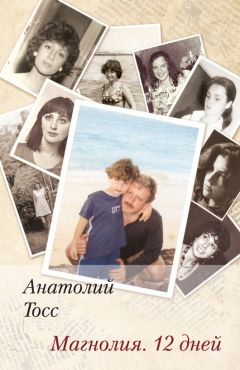
Автор книги: Анатолий Тосс
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 28 страниц)
Подошел троллейбус, стая зомби рванулась к нему, теперь хоть чем-то напоминая людей, попыталась создать подобие очереди, она колыхалась, вспучивалась, как тело какого-нибудь индийского питона, заглотившего крупную жертву и теперь проталкивавшего ее толчками вдоль желудка. Потом автобус, как другой, еще больший индийский питон, стал втягивать ее по частям, набивая свое освещенное брюхо до отказа, до пружинящего, смягченного многими телами упора.
Парень бросил недокуренную сигарету в утоптанный, утрамбованный до блеска снег и ловко вспрыгнул на ступеньку открытой пока еще двери. Она сдвинулась, заскрежетала, снова дернулась, но тут же остановилась, упершись в неподатливую человеческую плоть. Парень отжался от настойчивых дверных створок, вдавил и без того сжатое людское месиво, сжал его еще сильнее, двери вздрогнули, напряглись и закрылись у него за спиной. Троллейбус нехотя повел длинными, устремленными к подвешенным проводам усами, издал сдавленный электрический, почти что дельфиний писк и двинулся от меня прочь. Сквозь побитые морозным узором окна можно было разглядеть несколько удаляющихся лиц – они не были счастливыми, на них на всех отложился отпечаток сдавленной изнутри, едва удерживаемой, ничего не выражающей отрешенности.
Я подошел к светящейся огненным отблеском точке, единственной цветной точке на безграничном, занесенном серо-белом пространстве. Брошенная, так и не докуренная сигарета источала не красные, не оранжевые, а именно огненные всплески, она казалась нереальной, неземной в своей тлеющей яркости. Я уставился на ее замирающее, отдающее последнее бесполезное тепло, искрящееся острие, в нем все еще билась жизнь, какие-то микрочастицы вспыхивали, какие-то замирали, перенося огонь вглубь, в раскаленный доменный жгут. Я смотрел долго, не отводя остановившегося, завороженного взгляда, и только когда последняя, сбившаяся в мерцающем всплеске искорка сжалась и превратилась в ничто, лишь в чернеющий, грязный, с неровными, будто изгрызенными краями осколок, я сбросил отупляющее оцепенение.
Остановка снова заполнялась людьми, снова одинокими, неприкаянными, снова тихими, усталыми, зомби-образными. Я не мог больше быть одним из них, не мог униженно заполнять набитый податливыми, легко вминающимися телами автобус, не мог разделять с ними их запрограммированную, словно заложенную с рождения, усталую, изнуряющую заботу.
Я сделал несколько шагов вперед, к краю тротуара, и протянул руку. Почти сразу, взвинченно скрипнув шинами на утрамбованном снегу, словно боясь проскочить мимо, затормозила «Волга». Я открыл дверь, пригнулся, в лицо пахнуло теплом и густым, пропитанным табаком запахом уюта.
– До Пушки. Трояк, – отрапортовал я.
Большой, расплывшийся мужик, наехав телом на руль, заполнил и так уже почти всю переднюю часть салона – я разглядел только усы и ондатровую меховую шапку, – выдержал паузу, видимо, соображая, стоит ли ему менять маршрут ради трех рублей. Потом кивнул и, как бы подтверждая, добавил:
– Давай залезай.
Я ввалился внутрь, оставляя позади одичалую, убогую остановку, жалкую, беспросветную, темную серость обреченных на замерзший троллейбус не менее замерзших людей, механическую безотчетность их ежедневного бессмысленного передвижения.
Мы ехали молча, тепло и непривычно смачный, вкусный табачный запах расслабляли, надежно отгораживали от мелькающего за окном сумрачного уличного ландшафта.
– Ты не против, я закурю? – спросил мужик, голос у него оказался густой, с мягкой, артистической тональностью.
– Да, конечно, – пожал я плечами.
Он протянул руку вниз, в темноту, оказалось, что он курит трубку, вот почему табачный запах был насыщен притягательным, вкусным ароматом.
– Ты не волнуйся, я форточку приоткрою, – успокоил он меня и покрутил тугой рукояткой на двери.
– Да я и не волнуюсь. – Я и сам расслышал в своем голосе полнейшее, ничем не скрываемое безразличие.
Свежий, врывающийся в приоткрытую прореху окна воздух тут же перемешивался с другим, застоявшимся, перегретым внутри салона, перемешивался с табачным дымом, создавая контраст не только температурный, но и контраст двух противоборствующих потоков – разогнавшейся, холодящей, отрезвляющей, продувающей мозги скорости. и комфорта тепла, комфорта надежности уверенно двигающегося вперед автомобиля.
– Ты чего смурной такой? – попыхивая трубкой, проницательно поинтересовался водитель.
– Да, так, – отмахнулся было я, но вдруг, даже не успев сообразить «зачем?», «а нужно ли?», неожиданно для самого себя сказал: – На друга в институте наехали. Завтра отчислять собираются. Меня вызвали, требуют, чтобы я тоже за исключение проголосовал.
Водитель сосредоточенно вглядывался вперед, в тускло освещенное белое полотно, подкрашенное лишь краснеющими огоньками движущихся впереди машин.
– Кто наехал-то? – наконец произнес он.
– Не то партийцы, не то гэбэшники. В общем, смесь какая-то такая паршивая. – Почему-то я совершенно не боялся, этот большой усатый мужик с глубоким, спокойным голосом непонятно отчего внушал мне доверие. Или просто сплав теплого и морозного воздуха, замешанный на душистом аромате табака, наконец растопил мое беспомощное оцепенение. Первый шок прошел, и теперь пришло время размышлять, анализировать, принимать решение. Но сначала необходимо понять, что же все-таки произошло, необходимо проговорить словами, желательно вслух, чтобы самому услышать, вдуматься, чтобы разобраться.
– За что наехали-то? – снова растекся густой, красивый голос, и я вдруг вспомнил – именно так звучит голос Галича на заезженных, заигранных магнитофонных пленках.
– Да в том-то и дело, что ни за что. Я-то ведь его знаю. Отличник, математик от Бога, помогает всем, клевый парень. «Запорожец» собрал своими руками из кусков, ну, и кто-то капнул, похоже. Вот теперь ему и клеят.
Водитель снова помолчал, обдумывая, но недолго.
– Вот суки, – снова произнес он голосом Галича. Потом добавил: – Страну замучили. Хорошая страна ведь, а до чего довели. – Он так и не сказал, кто именно довел, но имена собственные здесь, сейчас были необязательны.
Мы ехали, молчали, вдоль улицы мелькали дома, то на одной стороне, то на другой светились витринами магазины. Я успевал читать крупные вывески – «Булочная», потом «Овощи-Фрукты», из стеклянной двери вышел мужчина с авоськой, я обернулся, хотел разглядеть, что внутри авоськи, но мы уже проехали.
– Ну и что ты собираешься делать? – спросил мужик.
Поразительно, как похожи голоса. Да и одутловатое, с крупными чертами лицо, да и усы. Но Галич был где-то далеко, за бугром, он не мог левачить на «Волге» по зимним, январским московским улицам. Сюр какой-то.
– Не знаю, – ответил я.
– А если просто не прийти на собрание?
– Так для того и вызывали, – качнул я головой. – Сказали, если не приду и не проголосую, самого вышибут.
– Вот суки, – повторил мужик, снял с головы шапку, вытер рукавом пот. Оказалось, что на голове у него залысина, неудачно прикрытая длинными темными волосами.
– Да, дела. Неужели опять все начинается…
Мне показалось, что он спрашивает у меня.
– Хрен его знает, – ответил я и вздохнул.
– Тогда ведь тоже постепенно начиналось. Не сразу. Они не спеша пробуют. Приучают население. А потом шаг за шагом, мало-помалу, когда никто уже не возражает, начинают гайки закручивать. – Он усмехнулся. – Да и не только гайки. Нас тоже закручивают.
– Кого нас? – зачем-то спросил я.
– Как кого? Тебя. Меня. Всех нас. А мы молчим и хаваем. Так всегда было. При царях, при большевиках, всегда. Пока лично не коснется, нас не волнует, ничего не волнует. Страна у нас такая, мы сами такие. Оттого нас и выкручивают, и выжимают до капли, как хотят.
Я молчал, я не хотел ни возражать, ни соглашаться. Этот человек, похоже, и думал как Галич, теми же категориями. Которыми я никогда прежде не думал, которые меня просто не волновали. До тех пор, пока лично меня не коснулось. Прям как он говорит.
– Рассказать историю? – произнес шофер своим глубоким, мягким, густым баритоном.
Я снова промолчал. И он, не получив ответа, похоже, ушел в себя.
Мы плавно катили по заснеженной мостовой, прохожие на тротуарах спешили, кутаясь в шарфы, платки, подняв воротники, мы обгоняли их, оставляя позади растворившимися в темноте вместе с каменными остовами домов, вместе с троллейбусными остановками, с замерзшей, заметенной улицей лишь для того, чтобы снова упереться в темноту, поравняться с новыми нависающими массивами домов, с другими спешащими, кутающимися в теплое людьми. Жаркий, густой, пропитанный табачным запахом воздух, казалось, оградил меня не только от зимы, от холода, от снега, но и от людей, от их напастей, забот, сделал нечувствительным, безучастным.
– Давно было дело. Много лет назад, я ребенком был, маленький совсем, лет девять-десять всего, – снова смешался с воздухом мягкий голос с поставленными артистическими интонациями. Я не сразу понял, о чем идет речь, а потом догадался – это он начал свой рассказ. Мне-то показалось, что он передумал, а он просто ушел в себя, вспоминал. – Меня родители на дачу вывозили и на лето, и даже на зимние каникулы, у нас дачка была небольшая, близко от Москвы, километров пятнадцать-двадцать. Я был непоседливым мальчишкой, бегал всюду, в лес убегал на целый день, в лесу ведь мир сказочный, фантастический, ребенку раздолье. Тогда детство вообще незатейливо проходило, никто нас не развлекал, не занимался нами, мама выпускала во двор, и я целый день был предоставлен самому себе. Иногда играл с другими мальчишками, иногда сам по себе. Мама даже не знала, где мы бегаем, что делаем, главное, к обеду вернуться, чтобы она не нервничала. Да, тогда другие времена были, не то что сейчас.
Я кивнул, соглашаясь, хотя и не знал, чем те, другие времена так уж сильно отличаются от этих.
– В общем, там, в лесу, озерцо было небольшое. Ну, как небольшое, метров триста в диаметре, а может, чуть больше. Конец зимы был, март, наверное, или начало апреля, ну да, апреля, весенние школьные каникулы, я был один, без мальчишек, и решил через озеро напрямую пройти. Целый день бегал по лесу, устал, замерз, уже темнеть начинало, хотелось быстрее домой, в тепло, к маме, вот и решил срезать. Пошел я, значит, по льду, все нормально, я лед пробую, все же апрель, но он крепкий, да и я ведь ребенок, вешу немного. Уже прошел половину, наверное, метров сто пятьдесят, не меньше, и тут лед подо мной потрескивать начал. И чем дальше я иду, тем больше он потрескивает. Потом вода начала появляться на поверхности, небольшой такой слой, и даже непонятно, откуда она бралась, две минуты назад не было, и вдруг появилась. Я, конечно, тогда о законах физики ничего не знал, о массе, силе давления, я просто перепугался не на шутку и инстинктивно лег на лед, руки, ноги разбросал, распластался всем своим детским тельцем и пополз. Но не назад, а вперед, до другого берега уже ближе было. Ползу я, значит, чувствую, пальто набухает от воды, тяжелеет, от каждого моего движения лед все сильнее трещит, но я ползу, зубы стучат, не то от холода, не то от страха, а скорее всего и от того и от другого. Долго полз, наверное, с полчаса, уже в истерике, уже почти темно стало, я весь мокрый, промерзший, измотался, едва руками-ногами передвигаю. Смотрю, а сбоку два мужика сидят на ящиках и не то рыбачат, не то сачками корм для аквариума вылавливают. До берега метров сорок, не больше, но я уже без сил совершенно, слезы из глаз катятся и замерзают. А может быть, не слезы, может быть, это ледяное мокрое месиво на лицо налипало и перемешивалось со слезами. Но до мужиков уже совсем недалеко, они чуть сбоку сидят, я потому их сразу и не заметил. В общем, подползаю я к ним, там, кстати, лед покрепче оказался, но мне уже все равно, я уже без сил, с трудом сдерживаю подкатывающую истерику, уже почти что невменяемый, ну, ты понимаешь, от страха, от холода, от усталости. И вот так, распластанный по льду, едва сдерживаясь, чтобы не перейти в откровенный рев, лепечу:
«Дяденьки, – лепечу я, замерев на льду, – снимите меня отсюда. Я больше не могу».
Они посмотрели на меня как-то так мрачно, один даже перестал сачком своим болтать внутри проруби, а потом проговорил тоже мрачно, без выражения, без интонации, как сплюнул в темнеющую в проруби воду:
«Сюда дополз – и до берега доползешь».
А потом действительно сплюнул в прорубь. Я даже запомнил, как он через нос вобрал воздух, собрал во рту мокроту и смачно плюнул.
– А второй? – зачем-то спросил я.
– А второй даже не повернулся, вообще ничего не сказал. И я пополз дальше к берегу. – Мягкий, глубокий голос, тающий в тепле машины, растаял окончательно, не оборвался, а именно плавно растаял. Прошла минута-другая, и он возник снова: – Представляешь, ребенку десять лет, совсем клоп еще, перепуганный, обессиленный, промокший, промерзший до костей, а им совершенно по х-ю. – Слово не резануло, только добавило эмоциональной амплитуды в повествование. – Ни помочь, ни отвести домой, ни успокоить, ни поддержать хоть как-то. Полнейшее, злое, тупое безразличие. Где еще такое возможно? Не представляю. И это ведь только бытовой случай, так, мелочь жизни.
Он снова замолчал. Молчал и я. Мы уже развернулись на Басманной и двинулись в сторону Дзержинки.
– И вот что я думаю, – снова возник голос. – Пока мы такие, нас гнобить одно удовольствие. И любители гнобить всегда сыщутся в избытке, опять же из наших собственных рядов. Потому что на самом деле все определяется лишь одним – отсутствием человечности. Понимаешь, отсутствием человеческой души. И мы живем в этом бездушном пространстве. А знаешь, что выходит.
– Он замолк.
– Что? – пришлось вставить мне.
– Выходит, что ничего никогда не изменится. Как было всегда, так и будет всегда. Генотип народа меняется тысячелетиями, если меняется вообще. Знаешь, кто-то сказал: «Для того чтобы забыть одну жизнь, надо прожить другую, равную ей». Сказано, вообще-то, про любовь, но формулу можно обобщить, она подходит для всей нашей человеческой природы. То есть, чтобы изменить то, что формировалось столетиями, требуется такое же количество столетий. Ты думаешь, те, кто наверху, этого не понимают? Они, может, и рады поменять что-нибудь, но не могут, потому что мы не потянем. Народ не потянет. В этом-то и вся штука. Выхода никакого нет. Ни у нас, ни у них.
Наверное, надо было что-нибудь сказать, ответить, но я опять промолчал.
Мы проехали площадь Дзержинского, затем проспект Маркса, у Центрального телеграфа остановились на светофоре.
– Так кто на твоего товарища наехал? – снова спросил водитель.
– Я же говорю, похоже, ГБ.
– Да ладно, ГБ. Нужен твой товарищ ГБ. Больше им заниматься нечем, как студентов из институтов вышибать. Тут скорее конфликт на личном уровне. Кто-то кому-то не понравился, не угодил, ну, и прочее, оттого проблема и возникла. Кто конкретно наехал? Кто тебя вызывал? Ведь не ГБ же. Кто-то, наверное, из института.
Я не понял, к чему он клонит, но все равно ответил:
– Да есть там один, Аксенов Игорь Сергеевич. Я даже не знаю, кто он. Кажется, на кафедре политэкономии ошивается, да еще в парткоме кем-то.
– И говорит, что работает в органах. – Почему-то голос утратил часть артистических, душевных интонаций. Все еще мягкий, глубокий, но уже без задушевности.
– Не так чтобы напрямую, но намекает. Упорно намекает.
– Ну да, ну да, – проговорил мой водитель, как будто все знал заранее, даже закивал в такт.
– Ты вот что. Ты завтра на собрании спровоцируй его как-нибудь. Запиши все выступления на пленку, а под конец спровоцируй, расколи его. Он ведь несдержанный наверняка, легко возбудимый. Такие люди обычно несдержанные. Слишком много ненависти у них внутри. А ненавистью тяжело управлять, ненависть норовит выплеснуться. Вот и воспользуйся этим. Знаешь, хладнокровный, продуманный расчет всегда эмоциональность одолеет.
Я ничего не понял. Вообще ничего.
– На какую пленку, что записать?
– У тебя магнитофон есть, портативный какой-нибудь? Вот ты его в портфель положи и на запись поставь, – как маленькому, объяснил мне водитель. – А потом сам выступи как-нибудь так, чтобы этого Аксенова из себя вывести. Скажи, например, что-нибудь обидное, такое, чтобы он от бешенства завыл, чтобы не удержался. Взорви его, ты, похоже, парень сообразительный. Чтобы он наболтал что-нибудь необдуманное или глупостей сгоряча наделал. Чтобы было за что зацепиться. Ну, ты сам придумай. Понял?
– Ага, – кивнул я, хотя не понял практически ничего. Ничего, кроме идеи с магнитофоном.
– Спровоцируй его, одним словом.
– И что потом?
– А потом мне позвони.
– Вам? – Я удивился.
– А почему бы и нет? Позвони, я помогу. Ты, главное, материал собери.
Он подрулил к тротуару, остановился. Достал из-за пазухи бумажник, порывшись в нем, выудил карточку из твердой, глянцевой, почти картонной толщины бумаги, протянул мне. Я даже не понял, зачем он ее мне дает.
– Тут мой телефон. – Он улыбнулся мягко, в усы. – Ну вот и все, приехали.
Я оглянулся, мы стояли на Горького, у памятника Пушкину. Я спохватился, полез в карман. Достал смятые купюры. Трешки не нашлось, были два рубля и пятерка. Я протянул ему пятерку.
– Двух рублей сдачи не будет? – спросил я на всякий случай.
– Нет, не будет, – снова улыбнулся в усы харизматичный левак. – Ты знаешь что, ты деньги оставь себе, мне все равно по дороге было. А вдвоем веселее. Успехов тебе завтра, и позвони потом. Ладно? – В его голос снова вернулась задушевность.
Мне не хотелось выходить. Я пропитался теплом, тягучим, сладковатым запахом трубочного табака.
– Хорошо, – пожал я плечами и убрал пятерку обратно в карман.
– Ну давай, успехов, – кивнул он мне, когда я уже вылез из машины на терпкий, свежий, но теперь уже совсем не холодный воздух.
Я кивнул в ответ и проводил взглядом отъехавший автомобиль.
Я взглянул на карточку, наверное, первую визитную карточку, попавшую мне в руки. «Бодров Петр Данилович», ниже строчкой броским курсивом было выведено слово «адвокат», дальше адрес, номер телефона. Я засунул карточку в карман, так, на всякий случай, пусть будет.
Если честно, я мало что понял из того, что насоветовал адвокат Петр Данилович. То есть про магнитофон и про то, что Аксенова неплохо бы спровоцировать, чтобы он сорвался, я уловил. Но как он должен сорваться? Не перережет же он себе в истерическом припадке вены. Да и из окна во время собрания вряд ли сам выпрыгнет. И вообще, адвокатская мысль показалась мне какой-то неубедительной, слабой. Ну, хорошо, предположим, Аксенов не сдержится и наговорит что-нибудь опрометчивое. Что с того? Ведь главный вопрос – как мне вести себя на собрании, что говорить, как голосовать – так и остался без ответа.
Сейчас, когда я вновь подумал о завтрашнем собрании, у меня опять все внутри опустилось. Я медленно, считая ступеньки, спустился в подземный переход, плиточный пол был здесь покрыт черными расползающимися лужицами, перемешанными с такими же черными кусками полурастаявшего снега. Потом я вышел с противоположной стороны улицы Горького, двинулся в сторону Маяковки и скоро свернул в Мамоновский переулок, к ТЮЗу.
Я брел по инерции, не глядя по сторонам, только под ноги, повернул направо, затем налево, прошел по узкой, протоптанной в снегу, едва заметной тропинке между прижавшимися друг к другу, угрожающе нависающими в темноте громадами зданий, и сам не заметил, как оказался внутри квадратного колодезного двора, окруженного со всех сторон неправильными ни по форме, ни по высоте мрачными ребрами домов.
Маленький, даже сейчас, в темноте, тускло освещенный скверик с двумя занесенными снегом скамейками был испещрен мелкими собачьими следами и отпечатками ботинок. Сам не осознавая зачем, для чего, я двинулся к одной из них, проминая податливый снег; он принимал мои шаги недовольно, с крепким скрипучим сопротивлением, но все же принимал и сбивал пуховую мягкую подушку в прессованный, упругий настил. Я наступил на сиденье деревянной скамейки, она едва возвышалась над укутанной белым землей, провел рукой по узкой рейке спинки, смахнул с нее мягкую, податливую вату, присел.
Мрак утопленного в пенал двора, едва разбавленный электричеством освещенных окон, белеющее, сейчас кажущееся гладким полотно снега, тишина, переходящая в успокоительную безмятежность, заворожили меня. Я-то думал сосредоточиться, собраться с мыслями, решить, как мне поступать завтра. Но получилось наоборот – мысль отступила, ее место заняла отрешенность, будто сознание впало во временный анабиоз, оно воспринимало лишь один только снег, замкнутость тихого двора, мрачные, молчаливые, нависающие громады домов.
Скрипнула дверь, потом с глухим стуком ударилась о косяк, словно одиночный выстрел раскатился по двору, отразился от каменных стен, снова, усиленный вчетверо, сошелся посередине. Мужская фигура с двойной, непропорционально длинной тенью – одной, тщетно бросаемой тусклым фонарем, другой, от еще более тусклой, еще более желтой лампочки над подъездом – быстро пересекла двор. Мне стало интересно, заметил ли он меня, застывшего на скамейке в глубине лишенного света двора; если что-то и можно было различить, то лишь мой неподвижный силуэт, очертания, словно еще одна скульптура, установленная в еще одном безымянном сквере. Но он не обратил на меня никакого внимания, прошел по плохо расчищенной дворовой дорожке и, завернув за угол, перестал существовать.
Потом раздался еще один отраженный эхом скрипящий звук, я поднял глаза, на четвертом этаже женщина, видимо, встав на цыпочки – во всей ее фигуре читалась статическая напряженность, – пыталась открыть форточку. В ее устремленном вверх движении сошлись изящество и физическое усилие, в нем застыла эстетика женского тела, с трудом скрываемая небрежной, свободной домашней одеждой, уютом теплой, сухой, старой, еще дореволюционной квартиры. Я представил обои в длинную неброскую вертикальную полоску, круглый стол посередине комнаты, сахарницу с кусками белого угловатого сахара.
Я так и не опускал глаза, дом фасадной своей стороной желтел освещенными глазницами окон, как ни странно, их было совсем немного, я пересчитал – всего восемь желтых, притягивающих теплом и пульсирующей жизнью прямоугольников. Они поражали контрастностью и с холодным уединением двора, и с его мрачным, предоставленным только ночи, только небу одиночеством. Я попробовал представить, что происходит за желтыми стеклами, ту жизнь, которая мне, сидящему сейчас на скамейке, была недоступна. Где-то, наверное, жена кормила мужа ужином, она в халате, он в тренировочных штанах, в другой комнате дочь делала уроки, где-то смотрели телевизор, кто-то, возможно, занимался любовью – всего восемь освещенных окон, но они насквозь пропитаны манящей, вязкой, липнущей к телу жизнью. Во всяком случае, так представлялось мне, глядящему на них со стороны – с удаленной, не причастной ни к чему, ни к кому, безучастной стороны.
«Как сильно их наполненная заботой, любовью, мелочным бытом, иными словами, будущностью жизнь отличается от моей, – подумал я, – в которой ничего нет, ни цели, ни идеи, ни заботы. Абсолютное, бесцельное одиночество, в котором я каждый раз, будто следуя предначертанию, так или иначе оказываюсь. Потому и сижу в этом заброшенном дворе, что он более всего подходит мне своей холодной, неприкаянной безысходностью».
Мне стало печально, не то чтобы жалко себя, просто меланхолия накрыла своим мягким крылом. Я ощутил себя маленьким, ничтожным в этой бесконечности чужих жизней, чужих судеб, с которыми я даже не могу соприкоснуться. И в то же время, – я мысленно усмехнулся, – несмотря на собственное ничтожество, я-то ведь ощущаю себя эпицентром, вокруг которого вращаются галактики, планеты, время, прошлое, будущее, другие люди, их судьбы.
Как же загадочна человеческая природа – мы ничтожны, но при этом каждый из нас составляет мир, с которым связаны все другие, внешние, миры. И они, эти внешние миры, зависят от нас и существуют только благодаря нашему «я». Которое тоже бесконечно и которое присутствует в каждом человеке, даже в самом несхожем, несравнимым с тобой. А может, и не в «каждом», откуда мне знать про «каждого», возразил я себе. И согласился – не знаю.
Я так и сидел, смотрел то на освещенные высоко надо мной окна, то на свежий, едва тронутый, поврежденный чужими следами снег под ногами и пытался ухватить, казалось бы, простую, но почему-то заставившую меня заволноваться мысль. «Парадокс все же – полная ничтожность, тленность, временная и пространственная ограниченность и одновременно с этим абсолютное космическое величие, безбрежный эпицентр существования. Ведь на самом деле парадокс. Как такое может происходить?»
Я стал подмерзать, никакого смысла в сидении на скамейке не было, мне не удалось ни сосредоточиться, ни придумать что-либо на завтра – ни плана, ни даже намека на план. Я поднялся и сошел на землю, будто спустился с низкой ступеньки, и не спеша двинулся к дому.
Подъезд пахнул на меня сырым, перегретым, пропитанным то ли влажной штукатуркой, то ли затхлой половой тряпкой запахом. Кнопка звонка чутко отозвалась пронзительным, сразу перешедшим в дребезжание звуком. Я не ожидал такой резкой, бьющей по перепонкам вибрации и почти что испуганно отдернул руку.
Вскоре за высокой узкой дверью раздались неторопливые шаги, звук поворачиваемого замка – странно, но она даже не произнесла обычное «кто там». И тут я впервые осознал, что вот прямо сейчас, через мгновение увижу Таню. Даже не знаю, как объяснить, но ни когда я ехал в машине с псевдо-Галичем, ни когда брел по закоулкам Патриарших, ни когда бесцельно сидел на заснеженном дворе, я ни разу не подумал о ней. Не поднял, не выудил из памяти ни черт ее лица, ни очертаний тела, ни интонации голоса, не представил, ни как она меня встретит, ни что скажет, ни как я дотронусь до нее, ни как мы будем заниматься любовью.
И только когда она открыла дверь, и я увидел ее стоящую на пороге, и взгляд выхватил ее чуть опущенные, словно сглаженные плечи, ее светлую косу, гибким изгибом повторяющую изгиб груди. Только когда ее тело, прикрытое коротким халатиком, ее отточенное, будто вырезанное резцом тело с гордой посадкой головы, с почти что неестественно прогнутой спиной, развернутыми, словно приглашающими бедрами пахнуло на меня заждавшейся теплотой, запахом близкой, не прячущейся от глаз кожи, я почувствовал, как в груди что-то нервно щипнуло, сердце вскинулось, ударило, дыхание сбилось, и я попытался было улыбнуться, выговорить хоть что-нибудь, но не смог.
Она смотрела на меня тоже молча, и почему-то, то ли по разом затуманившемуся взгляду, то ли по сдавленному дыханию, по тому, как оно замешивало напряжением застывший на лестничной площадке воздух, я догадался, что она волнуется не меньше меня.
– Я так и знала, что это ты, – наконец произнесла она с какой-то искусственно игривой интонацией, будто хвасталась. И именно по вычурной ненатуральности ее голоса я понял, теперь уже наверняка, что она нервничает.
От ее волнения мое собственное волнение разрослось еще сильнее, я шагнул вперед, ей пришлось посторониться, чтобы я не смял ее прямо здесь, на пробитой сыростью и сквозняком, затоптанной, в мокрых разводах лестничной площадке.
Что разом, без остатка поглотило меня? Желание, страсть, похоть – только от одного ее замутившегося взгляда, от едва доносящегося, но мгновенно вскружившего голову запаха, от едва различимых звуков ее голоса? В английском языке есть подходящее слово «lust», его звучание уже само пропитано похотью и страстью, и неприкрытым, оголенным вожделением.
Дверь гулко хлопнула за спиной, отрезала от внешнего, ненужного теперь мира, я ухватился зубами за палец кожаной перчатки, стянул ее, пару раз сжал скованные морозом пальцы, только здесь, в тепле квартиры, я понял, что не на шутку промерз во дворе, и медленно, будто в священном ритуале, приложил ладонь к ее груди. И от сочетания несочетаемого – холода и тепла, грубости моей зимней одежды и невесомости ее халатика, замороженной жесткости ладони и упругой выпуклости груди, ее живой податливости. От всего того, что обычно опровергает, а тут совпало, мгновенно сложилось в единое целое, я полностью потерял земные ориентиры, растекся, растворился.
Я склонился к ней, уткнулся в тепло ее кожи, запах щекочущих волос, туда, в самое пересечение шеи и плеча, но она попыталась отстраниться, уперлась мне в грудь руками.
– Ты чего пришел-то?
Совершенно ненужный, бесполезный вопрос.
– Потому что соскучился, – ответил я так же ненужно, чужим, неузнаваемым голосом. – Безумно соскучился. Даже не могу сказать как.
И чем медленнее я выговаривал звуки, растянуто, почти по сбивающимся слогам, тем глубже зарывался в мягкую душистую складку у шеи. И все соединилось, сошлось в резонансе, а то, что еще пять минут назад беспокоило – одиночество, обреченность, подлость мира, – все разом подломилось на своих нестойких опорах и рухнуло, и было тотчас размыто.
– Постой, подожди. Пойдем, я тебя покормлю сначала, – попыталась проговорить она, но слитно у нее тоже не получилось. Я здоровой рукой смахнул халат с ее плеча, оно оголилось, тут же продлилось гиперболической линией груди, и я, обхватив Таню за талию, попытался приподнять, оторвал от пола, сделал несколько шагов в сторону комнаты.
– Перестань, тебе же нельзя, – вскрикнула она. – Не надо, я сама. – Она было сбилась, добавила: —….сама пойду.
Еще одна ненужная, бессмысленная и так понятная фраза.
Полное погружение, до самоуничтожения, до небытия. Будто тело, да и не только тело – сознание, душа, разум, все существо дезинтегрировалось, распалось, перестало существовать, выродилось в полое пространство, и его заполнило некое вещество, наверное, газ, но более плотный, тяжелый, чем воздух. И в результате не осталось ни материи, ни даже мысли – только перемешанная, сбитая, нервная, неразборчивая энергия. В ней не было ни начала, ни продолжения, какие-то редкие химические элементы метались, создавая цепные, то взрывные, вышибающие наружу, то, наоборот, впитывающие в себя, засасывающие внутрь реакции.
Я что-то шептал, что-то неразборчивое, бессознательное, наверное, про то, как хочу ее, как заждался, как немыслимы были эти двое суток без нее, без ее тела, запаха, влаги, вздохов. Я шептал, вкладывал звуки в ее разгоряченные, мокрые, жаркие губы, и если звукам удавалось складываться в слова, то случайно, ненамеренно, и тогда они становились добавкой, звуковой иллюминацией к сотворенному нами, наполненному лишь нашими смешавшимися телами пространству.
С ее губ тоже срывались не то всхлипы, не то стоны, слабые, бессильные, как зов о помощи, они оплетали тонкой, невесомой паутиной, пока она не стала крепкой и прочной, и я раскачивался на ней, и тонул, и проваливался, и не мог провалиться. Потом звуки отделились от дыхания, как две параллельные волны, – дыхание уплотнилось, стало душным, к нему прибавился хрипящий оттенок, тогда как стоны, еще более жалкие, лишенные жизни, воли, наслаивались плоскими, мутными, едва пропускающими свет пластами.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































