Текст книги "Магнолия. 12 дней"
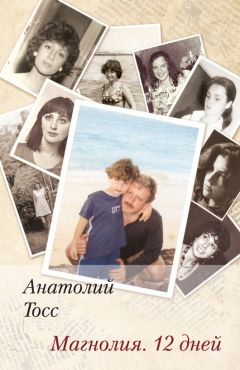
Автор книги: Анатолий Тосс
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 28 страниц)
– А я и не жалуюсь. – Я чуть наклонил голову, как бы рассматривая ее под другим углом. – У нас все просто, штаны натянул, застегнул, все, готов, можешь идти. А у вас целая система, сложная атрибутика, и главное, к ней все подключено – тело, сознание, рефлексы, сама ваша природа. Похоже, что вы вообще не очень человеки. Гуманоиды? Да, возможно, спорить не буду. Но на человеков вы не походите. – Она засмеялась, смех переливался. – В смысле, если за мерило «человеков» принимать нас, мужиков, – добавил я.
Она уже надела юбку, оправила ее, так, в колготках без туфель, подошла к раковине, там над ней висело зеркало. Откуда-то в руках появилась косметичка, помада, кисточки, длинные, короткие, толстые, тонкие, какие-то другие приспособления – в общем, для меня это становилось слишком сложным.
– Не волнуйся. – Она смотрела в зеркало то на свое отражение, то на мое, затем снова на свое. – Швы я тебе наложу вполне по-мужски. Даже не сомневайся. – Вдавила одну губу в другую, поводила ими, потом, наоборот, выпятила вперед, похоже, осталась довольна.
– Я и не сомневаюсь, – согласился я.
Она не обманула, я даже не почувствовал боли. Мила трудилась надо мной, теперь ее лицо переполняли сосредоточенность и напряженная концентрация. Лишь пару раз она отвлекалась, бросала на меня быстрый взгляд, как бы проверяя, жив ли, не страдаю ли чрезмерно, и, убедившись, что не страдаю, бросив мимолетную, почти дежурную улыбку, тут же возвращалась к своей тщательной, филигранной работе.
Да и в травматологии меня обслужили по высшему разряду – быстро, профессионально осмотрели, подтвердили, что с глазом все в порядке, а вот переносица сломана. Дали заключение, у них, похоже, процесс был налажен и выверен до мелочей. Милочка, конечно же, всюду ходила со мной, проводила без очереди, стояла рядом, как бы на страже, подтверждая мой сильно блатной статус.
Часа через два мы снова оказались в ее кабинете. Уже начало смеркаться, минут двадцать-тридцать, и станет совсем беспросветно темно.
– Так я сегодня и не поработала, – заключила врач Гессина с заметным сожалением. Но я себя виноватым не почувствовал.
– Ты же оперировала утром.
– Я еще и наукой должна заниматься. У меня всего восемь часов в неделю на науку.
– Да ладно, зато новый опыт обрела. – Она взглянула на меня с удивлением. – Кабинет свой медицинский размочила, – произнес я чересчур жизнерадостно.
– А-а-а… – спохватилась она. – Тоже мне опыт.
– Будешь тут сидеть, работать и вспоминать, – понадеялся я.
– Правда, – она помедлила, – вспоминать буду. – Снова подошла вплотную и на этот раз поцеловала меня, вернее, лишь дотронулась губами до губ.
Вопрос, куда ехать, решился сам по себе. На Ленинском она покормила меня обедом, мы выпили немного, потом, обнявшись, лежали на диване перед включенным телевизором, трогали друг друга, радуясь прикосновениям, – счастливая молодая пара во время вечернего отдыха. Вскоре, правда, от телевизора отвлеклись, стали заниматься любовью, совсем не так, как в кабинете, совсем по-другому, медленно, томительно, теперь уже растягивая время до невообразимых, не существующих в обычной жизни форм. И уже ближе к ночи, лежа в кровати, перед сном снова занимались любовью.
– Видишь, я свою функцию выполняю, – сказал я, окунаясь в привычно растекшиеся влажной голубизной глаза. – Может, и не каждые полчаса, но сексуальную насыщенность в своей жизни ты отрицать не можешь.
– Не могу, – прошептала она и совсем негромко, музыкально застонала. Музыкально и еще как-то уплотненно, словно каждая нота была до предела сжата последующей, спрессована ими в многослойный перенапряженный звук.
Заснула она почти сразу, обняв меня, перекинув руку через грудь, прижавшись, ногой обвив мою ногу. Я лежал, смотрел в потолок, боясь пошевелиться, ее голова на моем плече застыла, я даже дыхания не слышал. Спать не хотелось совсем. Хотелось встать, ступить босыми ногами по холодящему паркету, подойти к окну, взглянуть на ночной, по-прежнему заснеженный, по-прежнему залитый огнями Ленинский.
Прошло, наверное, с полчаса, мое тело стало затекать, даже не от неподвижности, а скорее от зудящего желания подняться, выбраться из сдавливающей, погруженной в сон комнаты. Наконец я решился, отвел в сторону Милину руку, выкарабкался из-под ее ноги, головы, удобно примостившегося ко мне тела. Как было приятно распрямиться, почувствовать долгожданное движение, я выскользнул из спальни, тихо прикрыл за собой дверь, она даже не скрипнула. Разбросанная одежда валялась на полу рядом с диваном, я отделил мужскую от женской, надел трусы, рубашку; от стекла большого, в полстены, окна отделялся холодный пласт воздуха.
Ленинский и вправду был заснежен и плавал в плотно сгущенном электрическом свечении. Машин было достаточно много, впрочем, еще и поздно особенно не было, где-то полдвенадцатого-двенадцать.
Сначала я подумал, что каждая из этих проскальзывающих внизу машин несет в себе чью-то судьбу, чью-то жизнь, надежды, переживания, прошлое, будущее. Возможно, чью-то любовь, чью-то печаль, которые я не могу ни узнать, ни разделить, только вот так проводить глазами. Вот была судьба – а вот и нет больше. И неизвестно, была ли на самом деле, неизвестно, будет ли.
«А моя судьба, моя жизнь? – подумал я потом. – Кто знает о ней, кому она важна? Да ладно, важна, кому вообще до нее дело? А если никому дела нет, то существует ли она вообще?» Как там в старой притче: «Упало ли дерево, если никто не слышал в лесу звука его падения?»
Ведь сколько произошло за эти последние дни, они просто сжались, спрессовались от насыщенности, как бальзаковская «шагреневая кожа», будто я целую отдельную жизнь прожил за две недели. Таня, Мила, сломанное ребро, Аксенов, снова Таня, Петр Данилович, разыгранное по нотам, словно инсценированное избиение, теперь вот еще сломанный нос, да и остальная разбитая морда. Хорошо, что ребро действительно не сместилось, я и не подумал, что оно может легкое проткнуть. Вот взял бы и помер на ровном месте от собственной дури и безрассудства. Обалдеть, конечно, вот стою, завороженно уставившись на Ленинский, растекаюсь мыслью по его накатанному, пропитанному желтизной, словно прокуренному полотну, а получается, что мог бы в морге сейчас отдыхать. Вот пойди загадай. Как там в сказке: «Налево пойдешь… Направо пойдешь… Ну, и прямо.» Только зависит ли окончательный выбор дороги от нас?
«Но я ж остался, – проскочили тут же поднявшие волнение слова. – Я-то ведь живой. Все, видно, так должно было случиться. А жизнь через меня не просочится.»
Слова толпились, спешили, догоняли одно другое, я даже не искал их, они сами поднимались откуда-то из глубины, будто давно уже там находились, отлеживались тихонько, набирались воздушной легкости, чтобы сейчас, именно в данное мгновение, оторваться от рыхлого дна и всплыть, и войти в этот ночной, раскинувшийся вокруг меня мир. Мне даже не требовалось их записывать, они мгновенно вживались в меня, как давно вшитая, но только сейчас сросшаяся ткань.
– Ты зачем ушел? Я не могу без тебя спать.
Я обернулся. После перенасыщенного электрической яркостью Ленинского темнота комнаты казалась кромешной, я с трудом мог разглядеть, откуда возник голос, лишь очертания, да и то призрачные, почти нематериальные.
– Послушай, – попросил я очертания. И начал читать, выделять из себя кусочки себя, кусочки ткани, один за другим, слово за словом. Они лились, единственно возможные, еще не проверенные на ритм, на размер, на звучание. Я читал, и слова все больше уносили меня за собой, забирали, отделяли от тела, видно, с каждым из них вырывалась тоже надсаженная, опухшая от перенапряжения душа.
Но я ж остался…
Я-то ведь живой.
Все, видно, так должно было случиться.
А жизнь через меня не просочится,
И рано уходить мне на покой.
Пускай отстанет кто-нибудь другой,
Мне рано, рано. Слышите, мне рано!
На мне отлично заживают раны.
И воздух, как всегда,
Пьянит меня ночной.
Мне показалось, что последние строчки я прокричал. С хрипом, с вызовом, страстно. И замолчал. Слова закончились, и наступила тишина.
Мила сделала несколько шагов, очертания окрепли, потом залились, наполнились объемом – оказалось трехмерное женское тело, едва прикрытое коротким шелковым халатиком.
– Это ты сейчас написал. – Она не спрашивала, скорее утверждала.
– Да я и не писал даже, – пожал я плечами. – Само возникло. Как часть меня. – Я помолчал, подумал. – Ты не говори ничего, понравилось, не понравилось. Это не имеет сейчас значения. – Я снова замолчал. Я знал, чувствовал, но не мог найти объяснения, даже не для нее, для меня самого. – Хорошие ли строчки, плохие ли. Или, может быть, наивные, слишком юношеские, перенасыщенные романтикой. Или, например, напоминают какие-то другие, чужие. Все это не имеет значения, – снова попробовал разобраться я. – Главное – энергетика. В них моя энергетика. Понимаешь, не мысль, даже не чувство, не призыв, не гимн, а моя суть. Эти строчки – моя жизнь, я выражен ими. Они выражены мной.
– Прочитай снова, пожалуйста. – Она сделала еще один шаг ко мне, но всего один.
Я снова стал читать, уже спокойнее, расставляя паузы, ударяя интонацией на отдельные слова, только сейчас впервые вслушиваясь, вникая сам.
– Ты все же странный, необычно странный. – Она покачала головой, словно сомневаясь, словно не веря себе. – В тебе столько всего намешано. Я даже не знала, что так бывает. Ты и любовью так же занимаешься.
Меня словно током ударило. Мне показалось, что совсем недавно я уже слышал то же самое. Где, когда, от кого? Я не помнил точно. От Тани? От кого еще я мог слышать, если не от Тани? Или мне кажется, просто дежавю такое, или как оно там называется.
– Как? – все же задал я вопрос. – Как я занимаюсь?
– Как ты сейчас прочитал. Напор, и в то же время ранимость, и, как ты сказал, энергетика. И другое, много другого, чего нельзя разобрать. И все перемешано. Такой вот водоворот. – Она говорила, я с трудом различал черты ее лица. Мистика какая-то. Может, мне вообще все мерещится? – И я в него, в этот водоворот, похоже, угодила.
Наверное, надо было что-нибудь сказать в ответ, но я не сказал ничего.
– Ну что, спать ты больше не хочешь? – догадалась Мила.
– Да я и раньше не хотел, – признался я.
Вставка шестая
Стилистика
Сегодня утром Мик категорически отказался просыпаться. Да оно и понятно, вчера я угрохал не меньше часа, чтобы загнать его в постель. К каким хитростям он только не прибегал, затягивая время, – то еще пять минут, то еще две, самые последние: «Ну хорошо, дай мне досмотреть фильм до следующей рекламы, и тогда я пойду чистить зубы». Таким образом он дотянул до десяти, а вот сейчас, в семь утра, не может оторвать голову от подушки.
Я попробовал, как всегда, растолкать, поднять на руки его уже тяжелое, налитое тренированными мышцами тело, но оно безжизненно, даже не сопротивляясь, повисло на моих руках. И я сдался. В конце концов, почему из-за каких-нибудь бессмысленных часа-двух школьных занятий мой ребенок должен мучиться и страдать?
«Ладно, поспи еще два часа», – сжалился я и опустил тело обратно на кровать. Мик благодарно что-то простонал и затих в ровном, безмятежном блаженстве. «Правильно, пусть поспит», – снова подумал я, вглядываясь в сразу расслабившееся лицо сына. Тут же и мое лицо расслабилось – легко, что ли, каждое утро притворяться твердым и тупо принципиальным и терзать собственное дитя невозможно ранним пробуждением?
Поэтому в школу я подвез его к десяти, снабдил запиской, извещающей учителя, что Мик утром был на приеме у дантиста. Неправильно, конечно, непедагогично приучать ребенка к мысли, что папа тоже умеет обманывать, но что поделать.
– Давай, малыш, – как всегда, напутствовал я его, когда он выскочил из машины.
– Спасибо, пап. – Он просунул голову в открытое окно, чмокнул меня в щеку.
Хоть ценит, подумал я. Со временем, конечно, сотрется и такая мелочь, как сегодняшние утренние два часа дополнительного сна, как и сегодняшнее утро, как вообще весь прожитый год, как и само детство. Ну, может быть, не полностью сотрется, но сгладится, и из полотна памяти вытравятся временем отсчеты, отметины, казалось бы, значимых событий. Они важны лишь сейчас, а вскоре будут важны другие, но только до тех пор, пока им на смену не появятся новые. Так было со мной, так происходит со всеми, так будет и с Миком.
Впрочем, ничего страшного в подобной забывчивости нет. Главное, чтобы оставалось общее ощущение счастливого детства, юности – такой монолитный, фоновый тон, наполняющий всю жизнь уверенностью, подстраховывающий надежным, проверенным тылом прошлого. А детальные причины, конкретные доказательства этого ощущения не так уж и существенны.
Нам всегда кажется, что самое главное с нами происходит именно сегодня, но «сегодня» плавно ползет по нашей жизни с неизменностью времени, оставляя за собой «вчера» и не задумываясь о «завтра». И мы всегда оказываемся в нем, в постоянном, непрекращающемся «сегодня». А значит, и «вчерашнее сегодня», и «завтрашнее сегодня» не существенны, они нивелируются, уцениваются. Так устроено человеческое восприятие жизни.
А потому не надо ожидать от детей будущей благодарности, живем-то мы не ради нее, а ради сегодняшнего, ими даруемого нам счастья. А как долго продлится это счастье в дальнейшем – разве это имеет значение в плавно текущем, сиюминутном «сегодня»?
Вот и Мик не поймет никогда, как было папе непросто воспитывать его одному, сколько потребовалось откромсать от себя, пожертвовать, как болезненно пришлось поломать структуру жизни, привычки, даже характер. Не поймет, не оценит. И правильно сделает. Потому что папа откромсал и пожертвовал, если честно, не ради него, Мика, а ради самого себя. Потому что жизнь, ставшая с возрастом разреженной, потребовала искусственной уплотненности, наполненности извне. Иными словами, так называемые тяготы одинокого отцовства никакими тяготами не являются, а наоборот, один сплошной, ни с чем не сравнимый кайф. Ведь только вместе с ними появился хоть какой-то, пусть и временный, но смысл. Вот чем, оказывается, определяется основа специфического родительского эгоизма.
Лора, девушка в кафе, удивляется, отчего это я сегодня появился с двухчасовым опозданием.
– Я вас ждала, как всегда, в начале девятого, – улыбается она, и мне кажется, что ее улыбка снова вышла зарамки стандартной здесь доброжелательности.
– Сын крепко спал, я не осмелился его будить. Мне показалось, что, если я разбужу, я нарушу что-то очень важное. Смотрел на него, знал, что пора, но не смог заставить себя.
Она глядит на меня во всю ширину светлых, широко открытых, будто удивленных глаз, отсвечивающая позолотой прядь выбивается из-под заколки, высокая грудь, крепкие ноги – типичный образец «новоанглийской» девичьей красоты, кровь с молоком, так и дышит налитой молодостью, даже взгляд отскакивает. Я и забыл, что такое бывает.
Я вообще запутался в своем возрасте, не осознаю его полностью. Я уже не знаю, могу ли нравиться молодым женщинам, имею ли право? Даже если проскакивает искра, даже если улавливаю призыв, я не проявлю инициативы первым. Не то чтобы пошатнулась с годами уверенность, вовсе нет. Скорее боюсь показаться смешным, даже не в глазах девушки, а со стороны. Будто сам наблюдаю за собой и морщусь от бросающегося в глаза несоответствия – седеющий, явно вышедший за пределы юности мужчина пытается с усилием разжать эти пределы, чтобы заново, теперь уже посредством чужой юности, втиснуть себя в них.
Хотя, возможно, все это комплексы затворнического существования, дефицита общения. Я же говорю, я запутался в своем возрасте, какой-то он у меня переходный, откуда-то уже вышел, куда-то еще не дошел.
– У моей сестры… – Лора пытается поправить выбившуюся прядь, но почему-то та еще больше рассыпается по лицу. – У меня есть старшая сестра, у нее тоже мальчик, только помладше вашего, и он заикается. Она так измоталась, по каким только врачам его не водила…
– Заикание, по-моему, лечится гипнозом, – предполагаю я. – Есть такой фильм старый, «Зеркало» называется. Вы не знаете, но в России был известный режиссер Тарковский, он потом во Франции жил. Там фильм начинается с документальных кадров, как мальчика, который заикается настолько сильно, что, по сути, не может говорить, приводят к врачу-гипнотизеру Тот усыпляет мальчика, а затем произносит такой текст… – Тут я сморщил лоб, сдвинул брови, как по моему представлению должен был сдвинуть их гипнотизер, и проговорил лишенным всяких интонаций, заупокойным, голосом, тоже как, на мой взгляд, полагается гипнотизеру: – Ты сейчас проснешься и будешь говорить легко и свободно. Легко и свободно. Слова польются из тебя без всякого труда. Легко и свободно.
Наверное, со стороны я выгляжу комично-придурковато, немолодой дядечка корчит рожи и вещает утробным голосом, хорошо еще, что в кафе нет ни одного посетителя. Правда, Лора смеется в голос, смех звонкий, непосредственный, из него так и сочится наивность.
– И в самом деле, – заканчиваю я передразнивать гипнотизера. – В фильме, вернее, в документальных его кадрах, когда мальчик просыпается, он начинает говорить совершенно чисто, без малейшего намека на заикание.
– Надо же. – Лора снова поправляет прядь на лице, но снова безуспешно. Та распадается на еще более мелкие пряди, набегает на глаз. В лице тотчас проступает нечто дикое, животное, сексуально-таинственное. – А я никогда русских фильмов не видела. Никогда в жизни.
Я выдерживаю паузу. Намек или нет? Поддаться на него или еще выждать? Решил выждать.
– У меня есть русские фильмы на дисках, некоторые с английскими субтитрами. Я бы вам их дал, но они в другом формате записаны, в европейском, для того, чтобы их смотреть, нужен специальный плеер. – Я не уверен, что говорю правду про «плеер» и «формат», но имеет ли это сейчас значение?
– Ау вас он есть?
– Кто? – не понимаю я. Или делаю вид, что не понимаю.
– Плеер?
– Ну да, конечно.
– Так давайте у вас посмотрим.
Я вглядываюсь в ее лицо, ни волнения, даже щеки не зарумянились, сплошная кристальная наивность, абсолютно во всем. Оттого и милая, завораживающая, ее так легко спутать с чистотой.
– Конечно, я буду рад. Я кладу Мика в девять спать, в полдесятого он засыпает. Приходите к десяти, здесь совсем недалеко.
– Я знаю, – неожиданно говорит она.
Надо же, знает. Откуда бы?
Я выхожу на улицу, «Мустанг», шурша колесами, тащит меня триста метров вперед, останавливается там, где на самой вершине горки неожиданно открывается панорамный вид на океан, на все двести семьдесят с трудом вмещающихся в глаз градусов.
«Надо же, – думаю я, щурясь, привыкая к мельканию несчетных солнечных водяных зайчиков, – кажется, сегодня я размочу свое монастырское заточение. Ей года двадцать два, двадцать три, я и не помню, как отзывается молодое женское тело. Рецепторная память полностью вытравилась с годами».
Тут же мысль прыгает в сторону: а не вставить ли только что произошедший с Лорой разговор в книгу? Хотя… не перенасыщу ли я сюжет «Магнолии» женщинами? Ну ладно, в девятнадцать лет это еще понятно, тогда жизнь ими в основном и определялась. Но нужно ли выхваченную из другого времени, из другой перспективы женщину вводить в действие?
А почему бы и нет, возражаю я сам себе. К тому же и действия пока никакого нет. Да и неизвестно, будет ли. Только сцена должна быть сжатой, сдержанной, без излишних описаний, на страницу, не больше. Во-первых, «вставки» вообще краткие, но не в объеме даже дело. Главное, чтобы сухость и сжатость «вставки» оттеняла многословную, эмоциональную стилистику основного повествования.
Мысль скачет снова. Почему я пишу именно так – многословно, порой вдаваясь в подробности, в, казалось бы, несущественные детали? Ведь основное назначение слов прежде всего в том, чтобы передать смысл, логику действий.
Но и не только… Если удастся пробиться через их однозначную сухость, слова могут вылиться со страниц и заставить читателя ощущать – слышать, видеть, обонять, даже осязать. И если такое произошло, пусть не со всеми, не всегда, пусть с некоторыми, лишь только с одним – значит, удалось сотворить чудо.
Приведу очень простой, короткий пример[15]15
На полноценный, подробный пример потребовалось бы значительно больше страничного объема.
[Закрыть]. Скажем, сцену расставания можно описать следующим образом:
«Алла стояла у плиты, когда дверь отворилась и в кухню вошел Вадим.
– Привет. – Она подошла к любимому, подставила губы. – Сейчас будем обедать. – Она заглянула ему в лицо, нахмурила лоб. – Что-то случилось? – догадалась она.
– Алла, нам надо расстаться. Мне срочно надо уехать, – угрюмо проговорил Вадим.
Слезы выступили у Аллы на глазах, полотенце выпало из рук.
– Надолго? – только и сумела спросить она.
– Пока не знаю. Наверное, надолго. – Вадим тяжело опустился на табуретку.
– И когда ты уезжаешь? – спросила Алла, с трудом сдерживая слезы.
– Прямо сейчас. – Вадим встал, подошел, обнял, поцеловал в губы. – Я зашел попрощаться.
Алла опустила голову, отошла к плите.
– Ты мне хотя бы позвони или напиши, – прошептала она».
…И так далее.
Нормальная, добротно описанная сцена, правильно и динамично определяющая действие, его семантическое построение. Читатель отлично понимает, что происходит, – герой уезжает, героиня расстроена, как долго продлится разлука, неизвестно.
Но ведь возможно и иное описание. Что, если вдруг запахнет борщом, греющимся на плите, и духота летнего дня затянет испариной лоб? Что, если Аллин сорванный, короткий крик зазвенит в ушах, и ее печаль станет твоей печалью, и ты вдруг проживешь часть ее жизни? Пусть маленькую, не самую счастливую, но незнакомую тебе, волнующую. Вот тогда совершится волшебство, произойдет подмена личности, смешение судеб, обман природы – время остановится, пространство откроет недоступные прежде измерения. Жизнь перестанет быть однозначно прямолинейной, она раздвоится, расслоится, как расплетенный на веревочные жгуты канат, и наградит выбором.
Слова могут все. Ведь недаром же «сначала было слово». Ни движение, ни музыка, ни звук, ни видение, ни даже мысль, а слово. Просто надо уметь их слышать. Как в музыке есть «слухачи», блаженствующие от мелодии, так есть и «слухачи» слова, которых музыкальное сочетание фраз может приводить в восторг. И они погружаются в них, как ныряльщик в теплые воды тропического моря, и наслаждаются глубинной красотой, и выныривают только для того, чтобы погрузиться снова.
Вот и моя задача, как писателя, создать именно такую стилистику, которая, не удержавшись на страницах книги, выплескивается, заполняет все пределы, уводит читателя, внедряется в него, переводит процесс чтения с уровня логического восприятия действия на уровень ощущений, подключения органов чувств. Создает параллельную, альтернативную действительность, которая вбирает, затягивает в себя.
Конечно, постоянно добиваться такой плотной насыщенности текста невозможно, да и не нужно, перегруженный текст – не достоинство, скорее недостаток. Но пусть «эффект читательского присутствия» случается хотя бы иногда, хотя бы с кем-то.
Ради того, чтобы он возник, я готов на все, готов «пуститься во все тяжкие». Взламывать традиционные стилистические устои, нарушать правила грамматики, измываться над академическим стандартом, гнуть его до предела – главное, создать ту единственную мозаику, найти то уникальное сочетание, которое создает у читателя ощущение причастности. В данном случае цель оправдывает любые средства. Ведь слова гибки, гибче людей, особенно в русском языке, который, кажется, и создан для постоянного развития, дополнения, эволюционной динамики.
Мерное колыхание океана все еще завораживает, манит, но меня уже гложет нетерпение. Мне пора домой, к моему кухонному столу, к моему маленькому «лэптопу», успеть записать, пока не отвлекся, пока океан не выветрил, не разбавил… Я несильно утапливаю педаль газа и двигаю машину сквозь густой, промасленный воздух – у меня осталось еще два с половиной часа для работы.
_____________________________________
Утром я снова нашел на кухонном столе записку, она тоже, как и предыдущая, заканчивалась словом «целую». Зашел в ванную, долго разглядывал свое лицо, за ночь цветовая гамма сдвинулась, стала сочнее, налилась краской. Я поморщился, подумал, что еще и родителям придется объяснять происхождение сильно побитого лица. А как объяснить, чтобы они не волновались?
Потом залез в душ, долго отмокал под живыми, теплыми струями. Отплевываясь от заливающей воды, сначала невнятно, сам не сознавая, начал произносить вчерашние строчки – они так и засели в сознании.
Но я ж остался,
Я-то ведь живой…
Все, видно, так должно было случиться.
А жизнь через меня не просочится,
И рано уходить мне на покой…
Голос окреп, вода уже не мешала, слова, перемешиваясь с ней, вылетали вместе с брызгами, накатывались, отражались от кафельных, акустических стен, возвращались, усиленные, ко мне.
Пускай отстанет кто-нибудь другой,
Мне рано, рано. Слышите, мне рано!
На мне отлично заживают раны,
И воздух, как всегда,
Пьянит меня ночной…
Звук внезапно оборвался, теперь наполненное лишь мягким шорохом воды пространство ванной казалось осиротевшим.
– А ведь я ошибся вчера, когда сказал, что эти строчки не гимн, – проговорил я почему-то вслух. – Это гимн, мой гимн. И я пронесу его через жизнь. Должен пронести.
На этой патетической ноте я выключил воду, вылез из ванны, обмотался полотенцем и пошел завтракать. А где-то через час, обсохнув, поев, прослушав по радио новости, я позвонил по телефону.
Я думал, она не подойдет, просто был уверен. И позвонил-то только для того, чтобы потом сказать, что звонил, – все-таки какое-никакое, но алиби. Но она подошла, подняла трубку.
– А, это ты, – произнесла Таня скучным, совершенно вялым, без интонаций голосом. Можно было бы сказать, «бесчувственным», «безразличным», но перечисление прилагательных все равно не передаст его равнодушной отрешенности. Казалось, что голос проходит сквозь толстый слой ваты и, проходя, теряет, оставляет в нем все свои живые клетки, все бьющиеся, пульсирующие частицы. Словно Таня спала, звонок ее разбудил, и, как только она повесит трубку, снова тут же заснет.
– Чего ты не в институте? – спросил я, стараясь, наоборот, звучать бодрячком.
– А… – Она будто не слышала меня, будто вата омертвляла не только ее голос, но и мой тоже. – Не пошла, – все же выдавила она из себя.
– Чего? – делано удивился я.
Опять пауза, похоже, каждому моему слову требовалось время, чтобы пробиться к ней.
– Неохота было. – И замолчала.
Я понимал, что пришло время оправдываться, по всем правилам полагалось.
– Слушай, ты извини, что я вчера не пришел. Так получилось.
– А-а-а, – протянула она.
– Я хотел, но знаешь, такое произошло. – Я пытался своим бодреньким голосом выбить ее из этого аморфного, амебного состояния. – Ты будешь долго смеяться. – я снова выдержал паузу, – но меня вчера жестоко избили.
Я думал, что ее хотя бы эта новость оживит. Ну, если не сама новость – то как я ее подал. Но ни новость, ни подача Таню не оживили.
– Нет, не буду смеяться. – Вата снова приглушила, сгладила, выродила модуляцию в скучную, ровную прямую. И снова молчание.
– Ты бы меня видела сейчас, я разукрашен до неузнаваемости, – сказал я почти хвастливо. – Ты бы меня не узнала. А самое неприятное, что нос переломали. Он у меня теперь отрасти должен. – Хотел добавить, «как у Бурати-но», но вовремя спохватился, у того вроде бы нос рос от вранья. Или это у Пиноккио?
– Жалко. – Но жалости в голосе слышно не было. Вообще ничего не было.
– Я бы приехал, но меня в больницу отвезли. В травматологическое отделение. – Тут я подумал, что она наверняка звонила мне домой, проверяла. Пришлось снова соврать.
– Меня в ней на ночь оставили. Боялись, как бы заражения не было. Я тебе с этажа сейчас звоню, здесь у них телефон на этаже.
Я ждал реакции, все же слово «больница» должно было подействовать. Но не подействовало.
– А-а-а, – снова раздалось равнодушно из трубки.
– Но сегодня меня выпишут. Вроде бы все в порядке, инфекции нет. Перебитый нос есть, лицо пострадавшее тоже есть, но без инфекции, – снова постарался я вызвать жалость.
– А магнитофон у тебя? – вспомнила Таня про магнитофон, но тоже без особого интереса.
– Да, все с магнитофоном в порядке, – заверил я. – Хрюндика твоего не били. Били только меня, технику не трогали. Завтра я тебе его привезу. Сегодня домой, к родителям заеду, а завтра к тебе. Хорошо?
– Ага, – согласилась она без какого-либо заметного энтузиазма.
– Только, боюсь, ты меня не признаешь, – снова постарался пошутить я. Снова неудачно.
– Чего? – Если вата и пропустила слова, их приблизительное звучание, то смысл, похоже, притупила полностью.
– Я сильно изменился после избиения. Особенно лицом, – сделал я последнюю попытку.
– Ну да, – протянула она скучно.
Все, я больше ничего сделать не мог. Даже меня заразила ее обреченность.
– Хорошо. – снова протянула она и остановилась на многоточии.
– Хорошо, – согласился я. – Я завтра тебе позвоню и заеду.
– Ага. – Пауза. Я не стал ее заполнять. – Ну, давай.
– Давай, – только успел ответить я, и она повесила трубку. Я послушал отрывистые, короткие гудки, даже от них шла вялая, безжизненная тоска.
«Надо же, как бывает», – произнес я вслух и помотал головой, как бы стараясь стряхнуть с себя насевший гнусноватый осадок. Потом помотал еще, туда-сюда, влево-вправо, и вроде бы стряхнул.
Машины на Ленинском останавливаться не желали, минут двадцать я топтался с поднятой рукой, даже подмерз немного. Но не пользоваться же с такой рожей общественным транспортом, не пугать же ею добропорядочных пассажиров Московского метрополитена имени В.И. Ленина. Впрочем, и у таксистов, не говоря уже про частников, моя физиономия не вызывала особенного доверия. Пару раз машины было притормаживали, но, подъехав поближе, снова набирали скорость, пробуксовывая стертыми шинами на скользком, раскатанном настиле.
Наконец остановился побитый «москвичок», молодой парень с аккуратно подстриженными усами лихо рванул автомобиль, тот было занесло, зад вильнул, но ловкий водитель, крутанув рулем, тут же выправил машину.
– Чего с лицом-то? – конечно же, поинтересовался он, бросая на меня любопытный взгляд. – Кто тебя так?
– Да я боксом занимаюсь, – пожал я плечами. – В «Динамо». Позавчера на тренировке моего спарринга не было, так мне чувака выделили, он меня на два веса тяжелее. Вот и разукрасил. Тренер вовремя не остановил. Ну а мне самому как-то не с руки было, – создал я с ходу еще один сюжет.
Парень усмехнулся.
– В какой категории боксируешь?
Детали весовых категорий я никогда специально не изучал.
– В средней, – выбрал я самую подходящую.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































