Текст книги "Полигон"
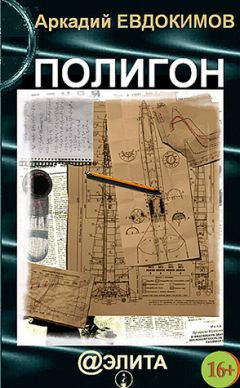
Автор книги: Аркадий Евдокимов
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц)
Несчастный случай
Стоял то ли август, то ли июль к концу подходил. Словом, ночами прохладненько уже на улице становилось. Меня вместе с двенадцатью инженерами на пару недель отправили оказывать шефскую помощь колхозу. Разместили нас в двух давно брошенных домах, плотно заставленных скрипучими кроватями с панцирными сетками. Мы – молодые специалисты в большинстве – работали на поле, то на прополке, то на покосе, то грузчиками.
В этой деревне я встретил Данилыча, чего уж никак ожидать не мог. Надо же такому случиться, что подшефным колхозом именно нашего подразделения КБ оказалась деревня Михайлово, та самая, где он живёт! Да, собственно, и не во встрече дело, а в том, что с нами тогда приключилось. Данилычу вообще везёт на всякие происшествия, в том числе и с травмами – у него талант оказываться в месте событий. Да он и сам порой бывает инициатором передряг.
Так вот. Однажды Данилыч собрался на покос, а я напросился с ним, больше из озорства, захотелось научиться орудовать литовкой, ну и плечи поразмять заодно. Со мной изъявил желание пойти Мишка, ведущий инженер из шестой лаборатории. Данилыч, разумеется, возражать не стал, решив, что две пары рук, пусть неумелых, в тягость не будут.
Вышли мы как положено, засветло, чтобы косить по утренней росе. Брели по бодрящей прохладе, в оглушительной тишине, забросив на плечо косы-литовки. Данилыч нёс ещё и котомку со снедью. С утра – ни ветерка, деревья стоят, не шелохнувшись, и запах стоит свежий, умытый, дурманящий. Шли мы недолго – минут двадцать, солнце к тому времени уже выглянуло из-за горизонта.
Покос у Данилыча – на неудобице, на склоне, где тракторная косилка не справится. А внизу тянется по насыпи новенькая дорога, ведущая в райцентр. Асфальт уложили в прошлом году, из-за насыпи низинка заболотилась, и вдоль дороги протянулась чёрная лужа шириной метров десять-пятнадцать, а длиной – все полтораста. Из грязной воды торчат пни, коряги, кочки, обломанные стволы полусгнивших берёз, а кое-где и сами берёзы, без листвы, неживые. Чёрная вода стоит ровная, как зеркало, и в ней отражается вся эта живописная и жутковатая картина.
На склоне стоял прошлогодний стожок сена, возле него мы устроили короткий привал. Данилыч сбросил котомку, подстелил старенькое покрывало и принялся оселком точить наши косы, покуда мы с Мишкой перекуривали. Шелестящий звук от оселка далеко отдавался эхом. Я курил, смотрел, как поднимается туман над тайгой, и думал, что в деревне жить куда лучше, чем в городе – и веселее, и спокойнее. И – красивее.
Данилыч закончил доводить литовки и взялся за косьбу. Мы – за ним, глядя как он работает и потихоньку приноравливаясь к непривычной работе. Не сразу, но всё же стало получаться, и дело пошло на лад. Прокосево он взял широкое, шире моего, но всё равно – угнаться за ним оказалось непросто. Однако разошёлся я помаленьку, руки к литовке попривыкли, и начал Данилыча поджимать сзади. Мишка сперва совсем отстал, а потом ничего – в ритм вошёл.
Часа через три, когда солнце уже начало припекать, приехал трактор, старенький гусеничный ДТ-54, и привёз бригадира и ещё одного человека, незнакомца, по имени Семён. Мужики были отчаянно пьяные, то ли уже, с утра, то ли всё ещё, с вечера. Данилыч воткнул литовку древком в землю, ушёл к ним и долго разговаривал, надо сказать, совсем не без эмоций – размахивал руками и брызгал слюной. Потом выволок Семёна из-за рычагов за шиворот и пинками погнал прочь. Семён побежал к стожку мелкими шажками, смешно приседая при каждом пинке. А бригадир остался в тракторе – заснул под мерный стук дизеля. Нет, наверное не так уж и хорошо жить в деревне.
Данилыч вернулся рассерженный и взялся за работу так зло, с таким напором, что я сразу от него отстал. Часа через полтора вся поляна была выкошена. Данилыч закончил первым, и, сбегав к стожку за пожитками, по хозяйски устроился под берёзкой, разложив на газетке завтрак на троих. Мы с Мишкой докосили остатки и присоединились к нему.
Пока мы жевали варёные вкрутую яйца и зелёный лук, обмакивая его в насыпанную горку соли, заедали мягким душистым хлебом и запивали холодным молоком, внизу что-то изменилось. Я даже не понял, что именно: тайга стояла неподвижно, дорога – пуста. Но всё же что-то стало не так. Я завертел головой, силясь понять, в чем дело. Наконец, до меня дошло: изменился звук. К монотонному тарахтению ДТ-54 добавился новый шум, более натужный и глухой. Данилыч заглянул мне в глаза и сказал:
– И ты услыхал? Надо же, городской – а приметил… Это Колька едет, наверное. Из центральной усадьбы возвращается. Минут через пять и покажется, во-о-он оттуда, – и луковым пером показал место, где едва виднелась сквозь заросли кривая глубокая колея.
И точно: вскоре оттуда вынырнул трактор, колёсный МТЗ, вроде «Беларуси». Был он изумительно грязен, заляпан высохшей глиной, навозом, цементом и прочими сельскими почвами до самого верха. Крыша – и та была покрыта толстым бурым слоем. Цвет, в который он был покрашен, определить не представлялось возможным. И только на ветровом стекле прошкрябана была проплешина, размером в две ладони. Очевидно, для обзора. Трактор тянул за собой пустую четырехтонную тележку, такую же грязную, как он сам. Дотарахтев до насыпи, МТЗ бодренько взобрался на неё и поехал по диагонали через шоссе в нашу сторону. На асфальте за ним мокрый след, украшенный объёмистыми комьями жидкой грязи.
И едва он выехал, отчаянно виляя, на самую середину шоссе, из-за поворота, вся в мигалках, выскочила гаишная «шестёрка». Летела она на приличной скорости, явно за сотню. Дорога была неширокой, и трактор с прицепом перегородил её полностью. Гаишникам деваться было просто некуда – не объедешь. С визгом и с дымом, отворачивая вправо, за тележку, водитель «шестёрки» умудрился-таки избежать лобового удара, объехал тележку сзади. Но крылом и, кажется, передней дверью всё же зацепился за какую-то торчащую железку. Два гаишника выскочили из машины и бросились догонять неспешно едущий трактор. И – опоздали! МТЗ всеми колёсами уже въехал в чёрную заболоченную лужу и продолжал себе ползти дальше, затаскивая за собой и тележку. Гаишники, однако, не растерялись и успели один за другим запрыгнуть в тележку. Неожиданно трактор круто повернул и, резко прибавив прыти, помчался, разбрызгивая грязь, по луже, параллельно шоссе. Прямо по кочкам, по пням, по корягам, по стволам. Как он подпрыгивал! Порой передние колёса целиком оказывались в воздухе, порой – полностью исчезали то ли в брызгах, то ли в воде. А тележку мотало так, что смотреть было просто страшно. Швыряло её вверх-вниз и из стороны в сторону с бешеной силой. Тележка живо напоминала игрушечную машинку, которую по булыжной мостовой тянет на верёвочке бегущий во весь дух мальчишка. И как она не перевернулась вверх ногами – ума не приложу. Гаишникам в скользком, обитом изнутри железом кузове пришлось несладко. Сначала они пытались удержаться, хватаясь за что попало, а потом уже просто катались по полу, ударяясь о все борта и друг о друга, а порой достаточно высоко подпрыгивая. Лица у них стали красными, то ли от натуги, то ли с испуга, то ли со злости. А может, и от всего одновременно. МТЗ доехал почти до ближайшего к нам края лужи, лихо развернулся и помчался в обратную сторону.
– Ну, Колька… Изматывает противника, – философски заметил Данилыч. Я посмотрел на него: Данилыч сидел абсолютно спокойно, скрестив по-турецки ноги и курил, щурясь сквозь дым, неизменную «Приму».
Трактор меж тем резко сбавил ход и пополз со скоростью пешехода. Заднее окно его приоткрылось, образовав в нижней его части широкую щель. Из щели высунулась крепкая волосатая рука и начала совершать круговые движения, будто человек искал что-то вслепую. Наконец, рука нашла какую-то верёвку, ухватилась за неё и потянула. Верёвка, конечно же, была привязана к пальцу, тому самому стальному стержню, которым дышло прицепа крепилось к трактору. Трактор ехал медленно, переваливаясь с боку на бок на кочках, да и тележку болтало, и палец помаленьку начал подаваться, пополз вверх. Гаишники уже стояли на ногах, присев, держались за передний борт и что-то кричали. Один из них весьма воинственно размахивал полосатым жезлом. Другой, кажется, полез в кобуру. И тут палец выскочил! Трактор рванул вперед, выехал из лужи и, проскочив мимо нас на полном ходу, скрылся за пригорком. А прицеп так и остался стоять посреди лужи, на хорошей глубине – колёса почти целиком утонули в грязной жиже.
– Во даёт! – одобрительно прокомментировал Данилыч, – Сейчас отмоет трактор на ферме из шланга, поставит возле дома на пригорочек, и – я не я, хата не моя.
Данилыч поднялся и пошёл, прихрамывая на правую ногу (ох, отсидел!) к мирно почухивающему мотором ДТ-54. Он растолкал спящего бригадира и что-то стал втолковывать ему, показывая рукой на гаишников, вопящих посреди болотца в своей тележке. Бригадир немного поартачился, но вскоре согласно мотнул головой и покатил трактор вниз, на выручку. Но, проехав метров тридцать, круто развернулся и погнал вверх, на холм, с максимально возможной скоростью (если мне не изменяет память, 9 км/ч). Увидев такой оборот, один из гаишников принялся стрелять.
Мы невольно обернулись к тележке. Тот инспектор, что был пониже ростом и потолще, а, стало быть, поглавнее, палил из табельного «макарова» в воздух и что-то яростно кричал.
Неожиданно позади нас тоже раздался крик. Громкий, истошный, страшный. Мы оглянулись. Стожка на месте не было – сено разбросано неровной полосой по холму. Трактор, с крыши и капота которого клочьями свисало сено, бодренько перемещался прочь. А из остатков стожка поднялась фигура Семёна. Всё так же крича, он развел руки в стороны и рухнул навзничь. Мы рванулись к нему.
Семён лежал лицом вниз, рядом с ним валялась засаленная ушанка. А на голой его спине, из-под задравшейся фуфайки были видны чётко отпечатавшиеся следы траков.
– Переехали, – всхлипнул Мишка.
Я обомлел. Холодом обдало спину, а ноги стали ватными, так, что с места не сойти. Мишка побелел лицом и тихо осел на землю. Только Данилыч и не растерялся. Он схватил топорик, который всегда носил с собой, срубил две молоденьких березки, мгновенно лишил их веток, и из их стволов и покрывала, хоть и старенького, но ещё крепкого, соорудил носилки. Мы аккуратненько перевернули Семёна на спину, подсунули под него носилки, и понеслись рысью в деревню. Семён лежал не шевелясь, с закрытыми глазами, и изредка стонал.
Очухался он в избе у фельдшера. Осмотрелся удивлённо, встал с носилок, отодвинул медработника, молодецки взмахнул рукой, топнул ногой и густым басом очень даже профессионально запел «Вдоль по Питерской». А потом – принялся плясать, залихватски присвистывая. Выскочил на улицу – и был таков. Мы от такого поворота попросту остолбенели. Только фельдшер нисколько не удивился. По правде говоря, он и сам плохо языком ворочал, потому как недавно из районной поликлиники завезли медикаменты, шприцы и прочие медицинские расходные материалы. В том числе и спирт. Поэтому он лишь попытался составить Семёну компанию. Да куда там! Семён – плясун выдающийся, сразу видно.
Разгадка поведения Семёна обнаружилась на другой день, когда мы вспомнили про забытых в запарке гаишников и пошли их выручать. Мишка, потерявший какую-то безделушку у стожка, стал рыться в сене, где и обнаружил брошенные кем-то старые траки от трактора. Валялись они в том месте, не один год, и про них попросту забыли. Семён спал возле самого стожка, на спине, и телогрейка его задралась. И вышло, что он голой спиной лежал на траках, вот они и отпечатались. Трактор по нему, конечно, не проезжал, он рядышком прошёл, только стожок и разметал.
А гаишников в тележке не оказалось. То ли их кто другой вызволил, то ли сами выбрались, пешком. Там ведь не очень глубоко – всего-то по пояс.
Четверо смелых
Бабьим летом в деревне легко и чисто, тихо и светло, покойно и томно. Душа сладко млеет от погожих деньков, лес притих в ожидании первых морозов, пахнет прелым сеном и воском. Жаль, что впервые мне довелось окунуться в сельскую жизнь ранней осенью, в начале сентября, лишь в зрелом возрасте. Бог мой, как здесь замечательно! не жизнь, а благостное умиротворение. Ни тебе метро, ни трамваев, ни спешки, ни давки, ни суеты, ни бесконечного никуданеуспевания. Здесь спешить ни к чему, здесь царствует нега.
Ранним утром, когда ещё не осел, не рассыпался туман, и роса лежит на траве и листьях, в гулком сонном воздухе слышно мычанье коров и густой звон колокольчиков, резкое щёлканье пастушьего бича. Утро наполнено бряканием вёдер, хлопанием ворот и калиток, дымом печей и одуряющими запахами свежеиспечённого хлеба и парного молока. Скоро люди потянутся на работу, зябко ёжась и втягивая голову в плечи, и очарование девственности утра развеется вместе с туманом. И наступит день.
Днём в деревне оживлённо, если, конечно, можно назвать оживлённым магазин с тремя посетителями или улицу, по которой проезжает по две-три машины в час. Но всё равно – что-то беспрерывно происходит, где-то шумит лесопилка, что-то неподалёку трещит, лязгает, звонит. То трактор проедет с тележкой, и густо напахнёт навозом, то председательский УАЗик промчится. Словом, бестолковая возня днём. А на дороге – целый океан пыли. Пыль везде: за шиворотом, в волосах, в ноздрях, не одежде, на зубах, в воде, на бутербродах и в бидоне с молоком. И так до конца рабочего дня.
Вечер неспешен и важен. Нарядно одетые молодые люди (в костюмах, с застёгнутыми наглухо, под подбородок, сорочками, но без галстуков – мода такая) под руку с женами, невестами или подругами степенно прохаживаются по центральной улице, той, где стоит единственный на всю округу универмаг. Добравшись до конца улицы, разворачиваются и так же размеренно шагают обратно.
Встретившись, парочки каждый раз останавливаются и самым важным видом здороваются, спрашивают друг друга о здоровье близких, обмениваются новостями. Забавно, что они могли сто раз на дню увидеться на работе днём, но это не мешает обмениваться приветствиями вечером. Таков уж ритуал. Не менее забавно, что тут же, среди нарядных гуляющих пар, запросто можно встретить дядечку в выцветшем трико с вытянутыми коленками, а то и в трусах и в майке. Трусы обычно бывают чёрными, до колен или чуть короче, майки – светло-фиолетовые или белые. Дядечка, как правило, занят колкой дров или другой работой по хозяйству. Парочки относятся к такому соседству с пониманием: ну угораздило поселиться человека на центральной улице, не в пиджаке же ему дрова пилить! Здороваются с ним каждый раз, проходя мимо, но разговорами не докучают, чтобы не отвлекать от дел. Дядечка в ответ дружески кивает головой, продолжая орудовать пилой или топором.
Семейные пары со стажем сидят вечерами по домам – смотрят телевизор, хлопочут по хозяйству, воспитывают детишек. Старушки устроились стайками на лавочках, лузгают семечки и обсуждают прогуливающихся. Часам к десяти улицы пустеют, и с тёмного неба незаметно опускается тишина. Хорошо в деревне бабьим летом. Впрочем, в деревне всегда хорошо, когда не бьёшься за урожай.
Нам, смене из пятнадцати инженеров, отвели дом на окраине деревни, на самом отшибе, возле кладбища. Все дома по соседству стояли пустые, брошенные, и только в единственном, том, что ближе всех к кладбищу, обитал сосед, Степан. Он не дослужился до уважительного «Степан Тимофеич», и в свои пятьдесят пять так и остался Стёпкой. Да и как иначе? Холостой, беспутный, жутко любопытный, он лезет во все дырки, всегда ему больше всех надо. Но и везёт ему невероятно, из всех передряг выходит целёхоньким. Рассказывали, к примеру, как он утопил зимой трактор – решил проверить, проскочит ли по льду на полной скорости на ДТ-75 через речку. И ведь трезвый был! Ну и ушёл под лёд. Повезло – течением его не утянуло, вынырнул. С перепугу, что попадёт за трактор от начальства, стал нырять в прорубь, чтобы зацепить трос. И не заболел. И не утонул. И свой ДТ-75 вытащил. С тех пор он всегда носил с собой хороший моток верёвки.
А в другой раз, рассказывали, привезли пустые двухсотлитровые железные бочки, штук сто. Председатель хотел из них плавучий мост построить. Все бочки были кирпичного цвета, а одна – голубая. Так Степана одного из всей деревни измучило любопытство: чего это она голубая? Ну и полез проверять. Выкрутил пробку, понюхал. Вроде пахнет химией какой-то. Заглянул в отверстие – ничего не видно, темно. Тогда он зажёг спичку и заглянул в отверстие снова, а спичку бросил внутрь. Оттуда ка-ак полыхнет! И попал Степан в больницу, с лёгкими ожогами. А как только вернулся, пошёл первым делом к бочке, снова чиркнул спичкой и снова заглянул, мол, выгорело же всё. Ясное дело, бабахнуло ещё раз. Так Степан лишился бровей и узнал (и накрепко запомнил), что взрываются не горючие жидкости, а их пары в воздухе.
Был он нескладный, непутёвый, как говорили односельчане. И собака его, Тазик, такая же. Даже кличку свою она получила по недоразумению. Была она беспризорная, ничья, бегала сама по себе, промышляла, чем могла. Однажды зимой сунулась она железный тазик понюхать, ну и прилипла носом. Так и бегала по деревне, скуля, с тазиком на носу. Степан пожалел, полил горячей водой, отцепил от железки, и взял к себе жить, посадил на цепь. Сторож, однако, из неё вышел никудышный: спит, проклятая, сутки напролёт. Вор может запросто через неё перешагнуть – и ухом не поведет. Какие, спросите, в Михайлово воры и что можно украсть у Степана? А неважно, ответит он. Порядок должен быть. И поэтому намеревался Степан Тазика на злобу выдрессировать. Рассказывал он об этом всем и каждому, и даже мне, человеку приезжему, чужому, успел надоесть ежедневными обещаниями, мол, завтра буду дрессировать, заходи посмотреть.
* * *
Работали мы с восьми утра до семи вечера, накапливали отгулы за ненормированный день. Собирали в мешки корнеплоды, а потом грузили их в машины. Грузовики в раскисшем поле то и дело застревали, их вытаскивал на твёрдую дорогу специально выделенный начальством трактор с тросом. К обеду тракторист изрядно набирался, но рулил всё же приемлимо – никого не задавил. Бригадир наш, из местных, из деревенских, после обеда часто пропадал, и мы продолжали швырять корнеплоды в кузова без него. Так и проходил весь трудовой день. Вечерами мы собирались в нашем огромном старом скрипучем доме и пили чай, если было электричество. А если не было – забавлялись страшилками. К нам и Степан захаживал частенько – поговорить о политике, о жизни, сыграть в шашки или тоже рассказать что-нибудь этакое, жуткое. Страшилки поздними вечерами вспоминались и рассказывались сами собой. Возможно, потому, что наша отдалённость, даже отчуждённость от деревни, от людей, от жизни, оторванность от цивилизации (ни радио, ни телевизора у нас не было), тишина, ощущаемая кожей, тугая и липкая и близость кладбища налагали отпечаток мистической таинственности на нашу незатейливую жизнь.
Весёлые разговоры затихали, люди невольно начинали говорить приглушённо, а то и вовсе переходили на шёпот. Звонкий голос какого-нибудь разгорячённого юнца, вбежавшего в дом, казался чуждым в полутёмном помещении, пропадал в углах, гасился сумраком и самой атмосферой жилья. И вошедший, словно испугавшись собственного голоса, понижал тон.
Что бы ни обсуждали мы в неверном свете керосиновой лампы, говорили мы вполголоса, чтобы не спугнуть вселенскую тишину. И чёрные тени дёргались, метались по тёмным углам, и кто-то таинственно скрёбся, шуршал под полом, и скрипели половые доски. А изредка всхлипывала и хлопала наружная дверь с такой силой, что жалобно звенели оконные стекла. И опять наваливалась тишина.
Сладкий страх непонятного, забытого, детского шевелился, пробуждался в душе. И мы все, словно поддерживая игру, охотно пугали друг друга страшными историями. И так же охотно пугались. Про леших, ясновидящих старух отвратительного вида, домовых, про то, как приходила к кому-то Смерть в чёрном балахоне и со сверкающей косой, и будто бы её видели люди, и, конечно, про мертвецов. А порой казалось, что в самом темном углу, за громадой русской печи, среди паутины и беспокойных теней сидит некто маленький, бородатый, скрюченный в три погибели, и недобро глядит на нас, собравшихся тесным кружком за столом вокруг слабенького огонька лампы. Лампа чадила, моргала и воняла керосином.
А если посмотреть на деревню с высоты птичьего полёта, увидишь россыпь огоньков, будто кто-то бросил пригоршню блестящих монет на тёмный асфальт. В центре огоньков побольше, по краям – поменьше. Горят они неверным, мерцающим огнём, едва освещая железные крыши домов и пыльные улицы. И совсем уж в стороне, на отшибе, бледно и беспомощно светят четыре окошка – наша обитель. А за с ней, ещё дальше от кое-как освещённого центра, в тёмном мраке угадывается угольно-чёрный провал. Это кладбище. И даже с высоты видно, что там спокойно и тихо. И дальше, сколько видит глаз, сплошная тьма, до самого горизонта. Ни огонька, ни зарева далёких деревень. Будто и нет никого больше на всей Земле. И не верится, что где-то далеко шумит город, и по залитым жёлтым светом проспектам мчатся автомобили, и сияет реклама, и по улицам и скверам гуляют беззаботные прохожие.
* * *
…В тот жуткий день вечер я ходил на почту – звонить родным. Линия была всё время занята, и я проторчал в душной прокуренной комнатёнке допоздна. А по дороге домой, когда я уже начал подниматься в гору, и до нашего прибежища осталось каких-нибудь две сотни шагов, электричество опять отключилось. И в наступившей тьме сразу проявились деревенские звуки – ленивое переругивание соседок, лай собак, скрип колодезного ворота и звон цепи. Слышались они отсюда, с горки, будто издалека. Казалось, из такого же, как отзвуки железнодорожной станции – свистки тепловозов, гулкий стук сцепляемых вагонов, едва различимое многократное эхо голоса диспетчера.
Я шёл почти на ощупь, шестым чувством угадывая изгибы тропинки. Дом впереди закрывал звезды, нависая чёрным провалом, на него я и ориентировался. Едва я, осторожно шагая и нащупывая ногой каждый шаг, подошёл к крыльцу, как за спиной раздался треск – кто-то молча, продирался через кусты напролом, словно кабан на водопой. Я резко обернулся, пытаясь найти его глазами. Я всматривался в темноту, пока не различил неясную тень человека. Или мне показалось? Тень быстро двигалась ко мне, постепенно приобретая чёткость и форму. А когда приблизилась на расстояние шагов двадцать, произнесла на ходу знакомым голосом: «Завтра! Завтра вечером заходи. Тазика дрессировать буду!». Ну конечно! Степан! А я уж испугался. Заходи, Степан, гостем будешь. И мы вошли внутрь.
* * *
Народ, как обычно, сгрудился за столом. И я услышал задушевный Серёжин голос:
– Ни я, ни Колька, и Лёха никого, Кроме Дарьи, не видим – она одна только и мелькала в окошке сквозь занавески. Жила она одиноко, а мы слышали разговор, причём второй голос был мужcкой. Так вот. Обратившегося в человека змея видит жена, или мать, или невеста. И больше никто. У Дарьи мужа в солдаты забрали. Затосковала она сильно. Вот он однажды ночью и явился. Она обрадовалась, стол накрыла стол. И спрашивает, как мол, ты смог домой со службы вернуться? А муж и отвечает, что сбежал, и рассказывать о нём никому нельзя. Так продолжалось несколько дней. Дарье и самой страшно стало: муж-то ночью пьёт, ест, а наутро еда нетронутая на столе стоит.
Нинка ахнула и зажала рот ладошкой. И тут в разговор встрял Степан. Таинственным голосом он сообщил:
– Скажу конфенденциально. У нас тоже такое было. Появлялся огненный змей у одиноких баб, у тех, что недавно схоронили мужа. Причём только у тех, что сильно тоскуют. Вот к бабе Нюре, что напротив почты живёт, захаживал. Она сама рассказывала. Мол, умер у неё старик, она и давай тужить, места себе не находит. Как-то ночью сидит у окна, мается. Вдруг как осветит! Подумала она – пожар ли, чё ли. Вышла на двор. Глядь, старик, покойник стоит, да одетый баско, как в праздник, в новых сапогах. С той поры и начал ходить. А ведь знала он, что муж-то мёртвый, но всё равно тоска брала своё, и верить она стала, что он непонятно как, но живым оказался.
– Я того огненного змея видел, – продолжил Степан, воодушёвленный всеобщим вниманием, – Голова у него шаром, спина горбом и длинный-предлинный хвост – метров пять, весь он как горящий клубок шевелящихся верёвок. Подлетит к трубе – и рассыпается искрами, словно из решета они летят. И в тот же миг в избе старик и объявляется. А летает змей низко, чуть выше плетня. Вылетает змей, говорят, с кладбища, только этого не видел никто. Говорят, в звездную ночь вспыхивают там зарницы, а на верхушках деревьев будто бы видели отсвет. Неровный, зыбкий, скрасна.
И тут хлопнула входная дверь, и в комнате объявился Шурик, младший научный сотрудник из шестой лаборатории. Был он бледен и, похоже, сильно напуган. Разговор прервался. Полтора десятка лиц повернулись к нему с немым вопросом: что стряслось? И он, запинаясь, сообщил:
– Там кто-то помощи просит. Кричит «люди добрые, помогите». Плохо слышно, голос глухой, бубнящий. Едва разобрал.
– где это – «там»? – осведомился наш старший, Палваныч.
– На кладбище…
Народ ахнул единым беззвучным выдохом и примолк, а Нинка нервно хихикнула и заелозила на лавке. Степан посмотрел на неё строго, дескать, не егози, и сказал:
– Однако, надо сходить, проверить. Вдруг кто в беду попал…
Он решительно поднялся со скамьи, обвёл присутствующих длинным взглядом и спросил:
– Ну что, смелые есть? Кто со мной?
Смелых оказалось трое. После короткой паузы вызвались Борька, Серёжа и я – cамые молодые и самые глупые. Нам, дуракам, неловко было выглядеть трусами перед слабым полом.
* * *
На улице уже похолодало. Не то чтоб очень, но посвежело сильно. Мы пошли по тропе меж кустов, в затылок друг другу. Первым шагал Степан. По его уверенному шагу я догадался, что дорогу он знает и с пути не собьётся. А может, он видит в темноте, как кошка… Голос действительно слышался, и действительно с кладбища. В первый раз он прозвучал, едва мы отошли от дома. Нехороший голос, глухой, мычащий, будто человек пытается кричать с кляпом во рту. мне сразу стало зябко, захотелось вернуться в тёплый дом, к вонючей лампе, к уюту, к людям. К покою. Но Серёжа бодро напирал сзади, и мне ничего не оставалось, как спешить за Борькой. Вот уже замаячил впереди неясной тенью забор. За ним угадывались кресты, прямоугольные могильные плиты, узкие пирамидальные деревянные памятники со звездами наверху. А в глубине сплошной стеной угрюмо стоял тихий лес. Степан нашёл знакомую ему лазейку в заборе – отодвинул доску и пролез в щель. Мы – следом. Неизвестный снова подал голос. «Люди добрые, помогите!», – тягуче проныл он. Степан остановился, покрутил головой, определяя направление звука, и взял левее.
Минут через пятнадцать путаных блужданий мы вышли на кладбищенскую дорогу, ту, что тянется до МТС. Тот, кто кричал, был где-то совсем рядом, голос слышен был отчётливо, откуда-то снизу, будто из-под земли. Глаза мои привыкли к темноте, и я уже различал лужи и крупные камни на дороге, кустарник. Я и увидел первым чёрный прямоугольный провал в земле. Голос шёл оттуда. Мы подошли поближе. Степан крикнул в черноту «Эй, кто там, отзовись!» и бросил вниз булыжник.
– Ой, мама! – донеслось из тьмы невнятно, – Совсем ополоумели?
– Семён! Ты что ли? – узнав голос, обрадовано крикнул Степан.
– Кому ж ещё быть, как не мне? Я.
– Ты чего там делаешь?
– Ну упал я… Сегодня премию давали, мы с мужиками посидели в МТС. Хорошо посидели, до темноты. А домой пошли напрямки, через кладбище. Я отошёл по малой нужде в сторону, да в яму-то и упал. И кто её выкопал…
Я не сразу понял, что мне не нравилось в голосе Степана. Что-то было не так, неправильно, не по-человечески. И только на слове «выкопал» до меня дошло: слова давались ему с трудом. Выговаривал их он тщательно, но всё равно будто тряпка во рту мешала ему говорить. И очень уж механическим казалось это выговаривание, так говорят, когда записывают речь на диктофон. Может быть, он просто был пьян?
– Сейчас, Семён, сейчас… Вытащим, – пробормотал Степан. Он уже достал из кармана смотанный кусок верёвки и быстрыми ловкими движениями разматывал его, – не просто яма это, а могила. Ишь, глубокую какую вырыли…
Он размотал верёвку и бросил конец в яму: «Держи!». Оттуда послышалось бормотание, шумная возня, будто брыкается кто-то, тяжкий глубокий вздох и длинное мучительное «Ммм…». Так мычат, когда дотрагиваются до зудящей, ноющей раны. Верёвка подёргалась и замерла. «Тащи», крикнули снизу. Мы схватились за свой конец верёвки всем скопом (Семён – мужик крупный, объяснил Степан, надо дружно взяться) и потянули. Сильно, но не резко, перебирая волосатую верёвку руками. Что-то не очень он и крупный… Думал, тяжелее будет. Или это вчетвером кажется, что легко? Как ни медленно выползала верёвка, а всё ж вскоре голова Семёна оказалась наверху. Странная какая у него голова – длинная, узкая. И борода до ушей. Или это не борода? В темноте не разглядишь толком… Ой, мамочки, это шерсть! Всё лицо шерстью покрыто! А изо лба косо торчит страшный изогнутый рог! Мы бросили верёвку одновременно (страшная голова скрылась под землей, оттуда донёсся звук мягкого удара и тем же голосом «Ой, ёёё…») и бросились во весь дух наутёк. Как я перепрыгивал забор – не помню. Только ребята говорят, что я с ходу его перемахнул, а высотой он метра два, если не больше.
* * *
Очухались мы только в доме, напуганные, взвинченные, подавленные. Молча смотрели друг на друга, поминутно озираясь на дверь. Наши, из тех, что оставались в доме, глядели на нас встревожено и тоже молчали.
– Что это было? – спросил Борька, глядя в никуда и не обращаясь ни к кому. Ему никто не ответил. Тишина стояла в комнате. Только Степан судорожно хрипел – никак не мог отдышаться, да собаки устроили в деревне дикий вой. Да тикали старые ходики на стене.
Как только мы пришли в себя настолько, что смогли говорить – первым делом рассказали своим, что случилось. Они похихикали над нами, но жидко, несмело. И никто не решился сходить на кладбище – проверить. А вопли «люди добрые, помогите» были слышны и отсюда, только совсем глухие. Или это только чудилось?
Едва рассвело, прибежал Степан и начал разговор про нечистую силу, про грехи наши:
– Надо в церковь сходить, попросить батюшку защитить от нечистого, освятить могилку, окропить святой водою.
– Брось, Степан, – ответил Борька, – нет никакой нечистой.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































