Текст книги "Виткевич. Бунтарь. Солдат империи"
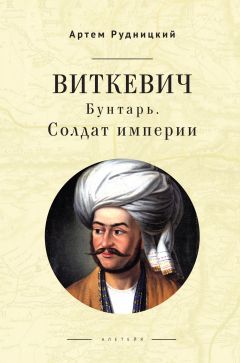
Автор книги: Артем Рудницкий
Жанр: Военное дело; спецслужбы, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 19 страниц)
Сенявин указывал также на «полонизм» Виткевича, который, дескать, «доконал» его наряду с мизантропией. «Что касается Виткевича, то он лишил себя жизни вовсе не потому, что его имя появилось в газетах, а из мизантропии, из полонизма и вследствие давно принятого им решения»[606]606
Автобиография А. О. Дюгамеля. С. 112.
[Закрыть].
Нет оснований ставить под сомнение то, что Виткевич оставался поляком и любил свою родину, которой считал и Литву, и Польшу. В представлении борцов за возрождение Речи Посполитой, считавших Литву «польской», эти понятия обычно не разделялись, и восстания против царского режима традиционно охватывали польские и литовские земли. Но не будем отвлекаться.
Нам неизвестно, в какой степени Ян, при всей своей «польскости», сохранял преданность идеалам национального освобождения, из-за которых отправился по этапу в 1824 году. В сердце, наверное, сохранял, но в то же время ощущал себя русским офицером, выполнявшим поручавшиеся ему задания не за страх, а за совесть. Делал это не по принуждению, не только по причине отдававшихся приказов, а с огромным энтузиазмом и рвением, наслаждаясь риском и теми опасностями, с которыми были связаны его степные рейды или миссия в Афганистане. «Полонизм» если и присутствовал в его мыслях, то не в качестве определяющего компонента, и не надо думать, что молодой человек сильно переживал по этому поводу. Еще в Оренбурге он сделал свой выбор, и если в какие-то моменты сомневался в его правильности, то свидетельств об этом не сохранилось.
Упоминая «полонизм» как причину самоубийства, Сенявин намекал на то, что Виткевич сокрушался в связи с тем, что служил «государству-поработителю», предал забвению интересы любимой Отчизны и в какой-то момент не вынес внутренних мук. Спустя 66 лет эту идею развил Полфёров в рассказе, претендовавшем на документальную точность, но наполненном откровенным вымыслом. Будто бы вечером восьмого мая в гостиницу к Виткевичу явился его старый друг, некто Тышкевич и принялся укорять за «предательство», что и заставило Яна покончить с собой.
«Вошел пожилой господин с великосветскими манерами, держа в левой руке цилиндр и перчатку.
– Пан Виткевич? – тихо спросил вошедший. Виткевич несколько секунд присматривался к гостю, а потом радостно приветствовал:
– Пан Тышкевич?… Как я рад, как счастлив видеть!
Встретились два друга, два единомышленника, пострадавшие за одну идею и одновременно помилованные. Полилась дружеская беседа. Приятели делились впечатлениями, ворошили прежнюю жизнь.
Виткевич начал рассказывать про свои странствования, про ту “великую услугу”, которую он оказал России, и не мог не поделиться мечтами о будущей карьере.
По мере того, как он развивал нить своих скитаний, приводя эпизоды с переодеваниями, бритьем головы, лицо собеседника делалось все мрачнее и мрачнее. Наконец он не выдержал, вскочил со стула и крикнул:
– Стыдись, пан Виткевич… Ты говоришь про свое поручение, как про какой-то святой подвиг… И это ты, который не задумался принести в жертву свою жизнь, богатство и почет во имя идеи освобождения дорогой родины от рабства… И вдруг сам же способствуешь порабощению самостоятельных государств. Ты, презиравший предателей, сам стал шпионом и предателем…
Проговорив это сдавленным голосом, Тышкевич почти выбежал из номера.
Виткевич минуту остался неподвижным, а потом схватился руками за голову и зарыдал. Иногда из груди у него вырывался стон, и, точно от боли, он качал головой и скрежетал зубами.
– Предатель… Да, верно предатель… – шептал он.
– Так да будет же все проклято!
Виткевич схватил со стола планы, чертежи, записки и стал бросать в потухающий камин. Скоро комната осветилась красноватым пламенем. Огонь жадно пожирал бумагу… Вот брошен план Хивы. Огонь стал перебегать по краям александрийского листа, потом охватил его со всех сторон, и через мгновение от важного документа осталась обуглившаяся масса, которая с легким треском свернулась и рассыпалась.
Виткевич вздрогнул, провел рукой по влажному лбу, подошел к комоду и вынул из его ящика пистолет.
– Прощай, надежды и мечты… – прошептал он, садясь в кресло против камина.
Через минуту в номере раздался выстрел, гулко прокатившийся по коридору гостиницы»[607]607
Я. Я. Полфёров. Предатель. С. 502.
[Закрыть].
Прежде уже отмечалось, сколь небрежно Полфёров относился к историческим фактам, что априори заставляет скептически отнестись к его рассказу в целом. Ссылка на «Записки П. И. Сунгурова» мало что меняет, поскольку Сунгуров знал Виткевича только по Оренбургской линии, и в мае 1839 года в Петербурге его не было.
Все как-то наспех, небрежно, неряшливо написано. Пишет о «переодеваниях» и «бритье головы», не объясняя, о чем, собственно, идет речь. Наверное, имелась в виду маскировка. Но это, конечно, мелочь. Главное, что «пан Тышкевич» – фигура вымышленная, среди польских друзей Виткевича таковой не обнаружено. Полфёров даже не потрудился «облечь в плоть» эту фигуру, придать ей хоть какую-то, пусть, не документальную, так художественную достоверность. Трудно поверить и в то, что эта неожиданная и, в общем-то, мимолетная встреча произвела на Виткевича столь сильное впечатление, что он принялся жечь свои бумаги, а потом схватился за пистолет. Непонятно и то, почему среди сожженных бумаг должен был находиться «план Хивы». Виткевич там не был, не собирался туда и никакого отношения к подготовке зимнего похода в Хиву Перовского не имел.
Если подытожить, то мы увидим, что имеется достаточно свидетельств, говорящих как в пользу версии самоубийства, так и против нее.
В министерстве иностранных дел Виткевича по достоинству ценили как эксперта по ситуации в Иране, Афганистане и Средней Азии, пользовавшегося доверием восточных правителей. Никто его не унижал, не обижал, ни Сенявин, ни Нессельроде. Он наносил светские визиты, общался с друзьями, наслаждался жизнью. И в то же время регулярно намекал, что от этой жизни устал и не прочь с ней расстаться. Меланхолия? Мизантропия? Депрессия? Оскорбленное честолюбие? Неясностей хватает и впору предположить, что самоубийство в действительности явилось замаскированным убийством.
Один из веских доводов – характер предсмертного письма, оригинал которого таинственным образом исчез. Цитируется копия, направленная Азиатским департаментом после смерти Виткевича его родственникам. Бернштейн уверял, что этот документ показал ему Станислав, племянник Яна, отметивший, что никто в семье в самоубийство его дяди не верил. В своих воспоминаниях племянница Мария подчеркивала, что Ян родным никогда по-русски не писал, только по-польски. А предсмертное письмо было написано по-русски. Тут, правда, можно пофантазировать, допустить, что самоубийца написал его по-польски, а потом его перевели на русский и сняли копию. Однако в мидовском делопроизводство определенный порядок твердо соблюдался, и в таком случае на копии указали бы «копия с перевода».
А вот мнение племянницы Эльвиры: «В нашей семье… его окружает какая-то легенда… В году 1837 (1839) его друзья, среди них и Томаш Зан, находят его мертвого с раной от стилета, а рядом письмо по-русски, адресованное семье, что он сам кончает с собой. Письмо было поддельное. Дядя никогда не писал родным по-русски. Его верный слуга, родом из Пошавше, исчез бесследно, наверняка его тоже убили как свидетеля преступления»[608]608
W. Jewsiewicki. „Batyr”. S. 256.
[Закрыть].
Неточности бросаются в глаза. Виткевича не закололи, умер он от огнестрельной раны. Личность слуги становится все более таинственной, всякий раз он предстает в ином образе. Уже не киргиз? Не Дмитрий? Не Турган-бай? Если родом из Пошавше, значит, литовец или поляк? Смущает сообщение об «исчезновении». Если слуге «пробили череп», то куда в таком состоянии он мог подеваться? Или не «пробивали», и исчез он после того, как пообщался со Штакельбергом?
Племянницы в год смерти Виткевича были еще детьми, ну, возможно, подростками, и какие-то детали из подслушанных разговоров взрослых могли запомнить не совсем верно. Но едва ли это относилось к неувязке с письмом, то была вещь слишком серьезная, несомненно, вызвавшая в семье бурю споров и эмоций. Эльвира вспоминала: «Из полиции потом доставили письмо – письмо было не дядино – в котором говорилось… что он кончает с жизнью, пакет со старым, потертым халатом и еще какие-то мелочи. Письмо было написано по-русски»[609]609
Ibid. S. 273.
[Закрыть].
Итак, сторонникам версии об убийстве есть на что сослаться. Доказательства не прямые, косвенные, но много ли надо авторам, падким на эффектные теории? Версия с убийством отлично укладывается в представление о Виткевиче как герое-одиночке, упорно выполнявшем свой долг вопреки наветам и интригам со стороны злобных врагов, непоследовательности и фактическому предательству своего же начальства.
Если убили, то кто убил? Чаще всего вина возлагается на англичан. Виткевич им крепко насолил, и они ему отомстили. Или расправились, чтобы похитить бумаги, которые могли навредить Великобритании. Заказали и подослали наемного убийцу.
М. А. Терентьев рассуждал следующим образом: «Трудно, однако, допустить, чтобы человек, бившийся столько лет, чтобы поправить свою карьеру, отказался от нее как раз накануне исполнения самых пылких мечтаний, на девятый день по приезде в Петербург. Многие подозревали в этом загадочном происшествии английскую руку… Кому более всех должны быть интересны бумаги Виткевича, как не англичанам? Кто наиболее был раздражен неудачей Бернса и сердит на Виткевича, как не англичане?»[610]610
М. А. Терентьев. История завоевания Средней Азии. Т. I. С. но.
[Закрыть].
Во время встречи с Заном на Невском Виткевич обронил: «Если бы я попал в руки англичанам, на части бы меня разорвали»[611]611
W. Jewsiewicki. „Batyr”. S. 250.
[Закрыть]. Что ж, это понятно, учитывая, что он чуть не сорвал их далеко идущие планы. Допустим, разорвали бы, но это еще не означало, что именно они организовали на него покушение.
Зачем им было ждать приезда Виткевича в Петербург? На это мы уже обращали внимание. Разве не проще было разделаться с ним в азиатской глуши, где-нибудь в Афганистане, свалив вину за убийство, скажем, на каких-нибудь разбойников? Вполне натурально могло получиться, меньше всяких домыслов и шума.
И что опасного для англичан могло быть в бумагах Виткевича? Доказательства, что они ни в грош не ставили российские интересы и хотели завоевать весь Афганистан? Так в Петербурге были прекрасно осведомлены на этот счет. Войну британцы затеяли, заняли Кандагар, вот-вот должны были занять Кабул. Ну, и опять-таки, отнять документы было бы гораздо проще до отъезда Виткевича в столицу, в Персии или Афганистане.
Чтобы избежать этих «подводных камней», Гус придумал свой, особенный вариант (писатель имеет право на вымысел!). В Петербурге Виткевич, дескать, случайно столкнулся с английским шпионом, который давно был у него на примете. И этот мерзавец, испугавшись разоблачения, подлейшим образом прикончил офицера. Подобное допущение ни на чем не основано, но для романа очень даже годится.
Трудно обойти вниманием еще более фантастические версии «убийства» Виткевича, возлагающие ответственность на царские власти. Здесь мы возвращаемся к концепции «валленродизма» и «полонизма», которые развивали брат, племянницы и внучатый племянник Яна. Режим покарал новоявленного Валленрода, такой делается вывод. В 1837 году Пушкина уморили, а в 1839-м – Виткевича. Ох, уж эти Николай I, Бенкендорф и их приспешники! Это они друзей на похороны Яна не допустили и через какое-то время ликвидировали его могилу. Зачем? На этот вопрос дается несколько ответов.
Первый, самый простой. Виткевич «слишком много знал», будучи свидетелем беспринципного поворота в российской внешней политике, обернувшегося предательством афганцев, доверившихся Петербургу. А свидетелей, как известно, в живых не оставляют. Юлиан Семенов со вкусом описывает, как Бенкендорф сжигает полицейский рапорт об обстоятельствах смерти Виткевича, приговаривая, что искать убийцу ни к чему. А в рапорте, между прочим, указывалось, что пистолет, зажатый в руке покойного, не был разряжен, пуля оставалась в стволе.
Второй. Виткевич никогда не забывал о борьбе за освобождение Польши и, отправляясь с миссией в Афганистан, старался вредить России. Хотел ослабить царский режим, намеренно обостряя российско-английские противоречия в Афганистане и Персии и пытаясь втянуть Россию в войну против Великобритании. За что и понес кару. Излишне говорить, что подобная точка зрения, прежде всего, распространена в Польше[612]612
См. Например: Н. Mościcki. Polacy w Afghanistanie. Kurier Warszawski, 1928. Nr. 118. S. 10; W. Massalski. Pierwszy Polak w Afghanistanie. Warszawa, 1928. S. 7–9.
[Закрыть], но никаких подтверждающих ее фактов, как уже говорилось, не найдено.
С сожалением приходится признать, что тайне смерти Яна Виткевича, по всей видимости, суждено оставаться неразгаданной. Едва ли спустя почти два столетия после этого события обнаружатся проливающие на него свет новые документы или свидетельства очевидцев. Если же оперировать той информацией, которая в настоящее время доступна, то, пожалуй, больше оснований считать эту смерть результатом самоубийства. Причины коренились в неустойчивой психике молодого человека, душевной надломленности, о чем уже было сказано. Будь у Яна поддержка со стороны родных, семьи, все могло бы выйти по-другому. Но этого он был лишен. Не женился, не завел детей и, потеряв родительский дом, своего так и не обрел. Одиночество, неприкаянность стали стилем его жизни, и лучше всего он чувствовал себя в походе, в опасных вылазках, рейдах, подвергая себя смертельной опасности, когда не было ни времени, ни условий для рефлексии.
Но вот завершилась неудачей афганская миссия, Ян оказался в Петербурге и почувствовал себя не у дел. Если трезво взглянуть на сложившуюся ситуацию, то ничего в ней особо страшного для него не было. Но в том-то вся и штука, что трезво оценить ее Виткевич не мог. Он не был лишен общения, но это общение не избавляло от мучительных переживаний, сомнений в том, что жизнь имеет какой-то смысл. Спасением могло стать возвращение к «походному бытию», почему было не отправиться вместе с Перовским в военную экспедицию в Хиву? Ждать оставалось недолго, но даже для такого недолгого ожидания требовалось запастись терпением, которого Яну определенно не хватало. Возможно, случилось, что-то еще, возможно, какая-то досадная мелочь, на первый взгляд пустяк, который настолько ужасно подействовал на молодого и блестящего офицера, что заставил его «поставить точку пули в своем конце».
Эпилог
Виткевич мог только предполагать, что произойдет с Афганистаном после того, как Россия демонстративно «умыла руки». Наверное, он бы занял сторону афганцев, которые оказали англичанам мужественное сопротивление и, в конце концов, выстояли, хотя немало заплатили за свою победу.
«Английские войска покоряют весь Афганистан и где встречают сопротивление, разоряют города огнем и мечом, – писал М. Н. Муравьев. – …Афганистан был отдан на жертву англичанам. Но попытка поработить страну эту стоила дорого англичанам. Разорения, опустошения, ими там произведенные, если и навели временный страх на афганцев, то действия эти, конечно, не могли привязать их к правительству, которое, покровительствуя постоянно соседним врагам их, содействовало сим к отнятию от них целых провинций и, в довершение причиненного им чрез других вреда, начало без законного повода войну и уже само дозволяло войскам своим, не щадя никаких священных для природных жителей воспоминаний, разорять без нужды и пользы памятники, караван-сараи и базары, ежедневные сходбища азиатцев…Настоящая связь афганцев с англичанами основана, следовательно, на одном страхе, и трудно, даже невозможно, предположить, чтобы когда-либо между ними установилось дружеское отношение: во всяком случае, афганцы верными союзниками англичан никогда не будут»[613]613
Из бумаг графа М. Н. Муравьева. Записка о русской политике в Средней Азии. С. 281, 292–293.
[Закрыть].
В июле-августе 1839 года войска Шуджи-уль-Мулька и английские полки разгромили основные силы Дост Мухаммед-хана и вошли в Кабул. Новый правитель щедро наградил всех, кто помогал ему взойти на престол: британских генералов, Клода Уэйда, Уильяма Макнотона и Александра Бернса. В ноябре 1840 года Дост Мухаммед-хан сдался на милость победителей. Его отправили в Лодхиану, а потом в Калькутту, где он вместе с родными проживал в статусе почетного пленника.
Но тем дело не кончилось. В отличие от своего предшественника Шуджа не был мудрым владыкой: обложил население непосильными налогами, издал жестокие и непопулярные законы. 2 ноября 1841 года в Кабуле вспыхнуло восстание, стоившее жизни Бернсу, а спустя месяц – и Макнотону. По всей стране развернулось освободительное движение, которое возглавил один из сыновей Дост Мухаммед-хана. Ожесточенные бои продолжались до конца 1842 года, пока все англичане не были изгнаны из страны и в Кабул не вернулся эмир, правивший до самой своей смерти в 1863 году.
Афганцы доказали свою способность отстаивать независимость родины, несмотря на все лишения и превосходство завоевателей в вооружении. Англичанам преподали суровый урок, который, правда, до конца ими не был усвоен. В 1878 году они начали Вторую войну в Афганистане, растянувшуюся на два года и приведшую к многочисленным жертвам с обеих сторон. В 1880 году британцам пришлось в очередной раз вывести свои войска из этой страны. Ее новый властитель формально согласился на ряд уступок, признав в том числе право Лондона контролировать внешние сношения Афганистана, но по сути эта страна осталась непокоренной.
На фоне грубого британского натиска к России и русским афганцы относились весьма благожелательно. На это не могли не обратить участники русского посольства во главе с генералом Николаем Столетовым, находившиеся в Афганистане в 1878–1879 годах. Сорок лет прошло после завершения миссии Виткевича, но старики о нем помнили. Сопровождавший Столетова в качестве врача Иван Лаврович Яворский рассказал о встрече и беседе с Абдул Самед-ханом, тем самым, который в период пребывания в Кабуле Виткевича занимал должность первого министра. Теперь он был министром двора при новом эмире.
«Сардар выразил, между прочим, мысль, что настоящее время ему напоминает конец 30-х годов, когда он же встречал русского посла Виткевича, который во все время пребывания в Кабуле, жил в его, сардара, доме. “Еще тогда, – говорил сардар, – было для нас ясно, что только в союзе с Россией можно достигнуть мирного развития государства. Уже тогда эмир Дост Мухаммед-хан в одной России видел оплот против всепоглощающего захвата англичан. Правда, Россия тогда не помогла нам, но, вероятно, действительно не было возможности помочь нам каким-бы то ни было способом. Впрочем, тогда мы и одни сумели справиться с нашими кровными врагами. Теперь же сын Дост Мухаммеда, эмир Шир Али-хан, приглашает вас к себе в Кабул, как дорогих гостей – вестников мира и добра. Да даст Аллах, чтоб наша дружба не имела никогда поводов к сожалению!”. Так говорил этот энергичный старик – и лицо его горело одушевлением, а огненные глаза показывали, что его слова были сказаны от чистого сердца и с полною верою. Он говорил еще в продолжение некоторого времени на ту же тему. Потом ему был показан портрет Дост Мухаммед-хана, приложенный к книге Бернса “Кабул”. Сардар отозвался о портрете с большой похвалой и сказал, что он очень похож на покойного эмира. Когда же ему сообщили, что книга эта написана известным Бернсом, политическим противником Виткевича, то он сказал, что хорошо помнит и Бернса, “этого очень тщеславного и самолюбивого человека”»[614]614
Путешествие русского посольства по Афганистану и Бухарскому ханству в 1878 и 1879 гг. Из дневников члена посольства доктора И. Л. Яворского. Т. I. СПб, 1888. С. 305.
[Закрыть].
Интерес в Кабуле к России в период Второй англо-афганской войны был понятен. Возродились надежды на то, что русские придут на выручку. Однако в Петербурге, как и прежде, не пожелали идти на конфронтацию с напористыми британцами, а в 1907 году, по условиям российско-британского соглашения Россия признала Афганистан сферой влияния Лондона и обязалась не поддерживать никаких официальных контактов с афганским эмиром. Большая игра, казалось, ушла в прошлое. Конец главы.
Однако вскоре началась новая эпоха, возобновившая соперничество великих держав в регионе. Советский Союз, в отличие от Российской империи, действовал решительнее, сделав ставку на независимый Афганистан как одного из своих союзников в борьбе с «британским империализмом». В 1920-1930-е годы Москва не останавливалась перед прямым военным вмешательством в афганские дела, что, заметим, не дало желаемого результата. Зато в 1950-1960-е годы ощутимые дивиденды принесла советская мирная экономическая и культурная экспансия в Афганистане. К тому времени англичане утратили свои региональные позиции, а США, новый лидер западного мира, только готовились вступить в Большую игру.
Ее новый раунд начался с конца 1970-х годов, когда Москва неосмотрительно сделала ставку на военную интервенцию в Афганистане. Это решение имело катастрофические последствия для советского и российского влияния в этой стране и регионе в целом, в конце XX – начале XXI века оно фактически свелось к нулю.
Сегодня России остается лишь наблюдать, впрочем, с некоторым удовлетворением, как тщетно пытаются утвердиться в Афганистане Соединенные Штаты. История наказывает за незнание ее уроков, а в данном случае они заключаются в том, что никому и никогда не удавалось поставить на колени народы Афганистана, заставить их жить по чужим правилам, даже если они носят очень привлекательный, прогрессивный и демократический характер. Для национального сознания афганцев принципиальное значение имеет тот факт, что этими правилами их осчастливили завоеватели, от которых они не желают принимать благодеяний.
В конце 1830-х годов Россия пыталась помочь афганцам отстаивать свою самостоятельность, дать отпор чужеземному вторжению. Потребность в такой помощи не исчезла до сих пор. Будет ли она когда-нибудь оказана? Для этого России, помимо военно-политического и экономического потенциала и осмысленной внешней политики, нужны хорошо подготовленные дипломаты-востоковеды, находчивые, отважные, дальновидные. Как Виткевич.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































