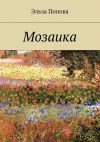Текст книги "Убить цензора! Повести от первого лица (сборник)"

Автор книги: Борис Горзев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 14 страниц)
– Написал, совсем недавно получил, буквально три дня назад.
– Отлично! И что? Ну… не содержание, а тон, стиль, настрой?
– Шуточки, юмор, наше вольное обращение с родной лексикой, но главное – зовет к себе опять. Не чтоб завтра, конечно, а хотя бы пару раз в год.
– Опять же отлично! Значит, вы прошли его экзамен. Не ведая о том, что сдаете экзамен. Это тоже было в нем неосознанно – протестировать ваше приятие его мира. Вы молодец, хотя ваше поведение было только и лишь интуитивным. Но это и есть любовь – поступать интуитивно правильно. Такое дается в основном правополушарникам. Вы не левша?
Я рассмеялся:
– Точно, почти угадали! Вообще-то я полулевша-полуправша, то есть переученный левша, поэтому кое-что делаю правой, а кое-что, как в раннем детстве, левой… Слушайте, ну я же говорю, что вы энциклопедист!
– Бросьте, я всего лишь психолог. Может, и неплохой, как коллеги говорят… Кстати, о правом-левом. Не помню кто, но кто-то отметил, что у китайцев такая письменность и такой язык, потому что у них оба полушария работают в равной степени, то есть нет доминирующего полушария. А вот русский язык, он способствует если не доминированию правого полушария – образного, интуитивного, – то все-таки его хорошей активности. Отсюда, говорят, полное, безоговорочное принятие народом православия, религии ортодоксальной и, простите, косной, послушной и нетерпимой к иному мировосприятию… Э, я вас не оскорбила?
– Да нет, я атеист вообще-то. А вы?
– Я вышла замуж за иудея, но в душе осталась стопроцентным материалистом, так что… понимаете. Ладно, это мы отвлеклись. Об Андрее. Вам надо будет ездить к нему. Хотя бы раз в год. Сюда он не приедет, я уверена. После всего им пережитого у него интуитивный страх оказаться в этой природе, этом климате – в общем, этой среде обитания. Интуиция ему подсказывает: может случиться срыв. Воспоминания… евреи, арабы кругом – в общем, семиты. Ближний Восток, Аравия, Йемен – это для него уже нечто одно. И не надо искушать судьбу – звать его сюда, надо ехать к нему в Россию, в его лес.
– Да я и не против, для меня Россия не пустой звук, а тем более там Андрей.
– Вот и славно. Значит, программа ясна, действуйте.
– Программа… – я замолчал, обдумывая услышанное.
– Какая-то проблема? – догадалась Хая.
– Проблема? Да нет, скорее вопрос. Скажите, вот все, что вы расписали про Андрея, про его сегодняшний мир… Это в нем надолго? Навсегда? Или, если даже не будет никаких провокаций, никаких психотравм, со временем не может ли это сорваться? И вдруг он поймет, осознает, что никакой Тани нет. Это же крах!
Хая повернула голову и внимательно поглядела мне в глаза:
– Законный вопрос, потому что по делу. Будто вы знакомы с предметом… Что ж, это называется психическим истощением. Надуманный мир Андрея держится на определенной энергетике, на неосознаваемом им сильном внутреннем напряжении. Прежде это напряжение в нем подпитывала его Таня, теперь – он сам, один. Я не хотела говорить вам об этом, но может, да, возникнуть истощение. Когда? Неизвестно. Может, очень не скоро, если действительно вдруг не случится какая-то провокация. А может… не знаю, тут прогнозировать невозможно. Психика – это тонкий музыкальный инструмент, который самонастраивается, но может дать сбой, начать фальшивить или выдать неожиданную, неуместную мелодию, причем в самый неподходящий момент. А что тому внешней или внутренней причиной – только гадай… Не думайте пока об этом. Авось ничего такого и не будет. Ваша задача – делать свое дело. Вы и Андрей. По намеченной нами программе.
– Да, я понял.
– Ну и хорошо, – удовлетворенно вздохнула Хая, – а вот мы и пришли – мой дом.
Она протянула мне руку:
– Все о’кей?
– Я даже не знаю, как вас благодарить, ей-богу.
– Книжку свою подарите, пришлите по почте. И еще: звоните мне время от времени, будете докладывать, как ваши дела с Андреем. Мне это интересно. Считайте, я болею за вас с ним.
– Спасибо! – я отпустил ее руку. – Всех вам благ, я поехал в свою любимую Хайфу. А книжку пришлю.
– Стойте! – вдруг резко произнесла она, когда я уже развернулся. – Напоследок. Помните ту песенку, которую вам спел Андрей? Я ее тоже помню, кстати, на бывшей родине пели в компаниях. Про девушку с острова Пасхи, у которой украли любовника тигры. Так вот, и это уже не анекдот. У девушки действительно украли любовника в форме полковника. А именно: у Татьяны украли Андрея, только украли не тигры, а политические разборки с насилием и смертями, в результате чего он получил йеменский синдром. Не будь этого синдрома, а до того насилия, ничего бы не случилось, даже при изначальном аутизме Андрея, и Татьяна была бы жива, не покончила с собой. Так что виноват йеменский синдром, убивший ее и отправивший Андрея в другой мир. Не на тот свет, а в другой мир. Помните об этом… Ладно, прощайте пока, я за вас с ним буду болеть.
8
Дорогой мой Андрей!
Получил твое письмо, и вот спешу ответить. Ну как спешу – четыре дня собирался. И что – ты не девушка, чтоб отвечать сразу, перебьешься!
Кстати, о девушке. Недавно я встретил женщину, приятную во всех отношениях. Так мне показалось, хотя черт знает, что там в ее потемках. А то как у Чехова: «А заглянешь в душу – обыкновеннейший крокодил».
Но достойная дама, кажется. Но – еврейка, понятно. И еще «но»: при муже, правоверном семите, то есть исконном израильтянине. Каков расклад, а? И что же мне делать, подскажи?
Ладно, это шутка, но не без серьеза. Я о другом. Недавно мы с этой приятной во всех отношениях дамой гуляли по роскошному парку в Иерусалиме, и вот там, среди всяких местных птиц, летающих и разгуливающих по травке, я вдруг увидел ворон и воробьев. Представляешь?! Наши русские, стандартные вороны и воробьи! Каркают, чирикают как ни в чем не бывало. Я прямо обалдел. А моя дама спокойно говорит: «Чудак-человек, эка невидаль! Они и в Израиле живут, и в Египте на Ниле, и в Иране – и где их только нет!» Так что, Андрей, вороны с воробьями – это не наше, сугубо русское достояние, вот так! А я-то думал…
Ладно, опять же, мало ли о чем я глупо думал. А вот о тебе думаю не глупо. Спасибо, что ты есть, что выписал меня к себе, что остался доволен нашим общением, житьем-бытьем под одной крышей и так далее. Знаешь, благодаря этому попаданию к тебе в заказник, я как-то по-новому глянул на себя и на природу.
Понимаешь, вот для тебя дом родной – это лес, ты сам говорил, это твое родство. Но и писатель устроен так, что для него родство – это уединение. Вот такой же лес и жизнь в нем. Я тоже почувствовал, что это лесное уединение и есть моя родина. Опять же Чехов говорил: писатель должен сидеть в потемках. Ну это образ, речь об уединении, ты прекрасно понимаешь. Поэтому у меня, поэта, как и у тебя, непоэта, родина – своя, внутренняя. Вот что я понял, будучи у тебя в заказнике. А еще понял, как же мы с тобой схожи, черт возьми!
Это я к тому, что приеду. И потому, что ты зовешь (спасибо, конечно), и потому что мне надо. Надо быть в уединении – в лесу, но с тобой. Потому что я плюс ты – это, как сказала Ахматова, одиночество вдвоем. И есть место, где можно справлять такое.
Я приеду и буду приезжать. Пару раз в год или скорее раз в год. Что делать, эти суки-политики никак не откроют безвизовый режим между нашими странами – и, говорили мне, такое антисемитство будет еще лет десять, а то и больше. Визы, приглашения, оформление, консульства и прочая мутота. Ну раз в год это пережить можно.
Так что будем этим жить.
Пиши мне, какие новости. И какие старости – тоже. Медведь, которого мы повстречали на Шизухе, к тебе не заглядывал? Небось отъелся, здоровым стал. И как твоя утиная охота на озере Смехра?
Ладно, финиширую. Обнимаю тебя. Пиши мне.
Напоследок прикладываю стишок, явившийся мне после эпизода с приятной дамой под ручку.
ВОРОБЬЯМ И ВОРОНАМ ИЕРУСАЛИМА
Воробьям и воронам, живущим вдали от тех мест,
где их братья и сестры, штурмуя кресты, как насесты,
лишь у юных котов вызывают живой интерес,
а у старых, напротив – ибо слишком уж шумно, —
протесты.
Воробьям и воронам, живущим вдали от страны,
где мы с другом, бывало, осенними днями бродили —
от Творца вдалеке, не вблизи Сатаны;
той страны гордецам выпадает такая идиллия.
Воробьям и воронам, живущим вдали от широт,
где тоска по царю посильнее, чем тяга к застолью,
и всегда неизвестно, что сделает третий: убьет,
накропает донос иль одарит любовью.
Воробьям и воронам, живущим вдали от земли,
бесконечность которой лишь грусти ее соразмерна
да извечной загадке, зачем нас Господь поселил
там. Хотя, без сомненья, что-то в этом решении верно.
9
Через несколько дней я отправил Хае свою книгу – вышедший в Израиле сборник стихов.
Потом звонил ей.
Потом она звонила мне.
Потом ездил к ней в Иерусалим, и мы гуляли там.
А еще потом мне стало казаться, что мы можем стать хорошими друзьями и даже, может быть, вообще близкими людьми. Посмотрим. Но в любом случае здесь речь не об этом. Здесь – о том, что было этой весной. С Андреем и мной.
От автора
У этой повести, названной «У девушки с острова Пасхи…», есть другое название, второе: «Йеменский синдром».
В этом что-то есть, согласитесь. Ведь все, что тут описано, все, что случилось с Андреем, – это из-за синдрома с таким названием. Не было бы его у Андрея, даже при первичном аутизме, не возникло бы дальнейшего и, значит, не было бы повода описывать эту историю.
Да, йеменский синдром. Не вьетнамский, не афганский, не – более поздний по времени – чеченский. Именно йеменский, хотя о таком синдроме не упоминается в медицинской литературе. И это потому, что случай, выпавший на долю Андрея, единственный. Хотя, бог знает, может быть, в те годы там, в Йемене, отмечались подобные случаи. И возможно, не только в Йемене, но и в других местах, где негласно присутствовали советские подразделения и сотрудники ГРУ, например на Ближнем Востоке, в Эфиопии, Анголе, Никарагуа. Но поскольку тамошние дела вершились нашей страной втайне, то – тишина.
Короче говоря, «У девушки с острова Пасхи…» или «Йеменский синдром». Выбирайте.
Хранитель фонарного света
Стеббс, сторож Лисского маяка, покончив с фонарем, то есть наполнив лампы сурепным маслом, сошел в нижнее помещение.
А. Грин, «Блистающий мир»
Поехали!
На привокзальной площади мы выбрались из такси, а после нырнули в сам вокзал и приняли его запахи. О, запахи! Опять пахло – круто, наполненно, как-то громко, неистребимо, вкусно. Пахло и натурально, и памятью. Есть такое – память запахов вокзала. И память запахов поезда.
Пахнет углем, дымом, гарью, паровозом, кислыми телогрейками и носками, туалетом, папиросным куревом, разостланными газетами на столиках, крутыми яйцами, холодной жареной курятиной, свежими огурцами, мясистыми помидорами, пахнет даже крупной солью, громким разговором со смешками и матерком, бульканьем наливаемой в кружки водки или дешевого портвейна, опять папиросным дымом, вскоре похрапыванием под те же разговоры, пахнет даже тускловатым вечерним светом плафонов в купе и вдоль вагонного коридора, пахнет влажным после прачечной бельем на лавках, женским хихиканьем, возней на нижней лавке, всплеском голых рук во внезапно освещенном огнями встречного состава купе, жарким шепотом, опять тьмой, опять туалетом и еще многим, многим, что хранится в ячейке памяти с надписью «Запахи вокзала и поезда». Короче говоря, мы поехали.
Нас двое в купе, Эльма и я. Почему-то к нам никто не подсаживается, мы одни. Думаю, это потому, что мы отчаянно похожи, почти как две капли воды. То ли пугает такое сходство, то ли что-то еще. А может быть, все проще: остались непроданными два билета в наше купе. В любом случае, хорошо.
– Спи, Эльма, – говорю, – уж Тулу проехали, уже ночь, ты устала.
– Устала, а не хочу, – слышится сквозь зевоту. – Верней, хочу, а никак, никак. Это после самолета, перелета. Еще полдня назад была заграница, а теперь – вот это. А это что? Родина, да? Иногда путаешься при сжатии пространства. У тебя так бывало, моряк? Да, слом в организме. Устала, а заснуть не могу. Какое-то возбуждение, наверное. Ведь наконец домой.
– Эхе, где наш дом! – философски замечаю я.
– Где родились, – слышится нефилософское. И вдруг она улыбается. Боже, как я люблю ее улыбку! Сразу жить спокойней. Так с детства. – Эльм, – говорит улыбка, говорит как мурлыкает, – а ты помнишь?
– Что на сей раз?
– Ты не еврей, не отвечай вопросом на вопрос!
– О’кей, я моряк, сын моряка, а моряки люди точные. Так и спрашиваю: что я помню на сей раз?
– Рождественскую свинку! – слышится с ходу.
– А, понятно! И свинку помню.
– А помнишь, как я плакала в первый раз? Думала, это мама у соседа попросила, чтобы поросеночка закололи, а мама сказала, это с рынка в Рыбачьем. Там хороший рынок был.
– Да, оттуда, помню. Дорогой был поросеночек, наверное.
– Само собой, не дешевый, но то ведь мама! Почему-то она готовила эту свинку на Рождество, а не на Новый год. Для нас, голодранцев… А когда я была в Дании, ну недавно, и как раз под Рождество, но их, католическое-протестантское, то все сама видела. На рождественской ярмарке. Красотища, глаза разбегаются! В том числе всякие смешные поделки в виде забавных свинок. Ну это сувениры. А еще – вкусности. Например, засахаренные булочки в виде свинок, под глазурью, тоже к Рождеству, для сладкого стола для детей.
– Да, знаю: рождественская свинка – это там, у них, кое-где принято. Помню, мне еще рассказывал дядька Адриан. Например, рассказывал он, в стране Перу, которая у Тихого океана, к рождественскому столу подают не традиционную индейку, а именно свинку. Он туда плавал, в Перу.
– Ну да, ну да, – загадочно произносит Эльма. – И туда тоже? Куда ж он только не плавал!
– Именно. Думаю, эта свинка на Рождество – какой-то символ, но какой? И почему мама ее готовила? После рассказов Адриана, что ли? Но что это за символ, не знаю.
– Зато я знаю рецепт, как ее готовить, – быстро говорит Эльма. – От мамы помню, а вот недавно, опять же в Копенгагене, уточнила, записала. Значит, так. Покупаешь свинку, то есть молочного поросенка. Дальше надо его промыть, замочить на два часа в соленой воде, потом сварить, потом обжарить с луком. Потом зашить, смазать всю свинку маслом, а пятачок и копытца закрыть фольгой и поставить в духовку на полтора часа при температуре не выше двухсот градусов. И – свинка готова! Хочешь – подавай к столу горячей, а можно и холодной как закуску. Ты как хочешь, Эльм?
– Как мама делала. В рождественскую ночь – горячей, а назавтра уже холодной, тоненько нарезанной. Помнишь? С теплым хлебом из печки. Вкусно! Помнишь?
– Ага, и с осенним вином. Горчит осеннее вино…
– Какое тогда вино, дурочка-девочка! Тогда мама не позволяла! Но мне Адриан рассказывал про это, про вино. Как постепенно холодает за окном, так постепенно надо переходить от летних вин к осенним, более концентрированным, сладким. Красное вино с умеренным сложением и сочным фруктовым вкусом. Так он говорил. С умеренным сложением, во как! Так только он говорил, только Адриан.
Эльма прикрывает глаза, кивает. Потом качает головой:
– Адриан… Как странно.
– Что странно?
– Да нет, ничего, – тут же отмахивается она и опять качает головой. – Чего он только не знал! Странно. Или подвирал иногда? Моряк – с печки бряк! Мы его любили, конечно… Полмира обплавал. Перу, говоришь? Даже и там бывал? Что-то не верится. Наш военный флот туда разве заходил?
– Это не имеет значения. Если он сказал, значит – так, значит, был в Перу, был.
– Ну ладно, пусть так. А мы едем домой… Наконец… К морю с белым берегом и маяком… И еще с…
Но тут Эльма начинает путаться, делать паузы между словами, голова ее склоняется набок, и вскоре изо рта, как в детстве, когда мы спали на одной кровати, из уголка ее рта вытекает короткая слюнка, и я, как в детстве опять же, тихонько склоняюсь над лицом моей девочки-женщины и кончиком языка слизываю эту сладкую слюнку.
И почему она всегда была сладкой, я никогда не понимал.
На маяк
«Сходить на маяк» или «я пошел на маяк» – эти фразы были расхожими в нашем детстве. Тогда наш маяк уже не работал, то есть не светил по ночам, но дядька Адриан так и жил при нем в пристройке над скалистым обрывом, и в общем-то я ходил к нему. Мама это знала и относилась спокойно к моим или нашим с Эльмой походам туда, она была уверена, что подниматься на фонарь дядька Адриан позволит только вместе с ним, и верно, так всегда и случалось, пока я был маленьким, то есть лет до двенадцати.
От поселка до того берега, где скалистый обрыв с маяком, километра три-четыре. Этим и кончается наш полуостров. Верней, кончается он узким мысом, мысом Николая, и в конце его – Адрианов маяк. Там никого, только дядька Адриан. И почему он не перебрался в наш поселок, было непонятно. Однажды он сказал мне тоже нечто малопонятное. Дескать, хотя смотрители маяков и разнятся по возрасту, привычкам и жизненному опыту, но всех их объединяет тяга к свободной аскетической жизни.
Что такое аскетическая жизнь, я не понял, но кивнул. Аскет, догадался, – это как дядька Адриан. Так и запомнил на всю жизнь.
Кстати, меня он всегда называл строго по имени – Эльм, а Эльму – дочкой и лишь иногда Эльмой, и вообще, казалось мне, относился к ней как-то особенно, нежно, что ли…
Ладно, я пошел на маяк.
Три-четыре километра белой дорогой, по проселку в степи. Или не в степи? Бог знает, как называется эта местность. Почти голое пространство в складках. То ли холмы, то ли низкие горы. В общем, горки. Меловые, известковые. Это хорошо видно на обрывах, сбросах, когда обнажается поверхность. А что сверху? Низкие травы, вереск отдельными кустиками или иногда лилово-розовыми полянками, которые, говорил мне Адриан, называют верещатниками, а еще стелющийся можжевельник с прижатыми сучками и длинными пушистыми ветками. И кругом тучные кузнечики, а то, не знаю, саранча. Вот такое мое царство с белой дорогой посередине. Да, все белое: дорога, пыль, щебень, кузнечики или саранча. И над всем этим тугой, молочно-голубой купол парашюта, то есть небеса. Туда вбит серебряный гвоздь солнца со сверкающей шляпкой, и она метит прямо в глаза, так что лучше глядеть на белую дорогу.
Белая дорога сначала идет вверх, взбираясь на холм, к его вершине. Поэтому моря еще не видно. Только дорога, только упирающийся в небо холм, хотя, может, это и гора. Так с полчаса. Самая жара, полное безветрие. Жара, но я вполне, даже не потею, иду скоро, мне есть куда идти. Сандалии в белой пыли, из-под них выстреливают кузнечики. Щебень, комки сухой земли. Сухо, жарко, и я, очень загоревший, тоже сухой, с выгоревшими волосами, почти белобрысый, и ни одной дурной мысли в голове, ни одной печали. Протяжно и звонко в этом мире. Все стрекочет, гудит. Маленькая ящерка перебегает дорогу, чуть не наступил на нее.
Значит, так с полчаса. А ноги все-таки устали – вверх, вверх. Но наконец и вершинка. Сразу ветерок в лицо – и море, море. Белесое, чуть голубоватое, с едва угадываемой линией горизонта, где вода незаметно сливается с небом. Интересно, там птицы знают, что где? Но мне не до птиц – мне на маяк.
Вот он, торчит передо мной. То есть не то что передо мной, а впереди. До него еще минут пятнадцать, но теперь с горки, вниз. Торчит, будто некий восклицательный знак, вбитый в море. Ну да, отсюда так и кажется – в море, потому что самого скального берега еще не видно. Он, маяк, вровень со мной, ведь я и он – сейчас на одной высоте: я на вершинке горы, а фонарь маяка (или, если правильно, световая камера), что в тридцати метрах над морем, как раз на уровне моих глаз. Ниже фонаря хорошо видна сквозь голубоватое марево зноя цилиндрическая кирпичная башня маяка, расширяющаяся книзу. Но теперь, когда я иду к нему, спускаясь по дороге с вершины, он будет нарастать по высоте, а я как бы уменьшаться. Так мы и встретимся в конце концов: он – тридцатиметровый гигант в виде восклицательного знака, и я – метр с кепкой, десятилетний мальчишка с белобрысой башкой, а кепки на мне сейчас нет, мама достанет ее из сундука только к зиме. Кепка будет пахнуть проложенной от моли сушеной лавандой или душицей, так же как и свитер и зимняя куртяха, вкусно пахнуть.
Ладно, это зимой, а сейчас самое лето, и вон он, мой маяк. Хотя он не мой, а дядьки Адриана, но все равно мой. И еще немного Эльмы, если она увяжется со мной в очередной раз. Тридцатиметровая башня. Как и знаменитый Александрийский маяк. Это мне дядька Адриан рассказал. А кто ж еще! Что Александрийский маяк – он же Фаросский. Что он – одно из семи чудес света. Что его построили еще в III веке до новой эры в египетском городе Александрия. Что им пользовались еще греки и финикийцы: ночью с него далеко в море были видны языки пламени, а днем – столб дыма. Это был первый в мире маяк, и простоял он почти тысячу лет. Потом землетрясение, но арабы как-то восстановили его, и вот тогда-то высота стала тридцать метров. Как и у нашего маяка.
– А наш сколько стои́т, ты знаешь? – спрашиваю я у Адриана.
– Понятное дело, – отвечает он, сперва помолчав, как всегда, – понятное дело, знаю. Наш построили в девятнадцатом веке, а если точно, в 1872 году по приказу адмирала флота великого князя Константина. Знаешь такого? Ну вот знай! Стало быть, нашему маяку больше сотни лет. И ничего, держится. И еще бы держался, да, понимаешь, решили его законсервировать. Это дешевле, чем менять всю аппаратуру на современную, демонтировать, потом ремонтировать, новую аппаратную делать, новые линзы, новый дизель-генератор ставить. Ну и прочее. А еще надо на башне кладку менять. Что еще? Подъемник ставить. В агрегатной все переделать. И так далее. Вот и порешило начальство ничего не делать, маяк законсервировать, тем более что соседний, что на мысе Фиолент, то есть Виноградный, он в принципе теперь заменяет наш. Вот и вышел я в консервацию, или на пенсию.
– Да какая-такая пенсия, Адриан, ты ж еще в самом соку! – говорю я вполне искренне, без комплиментов, ибо пока не обучен их делать.
– А и то верно! – смеется он, отчего обветренное лицо покрывается сеточкой морщинок. – Верно говоришь, Эльм.
– А еще расскажи про древность, – прошу его, имея в виду маяки.
Помолчав, как всегда, Адриан рассказывает:
– Значит, так. Нынче самый древний маяк из действующих построен еще при римском императоре… э, как его?.. да, при Траяне. А это, парень, второй век новой эры. Вот такие кильки-фильки! И где ж такой? А в Испании. Есть там провинция, называется красиво – Ла-Корунья, о как! И называется тот маяк тоже о как – Башня Геркулеса. Не слабо, правда?
– А высота его какая?
– Ну что высота, далась тебе эта высота! Ну ладно, скажу и про высоту. Значит, так. Сам маяк высотой в пятьдесят пять метров, но! Но стоит он на скале, высота которой почти шестьдесят метров. Значит, суммируем. И что? А то, что над водами Атлантического океана его фонарь – на высоте в сто пятнадцать метров. Вот такие кильки-фильки, понял, Эльм!
– Клёво, сто пятнадцать метров! – качаю я белобрысой башкой. – Надо будет Эльме рассказать. Хотя что ей, девке, до этого.
– Не-не, это ты верно, расскажи ей, пусть знает, – кивает дядька Адриан, вздыхает и замолкает, щурясь на море в пляске солнечных бликов.
Так мы молчим довольно долго. Потом я прошу:
– Полезем наверх?
– Солнце сместится на двадцать градусов – вот тогда. Сейчас солнце прямо в фонарь, он бликует, там внутри слепит.
– Как птиц ночью?
– Ну почти.
– Хорошо, поднимемся через час. А пока спой мне твою песню про птиц.
– Это вечером – вот тогда.
Да, всё у Адриана по своему расписанию. Моряк. Привык к судовому распорядку – когда что, и никаких вольностей.
Тогда я сам затягиваю эту его песню, давно мной любимую. Голос у меня еще тоненький, не ломался пока, поэтому поначалу Адриан косится на меня и улыбается, слушая.
Птицы не любят свет маяка.
Свет маяка – то любовь моряка:
ночью, в тумане, издалека
ждут капитаны свет маяка.
Птицы не любят свет маяка,
Он их слепит, им бы прочь от греха,
Но, не услышав мудрый совет,
птицы упрямо стремятся на свет.
Как это так – не любить, но всегда
к свету лететь темной ночью, туда,
где, как манящий гибельный знак,
светит маяк, светит маяк?
Вот такая Адрианова песня. Печальная. Но он мне объяснил: маяки – они для людей, а не для птиц. Ничего не поделаешь. Если одним хорошо, то другим плохо. Закон жизни на земле и так же – на море. Я это понял. И то, что эту песню вообще-то написал какой-то старый пират, тоже понял, верней, сразу поверил в это. Вот только конец… ну про «как это так?» То есть как это – не любить, но лететь на манящий свет, который, выходит, погибельный? Как мотыльков притягивает к раскаленной лампе, что ли?
Вечером Эльма мне шепчет:
– Мама узнает, что ты опять школу прогулял, влетит тебе!
Понятно, этот наш разговор происходит уже осенью. Лето прошло, но еще очень тепло и дожди редко, ночи темные, звездные, созрели поздние абрикосы, инжир и невероятно вкусные яблоки «кандиль синап» (Адриан утверждает, что «синап» – это искаженное название турецкого мыса Синоп, а вот что такое «кандиль», бог знает, вернее Аллах).
– Мама узнает, что ты опять школу прогулял, влетит тебе! – шепчет Эльма.
– Так пусть не узнает!
– Пока – да, а как родительское собрание в конце четверти? Ты что, не можешь после уроков ходить на маяк?
– Ладно, отстань!
– Сам дурак! Ну а что тебе Адриан рассказывал сегодня? А на фонарь поднимались?
Так у нас с Эльмой всегда. Вообще-то мы любим друг друга. Но пока еще как кошка с собакой. Это понятно. Брат и сестра. Да не просто, а близнецы. Похожи до жути. Если Эльму переодеть в мужское и забрать длинные волосы под кепарь, а челку отстричь, то вылитый парень – я. Ей-богу. Она, Эльма, еще плоская, как мальчишка, худая, как трость, подвижная, резкая. Как я. Это потом, через несколько лет, она вдруг изменится-переменится, и уже никто не примет ее за пацана, хотя похожими мы останемся, похожими до жути и лицами, и фигурами – высокие, стройные, ладные, пластичные. Это потом, но любить друг друга мы будем всегда, и это не шуточки.
А тогда… Школа, значит. Прогулял. И что? Это запросто. Это делалось так. За нами по утрам заезжал нанятый школой автобус, пазик-развалюха, который собирал детвору с трех окрестных приморских поселков и вез в школу, что была в Воронцове, в глубине нашего полуострова. Ха-ха, полуострова на полуострове, вот такая у нас география, кильки-фильки!
Ну понятно, мы с Эльмой шли к улице, где почта, – там был сбор наших, туда и подъезжал пропыленный пазик. Взрослых – никого, окромя водителя. Я подсаживал Эльму на ступеньки, а сам обходил автобус – и деру. И на маяк. Вот и все. Вроде я был, но меня уже и нет. Если кто-то из наших местных видел меня у пазика – значит, я был. И для Эльмы я был – она меня никогда не выдавала, а уже в классе отвечала учительнице, что у меня температура и понос – похоже, дичками яблок обожрался или инжиром с земли. Странно, учительница ей верила, не ругалась, но в конце четверти могла указать маме, что я часто с поносом и еще спасибо, что учусь вполне сносно, а то бы… Поэтому и мама меня не особо ругала, это Эльма больше для профилактики говорила, чтобы я умерил пыл. А еще она ревновала, я знал. Ревновала, что я один сматываюсь на маяк к Адриану, без нее. А учился я, между прочим, хорошо, а почему? Это Адриан мне втолковал, что надо многое знать, а быть тупым неучем – грех, это совсем неинтересно в жизни. И я ему, как всегда, поверил. Какие истории он знал! И какие моря исходил! А это, повторял он мне, без образования никак нельзя. Во как, значит.
Темным вечером, но еще не ночью, когда мама гасила свет в горнице, где спала (а ложилась она всегда не поздно, поскольку ей вставать рано на работу), я прыгал со свой кровати в Эльмину, и мы, уже под одеялом натолкавшись острыми коленками и локтями, начинали шептаться. Так бывало обычно после моих походов на маяк. Я рассказывал Эльме, как там было в этот раз и что мне говорил Адриан. Что рассказывал. Она слушала, потом задавала разные вопросы. Шепотом. Так мы шептались еще с час, а после я шел к себе в кровать. И сразу засыпал. Но иногда Эльма засыпала, еще когда я лежал с ней рядом, и это было смешно, потому что она начинала тихо посапывать и из уголка ее рта показывалась слюнка, которую я видел во тьме и, увидев, почему-то осторожно слизывал кончиком языка. Сладкая слюнка была у Эльмы! А иногда в такой момент мне хотелось поцеловать ее. В острый носик или в щечку. Но я боялся, что она проснется. И, слизав ее слюнку, тихонько перебирался к себе. И, да, тоже сразу засыпал.
А в тот раз я пересказал моей сестрице-близняшке услышанную от Адриана легенду о бристольском башмачнике.
Вообще-то речь шла о смотрителях маяков, к коим принадлежал и сам Адриан долгие годы, пока его не «законсервировали». О том, что всех их объединяет тяга к свободной аскетической жизни. И вот – легенда о бристольском башмачнике. Этот человек, сказал Адриан, однажды ушел из родного Бристоля и отправился служителем на Эддистонский маяк. А маяк этот был зажжен более трехсот лет назад в проливе Ла-Манш, недалеко от порта Плимут, где полно скал, и находится он в море на удалении десятка миль от берега. А почему отправился служить именно туда, на маяк? А лишь только потому, что ему надоела городская кабальная жизнь в мастерской за шилом и колодками – в общем, тачать сапоги и башмаки надоело, и так каждый день, каждый день!.. И вот он уже служитель на Эддистонском маяке. Свобода! Но тяжкая жизнь. Ведь ему, бедолаге, во время затяжных штормов, а еще и в одиночку, не раз приходилось страдать от голода, когда он питался даже сальными свечами. И от страха страдал, особенно когда ураганы сотрясали каменные стены башни, а море перебрасывало тяжелые волны через фонарь маяка. Но все равно потом этот бывший башмачник уверял: «Даже в эти ужасные дни я чувствовал себя по-настоящему свободным человеком».
– Здорово! – шепчет Эльма и стискивает мне плечо. – Но страшно-то как! Ночью, один, в бурю, волны через фонарь – ужас, Эльм, да? Ты бы так смог?
Я сразу не отвечаю, делаю паузу, как Адриан, и наконец говорю твердо:
– Смог бы.
И тут Эльма смеется тихонько:
– Ой, брехло! Он смог бы, ха, кишка тонка!..
Что спорить с глупой девчонкой! Это недостойно мужчины, будущего моряка. Кажется, так.
Мы еще шепчемся минут десять, и вот Эльма, слышу я во тьме, начинает посапывать. А вскоре из уголка ее рта вытекает сладкая слюнка. Ну про это я уже говорил.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.