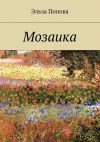Текст книги "Убить цензора! Повести от первого лица (сборник)"

Автор книги: Борис Горзев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
Поезд, поезд…
Эльма будит меня. Неохота вставать, я отмахиваюсь от ее назойливых рук, готовых, как в детстве, приняться за щекотку. Продираю глаза – и сразу запахи, мои родные запахи, и в центре их – она, Эльма.
– Отстань! Тебе сколько лет, дуреха!
– Мне? Ну восемь. Нет, семь!
– Во-во, похоже… А сколько времени? И где мы? – Я поднимаю голову, гляжу в окошко.
– Время в соответствии с расписанием. А по расписанию сейчас будет Белгород. В восемь сорок, если верить вывеске в коридоре.
– И дернул же тебя черт подняться так рано! Еще нет девяти.
– Эльм, ну хватит, вставай, иди умойся – и завтракать. А я чай принесу. Иди, иди!..
Вскоре мы сидим напротив друг друга за купейным столиком, едим бутерброды, яйца, холодную курицу, пьем жидкий поездной чай. Все традиционно, ничего не меняется в мире странствий по нашей земле.
Я поглядываю на Эльму. Она тоже не меняется. Тридцать лет женщине, а все такая же. Какая? Как тогда. Она права: ей лет семь-восемь. Нет, все-таки лет четырнадцать-пятнадцать, когда она вдруг обернулась девушкой со всеми положенными опознавательными знаками. Да, точно, лет пятнадцать. Во мне ей именно столько, несмотря на бледность лица, уже не сочные губы, отсутствие челки и присутствие тонкого белесого шрама на подбородке справа, ниже губ. Последняя мета – дело рук отнюдь не моих и не из нашего детства.
Уже миновали Белгород и следом Харьков. Малороссия. Теперь на очереди Лозовая. Это для невнимательного глаза ничего не изменилось, а я вижу даже через стекло: Малороссия. Уже почти пирамидальные тополя, воздух другой, запах другой. Это я тоже через стекло чувствую. Я такой. На маленькой станции, где стояли две минуты, горластая бабка пыталась всучить мне длинные малосольные огурчики «под горилку» и назвала меня «гарний хлопець». Вот это комплимент! Но выговор какой чудесный! Пришлось взять пару малосольных, обернутых в укропный лист, и за то не пожалеть десятку. Теперь придется покупать горилку. Так и сообщил Эльме, вернувшись в купе, – дескать, есть повод выпить. Как это какой? За хохлушку-бабку. Закусь есть, а где питье? Вот в Лозовой и куплю. Эльма покачала головой, разбросав по сторонам длинные волосы, и усмехнулась: «Уж если горилку тебе приспичило, то лучше в Запорожье или Мелитополе, там прямо на перроне бабы базары устраивают – фрукты всякие, овощи, вяленая рыба, прочая снедь, ну и вино, конечно, и водка тоже. Понял?» Ну понял, конечно, дело нехитрое. А откуда ты тут все знаешь, удивляюсь, ты ж тут сто лет не была, пришвартовавшись в своей Дании? Ах, пардон, в королевстве Швеция! Ну да один черт!..
В Мелитополе, купив на перроне вожделенную горилку, прошу Эльму приготовить стол.
– Да пожалуйста! – она принимается доставать еду из сумки. – И что, будешь пить в одиночку?
– А ты?
– Я? Эту водку? Ты что!
– Ну тогда я один. Я всегда один. После тебя.
– А, так! – и поводит плечами. – Алкаш!
– Ничего подобного, сама знаешь. Вот приедем домой, купим нормального крымского муската. Белого муската под названием «Ливадия». Помнишь? Ты его любила.
– Помню. С оттенком изюма. Янтарно-золотистый. Помню. С тех пор не пробовала.
– Что ж в твоей Дании, то есть Швеции?
– Эльм, хватит!
– Ладно, хватит. Ну, пью. Ага, в одиночку. Значит, за бабку-хохлушку. А вторую – за тебя. Вот же жизнь – всю жизнь пить за тебя!
– Эльм!
Я отмахиваюсь от сестрицы и наконец опрокидываю стаканчик. Забористо, да! Сразу наливаю еще и опять выпиваю. Потом хрущу бабкиным огурчиком. Вкусно! Потом ем опять же холодную курицу. Вот мне и хорошо.
– Закурю, не возражаешь?
– И мне дай сигаретку, – тянет руку Эльма.
Даю. Это она в своей Швеции пристрастилась после некоторых событий, а раньше никогда не курила.
– А, вот что вспомнил, – говорю, – по ассоциации вспомнил, там, в Мелитополе. Есть такая легенда опять же. Будто в античные времена там была колония, которая так и звалась «Мелиополис». Хотя у Плиния эта колония указана на Днепре, а не тут. Странно.
– Все равно название греческое, – вяло соглашается Эльма. – Мелитополь значит «медовый город». И что? Какая у тебя ассоциация?
– А, да! Именно про древнегреческое. Имя Адриан тоже оттуда.
Тут Эльма оживляется и, как в детстве, крутит пальцем у виска:
– Привет! Адриан – это никак не греческое, а латинское мужское имя! Латинское, или древнеримское, понял? Оно произошло от Hadrianus, что значит «адриатический», то есть человек, который родом с берегов Адриатического моря. Истинно морское имя, прямо для нашего Адриана. Но – римское, запомни, братец!
– Во как! – Я с ходу верю, ибо тут с Эльмой можно не спорить: спец по языкам. – О’кей, запомню. А наши имена…
– Ну тут Адриан был прав, когда объяснял нам, откуда они. Помнишь?
– Естественно. Что-то старонемецкое. Точнее, германское. Эльмо. Он – Эльмо, она – Эльма. Откуда-то с Северного моря. Дескать, небесный покровитель мореплавателей, защищает от бурь и морской болезни. Так говорил Адриан. И еще говорил про Огни святого Эльма, помнишь? Как они появляются на мачтах и почему. Разряды в виде светящихся кисточек. Напряжение электрического поля в атмосфере, вот так! Перед грозой или бурей. А это верный прогноз! Быстро убирать паруса и прочее. В общем, морские дела. Но главное, появление этих огней сулило морякам надежду на удачу, а в шторм – на спасение. Так что мы с тобой – надежда на удачу. И, думаю, даже на двойную удачу и спасение, поскольку мы близнецы и оба Эльмы. Вот как!
– Да, мне это нравилось еще тогда. Кто мы с тобой. Забавно и красиво. Ни у кого, наверно, во всей стране не было и нет таких имен. Да?
– Ну Эльмира есть, Эльмар. Что-то близкое, но…
– Но не то, не то!
– Конечно, не то, – соглашаюсь я. – А вот как маму угораздило такие имена нам дать, до сих пор ума не приложу! Сто раз спрашивал ее, а она только смеялась. Есть такие имена, есть, отвечала, ты вот у своего дядьки Адриана спроси! Он должен знать, старый моряк, хоть и бывший.
– Да, моряк – с печки бряк, – опять по-детски проговаривает Эльма и дальше замолкает как-то грустно, опустив уголки губ.
– Ты что? – вопрошаю.
– Ничего, все нормально. Ты пей свою гадость, пей.
– Ой, нехорошо глаголете, барышня! Про горилку – и так! Площадно, гадостно, ей-ей.
Эльма вскидывает на меня глаза и улыбается. Как я люблю, когда она улыбается! Прямо сердце оттаивает.
– Ты вот что, дорогой. Через пару часов Джанкой, ты спать ложись после твоей благородной водки. Поспи, а то Джанкой, а потом еще сотня километров, и мы уж и на месте.
Ясно. И верно, прилягу, сосну час-другой. Как раз Сиваш будет. Знаковое место: когда еду сюда, стоит увидеть Сиваш, так сразу и понимаю – все, я дома! Справа Сиваш, слева Сиваш, то в одном окне, то в другом. Я дома. Переехали перешеек – будто границу пересек, отделяющую взрослую жизнь от детства. А детство и есть дом, родной дом. Личный рай, где все было и осталось моим. Дом, где жил, где Адрианов маяк, могилы родителей. Вот только проехать Сиваш, и все. Для кого-то это Гнилое море, а для меня – родное.
Впрочем, мне любое море родное. Я моряк. И не с печки бряк, как шутит моя Эльма, а вполне настоящий. Как когда-то и Адриан. Но я – по «классу торгового мореплавания», если по-старинному. Или по классу судовождения, как называлось в моей мореходке. Еще не дорос до капитана дальнего плавания, но это не за горами, дорасту. Сегодня – старпом. Порт приписки – Одесса. Там и живу, а точней, бытую. А домой сейчас еду – ну как левой рукой чесать правое ухо: на свое же море из Одессы, но через Москву. Там я Эльму встречал после ее прилета из Стокгольма, где она живет уже пять последних лет. Теперь тоже одна, как и я. Почему одна? А развелась недавно. И молодец, правильно сделала, с самого начала было мне ясно, что…
– Эй, Эльм, поднимайся, мальчик мой, – слышу сквозь вату сна, – уже Сиваш, ты просил.
Да, пора вставать, если уже Сиваш. Но главное в том, что она назвала меня «мальчик мой». Как же давно я не слышал этого. Вот такие кильки-фильки!
В Севастополе, прямо на привокзальной площади, мы взяли такси и поехали к себе на Сарыч. Это около тридцати километров. Когда подъезжали к поселку, стало уже совсем темно, светились только окна домов, да ярко горел одинокий фонарь на площади у почты. Я охватил руку Эльмы выше локтя и легонько сжал ее. Потом склонился к самому уху и проговорил полушепотом, чтобы не расслышал водитель спереди:
– Дай мне слово, что будешь спокойна, когда войдем в дом.
Эльма будто прочистила горло и ответила почему-то по-английски:
– I'm safe. I am always at peace with you.
Это чтобы водитель не понял, так я догадался. Но я-то понял, кажется. Если не все дословно, то смысл: «Я спокойна, я всегда спокойна с тобой». Так, да? Ну и славно. Я-то знаю английский чуть-чуть, на бытовом уровне и профессионально-моряцком, когда общаешься в загранке с лоцманами и работниками портов при разгрузке-погрузке. А вот Эльма! Эльма у нас знаток, профессионал: Иняз закончила, вышла замуж за иностранца, пять лет прожила в Швеции, но общалась там в основном на английском. «Даже ночью в постели?» – сдурил я однажды, в ответ на что получил шутливую затрещину. Да ладно, ну пошутил, и что? Теперь-то мне все равно, как она со своим шведом занималась любовью, что говорила или шептала при том. Теперь мне все равно, ибо она развелась. Теперь я уже не ревную. Теперь мне важно, чтобы она была спокойна. Когда войдем в наш дом. Где теперь пусто, необжито, пахнет сыростью, собачка наша Хан не побрехивает у крыльца, кошка Милка не дрыхнет у печки, недоумевая, почему сверчка слышно, но не видно. Мне важно, чтобы Эльма была спокойна и не убивалась по покойной маме, как тогда. А тогда она сказала, глотая слезы: «Всё, больше не могу, теперь сюда – никогда!» Это после похорон было.
Мы дома
Утром медленно пьем кофе, сваренный на электроплитке (баллоны с газом давно отключены). Хороший кофе, его Эльма привезла из своей басурмании – красочный пузатый пакет, полный невероятно пахучего, темно-рыжего порошка. Вот напьемся и пойдем. Куда? Сегодня у нас два маршрута: на кладбище, потом, понятно, на маяк.
А что было ночью? Да ничего. Приехали, прошли в дом, я ввернул пробки, везде зажгли свет, стало светло наконец, потом пообвыклись, будто попали сюда впервые, а не прожили здесь полжизни. Мелко перекусили с чаем. Потом легли спать – Эльма в бывшей нашей детской (потом ее комнате), я у себя на веранде, где спал последние годы, пока мы жили тут, после того как мама разделила нас, повзрослевших. Сколько нам исполнилось тогда, когда маме пришло это голову? Лет по пятнадцать, кажется. Но было уже поздно, да только мама не догадывалась. Ах, мама!
Значит, так и легли, Эльма там, я тут. Лежал и задавался вопросом: интересно, она думает об этом, обо мне, о том, приду я к ней или нет? А я пришел бы, я хотел этого. А она – думала так, хотела? Не знаю. Я боялся, что ей тяжело. Что всего может оказаться слишком. И потому не пошел. Я очень боялся за нее. Чтобы она не сорвалась, не впала в прострацию или, наоборот, истерику. Пусть уснет без меня.
И вот утро. Эльма спокойна, даже улыбается иногда. Слава богу. А я? Я, как всегда, в норме. Внешне, во всяком случае. Я – ее защита, я должен быть твердым, надежным. Как это вчера она сказала в машине, по-английски: «Я всегда спокойна с тобой». Вот именно. Таким я должен быть. Такой и есть. С тех пор, когда…
Наше кладбище прямо за поселком, за ближней горкой, поверху которой белеет остов полуразрушенной церкви. Вот ниже нее, под склоном, маленькое кладбище. Покрашенные серебристой краской оградки, могилы, присыпанные белой пыльной щебенкой, где с надгробными плитами, где просто с дощечками. Кресты редко. Ни одного деревца. Сухо.
Мамина могила без креста, но с плитой. Это мы с Эльмой ставили. Там написано одно слово – «Мама», а ниже – дата рождения, и все. Будто даты смерти не было. Так мы с Эльмой решили. Будто странное бессмертие. Мама бессмертна, сказала тогда Эльма, и я согласился. Правильно сказала.
А рядом – могила Адриана, и тоже без креста. Там тоже одно слово на большом камне – «Адриан», но со всеми положенными датами. Он умер уже после мамы и незадолго перед смертью, рассказывал мне наш сосед по поселку, просил, чтобы его схоронили здесь, а не у маяка, и чтобы недалеко от мамы, поскольку, говорил, был дружен с ее детьми, близнецами, которые теперь разъехались, вот, дескать, пусть знают, когда вернутся, что мы все по-прежнему вместе. Да, мы все в одном месте, это точно, хотя теперь меня и Эльму разбросало по свету. А уже много после, когда после армии я учился в одесской мореходке, приехав сюда, поставил этот камень, найдя его рядышком на горе, а местный умелец отшлифовал его сбоку и сверлом бормашины сделал надпись. В общем, Адриан рядом, мы вместе.
По дороге сюда Эльма нарвала вереска и можжевельника и теперь положила на могилы. Это надолго, ибо хвоя. Потом уселась на могилу Адриана, попросила у меня сигарету. Я присел рядом. Закурили. Она хмыкает:
– Это ничего, чтобы мы задами прямо на могиле?
– Это хорошо. Это наши зады. Тем более ни лавочки, ни скамейки. Нормально. Мы свои.
– Ну-ну. Ну так…
Сидим, курим. Тут, за горой, безветренно, знойно. Но – наш зной, крымский, от которого не потеешь почему-то. Сухой я, сухая Эльма. Я охватываю ее голую руку ниже плеча. Прохладная кожа. Скоро она станет загорелой, после северной Швеции это быстро… Вдруг говорю:
– Странно, что он захоронился здесь, в поселке, а не возле маяка, как когда-то сам планировал.
Эльма только поводит плечами, молчит.
– Но это тоже хорошо, – продолжаю, – так мы действительно вместе – мама, Адриан, а потом… потом и мы с тобой.
Она говорит раздраженно:
– Не хочу умирать, боюсь.
– И верно. Не будем. Но все равно мы вместе, – и продолжаю про то, о чем думал не раз: – Странно, но понятно. Отца здесь нет, а надо бы. Но понятно, почему нет. Он погиб в море, а если в море, то море и приняло его, там его могила, там. Это морской закон. Для моряка и для рыбака.
– Да, – соглашается Эльма, – странно, но понятно.
– Они погибли в шторм, ты знаешь, – продолжаю я, имея в виду рыбаков их катера. – Все восемь мужиков.
– Знаю, знаю, – опять раздраженно произносит она. – Хватит об этом.
– Хорошо, не буду. Но как складывается бессмертие, да? Мы с тобой родились ровно через девять месяцев после его гибели, мама говорила.
– Знаю, говорила, – кивает Эльма, глядя куда-то вдаль, и щурит глаза.
– И значит, он нас с тобой зачал, а назавтра или послезавтра… или через неделю пошел в море с рыбаками за кефалью, и они попали в тот самый шторм. А мы родились. То есть он успел. Как бы в последнюю минуту. Зачал нас – и погиб.
Эльма молча поднимается, отряхивает короткую юбку от белой пыли, смешно охлопывая свой задик, и идет от наших могил. Нагнав ее, я беру за руку, как в детстве. Она сжимает мне пальцы, тоже как в детстве.
– Ты как? – спрашиваю ее в некоторой тревоге.
– Нормально. Теперь идем на маяк…
И дальше – как в детстве опять же, как в юности – как всегда. Три-четыре километра белой дорогой, по проселку в степи. Или не в степи? Бог знает, как называлась эта местность. Почти голое пространство в складках. То ли холмы, то ли низкие горы. В общем, горки. Белая дорога идет вверх, взбираясь к вершине. Моря еще не видно. Только дорога, только упирающийся в небо холм, хотя, может, это гора. Так с полчаса. Самая жара, полное безветрие. Мои сандалии и Эльмины туфельки в белой пыли, из-под них выстреливают кузнечики, а то и саранча. Щебень, комки сухой земли. Все бело, протяжно и звонко. Все стрекочет, гудит. Маленькая ящерка перебегает дорогу.
Так с полчаса. Наконец и вершина. Сразу ветерок в лицо – и вот оно, море, море. Белесое, чуть голубоватое, с едва угадываемой линией горизонта, где вода незаметно сливается с небом. Интересно, там птицы знают, что где? Ну ладно птицы, а нам – маяк. Вот он. Стоит, никуда не делся. Тридцатиметровая цилиндрическая башня – будто восклицательный знак, вбитый в море. И у меня, чувствую, забилось сердце и ладонь вспотела. И у Эльмы, кажется, тоже.
Вот и пришли, вот и встретились в конце концов.
И тут вдруг Эльма плачет. Тихо, беззвучно. Это я вижу – две струйки сбегают по ее худым щекам, она размазывает их пальцами, произнося: «Вот черт!»
Мы спускается к пристройке прямо под маяком, где прежде жил Адриан, и там усаживаемся на его лавочку. Море слепит, жарко, сухо. Эльмины слезы давно высохли. Я достаю из пакета пластиковую бутылочку минералки, специально прихваченную из дома, и протягиваю сестре. Она свинчивает крышку, делает пару глотков, отдает мне. Вот и славно, пришли, встретились, сидим. Только Адриана нет, что странно, непривычно. И еще странно, но привычно: на сучке старой яблони перед его домиком-пристройкой все еще висит самодельный мешок-груша, на котором Адриан давал мне уроки бокса, а точнее, обучал одному главному удару —, удару в нужную точку подбородка противника. «Драться нехорошо, мальчик Эльм, но в крайних случаях надо уметь постоять за свое достоинство, – говорил он мне. – Смотри, как это делается – держать достоинство. Это делается не столько кулаком, сколько плечом, всей рукой, начиная с плеча. Коротко, но сильно, резко. Отступил на полшага, и всей рукой, начиная с плеча, коротко и резко. Один удар – и все. Смотри – вот так. Вот так, понял? Ну-ка, давай!» Однажды я воспользовался этим уроком. С тех пор, кажется, сто лет прошло. Адриана уже нет, я стал взрослым, странствовал по свету, а мешок-груша все висит. Обучение держать достоинство. И маяк так же высится. И море то же.
Да, маяк так и живет законсервированным, понимаю я, вглядываясь. Никого там нет, вход закрыт наглухо, внутрь не попадешь, на фонарь не поднимешься. Жаль, но что ж… Тишина какая! И как у поэта: «Вместо слабых мира этого и сильных – лишь согласное гуденье насекомых». Только мы и тишина, маяк, море и небо, старая яблоня, на которой по-прежнему висит самодельный мешок-груша.
– Ладно, рассказывай – вздыхает Эльма, будто сбросив груз с сердца.
– Что рассказывать?
– Рассказывай рассказы Адриана. Как раньше. Хочу совсем вернуться.
Понятно. Я откашливаюсь. Сухо во рту. Делаю глоток из бутылки.
– Ну так… Про самый древний маяк на свете ты помнишь? – Эльма кивает, и я продолжаю: – Так, а про Александрийский? Ага, тогда начнем с нашего, который здесь, на Сарыче, а точнее – на мысе Николая. Мыс Николая – он, думаю, в честь императора, и это самая южная точка Крыма. Южнее нету. От этого мыса до Турции, до мыса Керемпе на Анатолийском побережье, ровно сто сорок две мили, это я тебе как капитан говорю. А еще скажу тебе, забойному лингвисту, что в ходе Первой мировой войны именно здесь, у Сарыча, был морской бой между русской эскадрой и немецкими крейсерами «Гебен» и «Бреслау», это нам в Одесской мореходке рассказывали по истории военного флота, и наши им, германцам, здорово врезали, потому что командовал тогда Черноморским флотом адмирал Колчак, он лично руководил тем сражением на линкоре «Императрица Мария». О как!
– Этого раньше ты мне не говорил, – замечает все помнящая Эльма.
– Ну так я узнал про это, когда уже учился в мореходке, а ты училась в Москве, в своем Инязе.
– А, ну ясно. Продолжай.
– Продолжаю. Значит, маяки. Уже от Адриана. Легенду о бристольском башмачнике помнишь? Отлично, дальше. Про старые маяки. В них источником света были керосиновые лампы, а вращение линз шло с помощью часового механизма с пружиной, а то и грузом, который надо было просто тянуть вниз или в стороны, то есть силой рук смотрителя маяка. Класс, да? После, через годы, вращающиеся зеркала и часовой механизм приводили в движение уже за счет электричества – или от солнечных батарей, или от дизель-генератора. То есть ставили небольшую электростанцию около маяка, а ток от нее шел в агрегатный отсек внутри маяка. А для того чтобы создать сильный источник света, использовали помимо керосина каменный уголь или рапсовое масло. Или вот, это я из Грина цитирую: «Стеббс, сторож Лисского маяка, покончив с фонарем, то есть наполнив лампы сурепным маслом, сошел в нижнее помещение». Значит, еще использовали и некое неизвестное мне сурепное масло. Но звучит приятно, согласись.
– Ну так это же Грин! – соглашается Эльма. – А сурепное масло, чтоб ты знал, темный человек, получают из сурепицы, это в основном техническое масло, то есть для технических нужд.
– Мерси, просветила… Так, дальше. Ну про знаменитые линзы Френеля ты знаешь, я тебе про них уши прожужжал когда-то. Это изобретение 1820 года, насколько я помню… Так, маячные огни. Это уже лампы накаливания, светодиоды, а сами огни маяков бывают постоянными, или проблесковыми, или группопроблесковыми, или постоянными с проблесками, или постоянными с группой проблесков. Вот так-то, ясно?
– Ну более или менее.
– Все просто, девочка! Говорю как по учебнику, хотя о том же мне рассказывал еще Адриан: применение источника, сила света которого меняется по определенному закону, дает возможность создать для каждого маяка определенную световую схему. Она и позволяет капитанам кораблей идентифицировать маяк. К примеру, наш маяк, вот этот, Адрианов, давал вспышки с интервалами в две с половиной и семь с половиной секунд. И такая частота на всем Черном море только одна – тут. Ну, была тут. А, например, главный маяк Стамбула, который называется «Румели», это огромная восьмиугольная башня, сам видел, дает вспышки с интервалами и частотой…
– Эльм, ну хватит физики! – перебивает Эльма. – Мне лирики можно?
Я обнимаю ее, целую в щеку.
– Можно и лирики. Страшные случаи, легенды, да? Это Адриан любил особо. Какой же старый морской волк их не любит! Значит, слушай. «Остров сокровищ» помнишь?
– Ты за кого меня держишь, Эльм, черт возьми!
– За самую-самую мою, черт возьми! То есть за себя же… Ладно, так. В архивах британского Адмиралтейства хранится рапорт Роберта Стивенсона, деда знаменитого писателя Стивенсона. Да, дед тоже был знаменитым, но не писателем, а строителем маяков. Вот что было в том его рапорте после инспекторской поездки на один из островов Ла-Манша. Он писал: «Маяк на скалах Каскетс хуже всех, которые я осмотрел. И я настоятельно рекомендую заменить на нем фонарь и ревун. Можно содрогнуться от одной мысли, что там может произойти, если это не будет сделано». Однако бюрократы-чиновники проигнорировали предостережение Стивенсона. А море, как ты знаешь, не прощает ошибок: Так вот, под пасху 1899 года Великобритания была потрясена «пасхальным кораблекрушением», как его потом назвали: на скалах Каскетс разбился пароход «Стелла», потому что капитан в густом тумане не увидел огня маяка и не услышал сирены. И результат: погибло более сто двадцати человек.
– Ты мне об этом не рассказывал, – удивляется Эльма.
– Берег твою возвышенную душу. Еще хочешь?
– Хочу.
– Тогда про таинственное исчезновение, про самое-самое. А самым таинственным было исчезновение одновременно трех смотрителей маяка на островах Фланнана в 1900 году. Это, чтоб ты знала, Внешние Гебриды, или Западные острова, в северо-западной части архипелага около Шотландии. Были три смотрителя на маяке – и вдруг исчезли. Приехала комиссия, искали неделю – никого! Посчитали, что их сдуло ветром с утеса или они утонули, когда пытались починить подъемный механизм маяка… А вот еще случай, но уже у нас, в Крыму. Знаменитое землетрясение 1927 года, самое сильное в здешних местах, когда мощные башни Херсонесского и Тарханкутского маяков раскачивались, как стволы дубов, но, к счастью, выстояли. Во как строили при царе! Смотрители же оставались внутри и наблюдали из фонарных отсеков нечто невероятное: далеко в море, между Севастополем и мысом Лукулл, пролегла огромная огненная полоса. Ее даже сфотографировали, я потом видел эти снимки в архиве. Полное впечатление, что горит море… Тогда не поняли, как это так. Загадка, и все.
– А теперь понятно? – усмехается Эльма.
– Более или менее. Думаю, некие атмосферные электрические эффекты. Или геомагнитные. Как и в случаях с НЛО. Видим непознанное и придумываем загадку. Вот и Адриан говорил мне: чудес не бывает, бывает непознанное. Землетрясение, колоссальный выброс энергии в море, в атмосферу над ним. А чего ты усмехаешься?
– Ты еще мудрей Адриана. Нет, шучу. Ты молодец, спасибо, правда интересно. А теперь расскажи мне про птиц. Ну ты понимаешь.
– Это грустно, в другой раз.
– Ладно, в другой. Тогда спой мне Адрианову песню.
– Тоже грустно.
– Ни-ни! Она очень мудрая, особенно в конце.
– Там в конце – знак вопроса, а мудрость – знать верный ответ.
– Иногда поставить нужный вопрос – это тоже знак ума, а ответ кто-то отыщет.
– Елки-палки, это кто ж из нас мудрый? Ах да, забыл: ты – это я, а я – это ты… Ладно, спою.
Птицы не любят свет маяка.
Свет маяка – то любовь моряка:
ночью, в тумане, издалека
ждут капитаны свет маяка.
Птицы не любят свет маяка,
он их слепит, им бы прочь от греха,
но, не услышав мудрый совет,
птицы упрямо стремятся на свет.
Как это так – не любить, но всегда
к свету лететь темной ночью, туда,
где, как манящий гибельный знак,
светит маяк, светит маяк?
Дослушав, Эльма качает головой и вздыхает:
– Это как мы с тобой, Эльм. Летим на свет маяка. Не как птицы, а как мотыльки к раскаленной лампе. Что будет – ясно.
Я молчу. Я, как Адриан делал обычно, беру долгую паузу.
– И мне ясно, – говорю наконец. – Если мы не мотыльки, а все-таки птицы, то… Ведь люди придумали в конце концов, как спасать перелетных птиц. Оказалось важным подсвечивать небольшим светом сам маяк. Тогда птицы видят не только источник света, который их слепит, а весь маяк полностью и не налетают на него. Всего-то! Значит, ты – мой источник света, мой свет маяка, но я вижу весь маяк, стремлюсь к нему, но не слепну. Поняла?
Она молчит, поводит головой. Потом встает с лавочки:
– Эльм, Эльм!.. Ладно, пошли обратно. – И оборачивается к маяку: – Пока, Адриан, еще увидимся, я надеюсь. Я люблю тебя. Я опять дома, видишь…
Когда мы вернулись в поселок, Эльма направилась домой, а я пошел в магазин за мускатом. Повезло – мой любимый белый мускат «Ливадия» имел место быть. Я отер пыльную бутылку ноль-семь, купил еще кило винограда, жирных синих слив, фундук – и к дому.
Эльма возилась у плиты, а я встал под душ в саду, предварительно наполнив холодной водой из садового шланга старую ванну, издавна служившую нашему семейству резервуаром для стирки и умывания. М-да, подумал, надо менять это полугнилое хозяйство на стационарный водопровод – чтобы все было и в доме, и здесь, в саду. У мамы руки не доходили, да и тех денег не было, чтобы выправить наш быт почти на городской манер. Теперь есть, теперь надо сделать…
Был уже вечер, когда мы уселись то ли за обед, то ли за ужин. Уселись в саду, как обычно делали летом. Шаткий столик, лавки по бокам. Старые сосновые лавки еще хранят накопленное за день солнечное тепло. Зажаренные лавки, шутил я в детстве. А маленькая Эльма говорила: «Такие зажаренные, что обедать на них невозможно, попка сгорит!»
Теперь не сгорит, теперь вечер, стемнело. Скоро южная ночь, крымская. Море звезд. Утром они упадут в море, и оно засветится. Потому и рассвет, рассказывал нам, маленьким, Адриан, и Эльма в это верила, а я нет. Мне и теперь кажется, что Адриан относился к ней как-то особенно. Меня он тоже любил, конечно, но Эльма была для него особ статья. Одинокий человек в возрасте, а тут чужие дети, которые как прилипли к нему, постоянно приходят на маяк. Ясно: дети-то, близняшки, без отца, мать на работе пропадает, зарабатывать надо, потом крутится до дому. Кто им в радость и развлечение? Старый Адриан, что на маяке, со своими рассказами, легендами, сказками, байками. Нет, тогда вообще-то он был еще не совсем старый, так мне, мальцу, только казалось. Мужчина лет пятидесяти, морской волк, потом служитель маяка, одинокий человек, мой учитель. Да, я рос, а он старел…
Значит, сидим мы на «зажаренных» лавках, едим, попиваем мускат. Эльма совсем спокойна, кажется, а после нескольких рюмок вина даже чуть-чуть обмякла. Сидим, говорим, посматриваем на звезды. Тихо, спокойно, мы одни, под ногами не крутится Хан, ибо давно помер, и кошка Милка, которая тоже померла, не скользит тихой тенью между кустов, стволов инжира и давно засохших маминых грядок.
О чем мы говорим? А, вот сейчас о доме.
– Какие у тебя мысли по этому поводу?
– Хорошие. Продавать его мы не будем. Сделаем ремонт. Пусть стоит – пока без нас, но с нами. Я тут прописан, у тебя двойное гражданство, все нормально. Сделаем ремонт.
– Не надо тут ничего менять.
– Конечно. Я имею в виду только трубы, водопровод, проводку, крышу, сад. С газом надо что-то придумать – эти баллоны осточертели! Новые деревья посадить, яблони, беседку поставить. А так – все как было и есть. Ну только кое-что из мебели. Например, пару кресел купим и… да и все, пожалуй.
– Хорошо. Деньги у меня есть.
– И у меня тоже. Машина подождет.
– Да нет, покупай машину, покупай. Деньги я дам, все-таки валюта. А то как это – скоро капитан дальнего плавания, а без машины? Положено, чтоб с машиной. Потом переправишь из Одессы.
– Да, в Одессе оно мне дешевле обойдется. Значит, еще тут гаражик надо будет поставить, за домом у сарая.
– Поставим… Верней, поставь.
Ясно. Вернется ли Эльма насовсем – неизвестно. И вообще когда она еще пожалует хотя бы в отпуск? Гражданка Швеции, кильки-фильки! Напридумала же всякую хреновину – то замуж вышла за идиота Юргена, то развелась с ним! Нет, что развелась, это хорошо, правильно, только зачем надо было замуж выходить? Глупости нельзя делать изначально!
Все это я кричу молча, а сам улыбаюсь, поглядывая на сестру, на мое отражение в женском обличии. В ее глазах плавает звездный свет. Отчего бы? От вина, любимого ею муската «Ливадия», или от неких мыслей? А и то и другое, наверное. Потому что она поднимается из-за стола и вдруг спрашивает:
– Скажи, Эльм, вчера… вчера, когда ты лег… ты думал о нас?
– Думал.
– И не пришел.
– Я хотел, чтобы ты успокоилась, отдохнула.
– Правильно. Хорошо сделал. Но я в норме. Поэтому сегодня приходи. Ну через полчасика, пока я постелю, приму душ и так далее. А посуду оставь здесь, только клеенкой прикрой от мошкары, я завтра все соберу, помою. Понял?
Понял, понял, а как же! Вот только сердце затукало, срочно закурить надо.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.