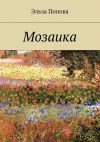Текст книги "Убить цензора! Повести от первого лица (сборник)"

Автор книги: Борис Горзев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
– Это тебе спасибо. За стихи, за то, что обо мне помнил.
– О ком же мне еще было помнить!
– Ладно, да… И издано вполне прилично, даже здорово.
– Евреи это тоже умеют.
– Не сомневаюсь.
Андрей стал листать мой сборник, привезенный ему в дар из Израиля и врученный еще в первый день. Но тогда, кроме положенной благодарности, я ничего не услышал. А теперь…
– Теперь, в третий раз перечитав, – начал он, листая, – я особо выделил бы несколько стихов. Да, больное, но и светлое, конечно. Вот это, например, вот это – «Прощанье». Как же тебе было больно, наверное, да?
– Не знаю. Для меня больно – это уже естественно, нормально.
– И с этим ты живешь?
Я лишь повел плечами, потому что чуть не задал ему аналогичный вопрос: «А ты?» Но смолчал, лишь повел плечами. У каждого из нас своя боль, это ясно.
Андрей вдруг улыбнулся, раскрыл нужную страницу:
– Позволь, сударь, прочитаю тебе твое же. Вот это – «Прощанье». И извини, что не Качалов.
Читал он неплохо, даже хорошо, но как-то по-своему. И мне было странно слышать свои стихи с его, родного мне со школьных лет голоса, который, кажется, никак не изменился с тех пор. Или мне так казалось? Будто мальчик читает вполне взрослые стихи:
ПРОЩАНЬЕ
Колоколен закатные свечи,
белых чаек ехидные спичи,
лебедей молчаливое вече —
на прудах твоих, Новодевичий.
А глядишь, отойдет вечер,
стихнет камень в резьбе ограды,
и раскосой Луне навстречу
поплывут серебра гряды.
Где-то за полночь стронется ветер —
в черных кронах случится лепет,
и расправит крыла веер
черной глади черная лебедь…
Всё уходит и всё с нами.
Над планетой пролет птичий.
Я с тобой говорю снами,
Новоде́вичий, Новодеви́чий.
– Это написано уже в Израиле, – пояснил я, – в первые месяцы, когда мучился ностальгией.
– А теперь уже не мучаешься? – тут же спросил Андрей.
– И да, и нет. Сложно определить словами. Я готов умереть с ними, но надеюсь, что не умру до положенного природой срока. А вот что до места… Однажды я подумал, что хотел бы быть похороненным именно у Новодевичьего, на старом кладбище. Но там, ха-ха, все места заняты. Однако, спасибо, заняты хорошими людьми, дореволюционными, в отличие от нового кладбища.
– Понимаю, понимаю. Но какое раздвоение личности: жить и умереть там, на Земле обетованной, а быть похороненным здесь, у Новодевичьего. Лихо!
– Пожалуй, раздвоение личности – это чисто советский синдром у интеллигента. Ты тоже такой.
Андрей внимательно посмотрел на меня, потом медленно произнес:
– Пожалуй… – и усмехнулся: – Нива для психиатрии. Как у меня и было в госпитале, в том самом Бурденко, цитирую: оказание пациенту медико-психологической помощи с участием психолога и психотерапевта. Это мне так мой лечащий врач прописал, переводя из общей терапии в 47-е отделение. А оно – уже психотделение. Как я узнал там, оно – для пациентов с неврозами и всякими пограничными психическими состояниями.
«Да, это тоже лихо! – мелькнула мысль. – И что?»
– И что, оказали помощь… ну, медико-психологическую? – спросил все-таки.
Он опять усмехнулся:
– Не-а, я сам, сам! – и вдруг подмигнул мне: – Помощь, говоришь? Эту психпомощь надо было оказывать не мне, а Татьяне! Хотя как она всех обманула, скажи! Правда?
Я не успел обомлеть от услышанного, потому что тут же последовало с каким-то брезгливым смешком:
– Да ну их в жопу, поэт! Я имею в виду психдокторов. Давай-ка выпьем, уж коль ты встал среди ночи и приперся ко мне. За твои стихи. Есть повод выпить, есть! Иди, напяль штаны, а то пьющий интеллигент в трусах – это уже не психиатрия, а бытовой разврат, неблаговоспитанность. Если пить, то комильфо…
Когда я вернулся, на столике помимо бутылки и рюмок стояла плошка с маринованными грибами, банка с капустой и хлеб.
– Накладывай себе и мне закусь, а я чай взогрею. Вот тебе тарелки и вилки, работай, друг! – провозгласил Андрей и стал у плиты.
Работал я плохо, потому что руки не слушались, но Андрей стоял спиной ко мне и не видел, как, раскладывая по тарелкам скользкие грибы, я пару раз промахнулся. Разнервничался, блин! Несколько грибов бухнулись на клеенку, и пришлось поддевать их вилкой, причем быстро, ибо я знал, что для аккуратиста Андрея беспорядок и неряшливость – это всегда драма. Однако справился: когда он уселся за столик, следов безобразия уже не было.
– Водку разливай сам, а то у меня от перебитья сна пальцы трясутся, как у алкаша в похмелье.
Теперь он покачал головой:
– От перебитья сна! – повторил вслед за мной. – Красивый наворот, поэт! Ладно, давай чокнемся. Чтоб твое похмелье благополучно разрешилось. Да нет, просто за тебя! За твои стихи. За то, что приехал из Израиловки. Мне без тебя… ладно, ты понимаешь. За тебя! Пьем!
Действительно, как алкашу, измученному утренним похмельем, после первой же рюмки мне стало легче: и тремор пропал, и на душе размякло. А после второй чуть поплыла голова, и я почувствовал, что приятно опьянел. Это ненадолго, к сожалению, знал по опыту. И пока нес в себе такое состояние, сказал:
– Дай-ка сюда сборник великого поэта! Желаю тебе один стих прочесть. Очень радостный на сей раз. Я его написал, когда наконец поселился в Хайфе. Представь: море, зелень горы, сбегающей к морю террасами, весна, цветут магнолии, еще не задул хамсин… что еще? Еще все добрые и всё доброе, даже Бог.
– Читай, пьяница! – ласково кивнул Андрей.
Я отодвинул тарелку, уложил перед собой сборник и начал:
Вам не снится холм высокий, где беспутствует весна.
Ах, какие бродят соки в организмах, мать честна!
Птицы певчие осипли; полутяга-полулень;
ветер белый с небом синим помешались: вот сирень.
У подъездов дремлет стража. Тянет скрипка канитель…
Вам не снится эта чаша, что лежит среди земель!
Желтых скал сухие сбросы; черных кедров купола;
в кабачках сидят матросы – не подымешь от стола.
Сле́пит солнце. Ленно, сонно. Олеандра пряный дух.
Допотопная часовня, постпотопный акведук.
Вам не снится этот город, порт, развалины, гора,
странный говор, вечный гонор – Прародителя игра.
Вам не снятся эти лица, камни храмов, минарет.
Где-то в северной столице вы ведете тет-а-тет.
Там, где девы серооки, там, где вольница тесна,
вам не снится холм высокий, где беспутствует весна.
Тишь, томленье, красок яства… Тут ли, где
блаженный юг,
время, вытеча в пространство, замыкает вечный круг?
Грозный дар в Отцовой длани; исцеление калек;
и ягненок на закланье, и воскресший человек.
Андрей покивал. Вскоре произнес:
– Положено что-то сказать. Скажу. Классно. Беспутствует весна – классно! Глагол-определение. Понимаешь? Тогда слушай, недоумок. Это я от Татьяны знаю, от учительницы словесности. Что есть глагол? Часть речи, так? Эта часть речи обозначает действие. Так? Так. А у тебя, сударь, сей глагол – беспутствует – стал обозначать не действие, а… а состояние, вот! Он определяет, что происходит вокруг – какая весна. Понял? О! Бес-пут-ствует! Весна беспутствует! Бес попутал. Этим сказано все. Молодец! Ну а дальше – разверстка. Разверстка – как художественный кинофильм… нет, документальный, но снятый художественно.
– Мерси, – благодарно произнес я. – Все правильно. В тебе умер мой литературный критик.
– Э, кто во мне только не умер! За это стоит выпить, как считаешь? Ну и о’кей!
Я отложил в сторону сборник и поднял рюмку. Что ж, свое я получил как поэт. И ничего не поделаешь: приятно, когда тебя гладят по головке. А когда гладит родной человек, и не от привычного одобрения, а, похоже, по делу, тогда и верно стоит выпить за такое. За то, чтобы такой человек, который родной, не умирал.
Мы выпили, с наслаждением заели грибами, захрустели капустой. Потом закурили, тоже с удовольствием. «Только не лезь к нему с вопросами! – приказал я себе. – Все испортишь! Он сам, сам! За то еще и любит тебя».
Насколько я знал по нашему общему прошлому, Андрей прикладывался к спиртному не часто, однако когда это делал, то мог выпить хорошо и никогда не становился неадекватным, то есть никак не менял своего поведения. Свойство натуры. Еще одно свойство, непременное для разведчика. Хотя, если о сегодня, бывшего. Вот и сейчас: покурив, наполнил рюмки и стал разливать чай по кружкам.
– Давай переложим это дело чайком. Переложить водочку чайком – это самое то, если вовремя. Да? Да.
Мы взялись за чай. Да, хорошо. Тем более в кружки он бросил какие-то листья.
– Какие-какие! Это ж листья черной смородины, израильтянин несчастный! Очень полезно, но, главное, запах какой и вкус какой! Пряный! Чуешь?
– Чую.
– И чуй на здоровье! Я тоже. Я теперь только и чую. Здесь, у себя, в лесу, в этом доме. На воле. После всего. Хорошо стало. Вернулся к себе. К себе, понимаешь?
– Ну более или менее.
– Ну как в детство к себе! Где ты сам, мама… Да, вот так. Мы там, в Куйбышеве, тоже чай с листом черной смородины пили. Мама настой из этих листьев делала. Ага, у нас на Волге дачный участок был. Вот там, значит. Насобирает листьев, потом сушила их – и в дом городской забирала. Это потому еще, что в Куйбышеве вечный дефицит с чаем был. Совсем пропадал, бывало. Вот суки большевики! Бедно мы там жили, бедно. Суки!
– Что ж ты им служил – там, в Йемене? – вдруг сорвалось у меня с языка.
Андрей даже не удивился, ответил просто:
– Я не им служил, а – служил! Понимаешь – служил. Есть разница. Служить – это нормально, и при любом режиме, если не выполнять преступные приказы. Мне, слава те господи, преступных приказов не давали. А если б давали, опережаю я твой новый вопрос, я бы их не выполнял, это точно. На том условии и пошел в ГРУ. Там это поняли. Потому и служил на отлично. Потому и отпустили с богом, то есть с очередным званием и соответствующей пенсией вследствие заболевания, полученного в период военной службы. Правильно я помню заключение? Правильно.
– А какое твое очередное звание?
– Какое? Нет, не очередное, а, так сказать, выходное. То есть которое дается на выходе, перед отставкой. Как в царской армии. А теперь и в ГРУ. Подполковника мне дали. О как! За верную службу на воле, в ходе боевых действий и в плену. Ну и за то, что остался живым. Или за воскрешение, точнее. Короче, подполковник! С кем сидишь, чуешь?
– Чую, – покачал я головой.
– Ладно, это в прошлом. А вот тогда… Мамин чай с черносмородинным настоем… – он замолк, погрузился в себя, но вскоре улыбнулся: – А еще там у меня была кукла.
– Кто?
– Кукла, да, – повторил Андрей. – Там, в Куйбышеве, при маме, с самого раннего детства. Не знаю почему – кукла, и все. Только ее я любил из игрушек. Вернее, она была моей единственной игрушкой. И даже не игрушкой, а… как это сказать?.. Ну как часть меня же, как я сам. Только с ней и общался – как с собой. Разговаривал, делился, сказки ей рассказывал. Потом ее слушал – будто она мне рассказывает. А как ее звали, знаешь? Таня. Так мне мама сказала, когда принесла эту куклу, уже наряженную в синий плащик, а под ним – в синее платьице. Таня, сказала, вот тебе Таня, она с тобой дружить хочет.
Я совсем протрезвел, ибо что-то смутное коснулось меня, коснулось холодной рукой. А Андрей, так же улыбаясь, продолжал:
– Таня… Мне года три было, кажется. Так она и жила при мне, со мной все те годы, и, даже когда я в школу пошел, то есть и в семь лет, и в восемь, только с ней и играл. Да нет, не играл, повторяю, а жил с ней… А когда мама слегла с туберкулезом в больницу, я с моей Таней остался. Только она и я… А потом, когда мама стала умирать, вдруг объявился отец. Ага, вдруг приехал какой-то дядька в форме, полковник, строгий, но вроде ничего, на меня с интересом смотрел, даже улыбался иногда. А когда мама, значит, умерла и он сказал, что мы едем в Москву, насовсем… то есть я теперь буду жить с ним в Москве, потому что он мне, оказывается, отец, то… то, понимаешь, он мне не разрешил взять Таню с собой. Я плакал, а он: «Ты что? Ты мужчина или девчонка? Какая кукла? Ты что, парень? Забудь про свою эту Таню! Таня, понимаешь! Хренота какая! Будущий воин, офицер! Все, забудь!» А я плакал… господи, как я плакал, даже сейчас больно!.. Короче, он хотел выбросить эту мою Таню, но я упросил ее хоть в живых оставить, не выбрасывать… В общем, мы уехали без Тани, я ее на своей кроватке уложил и прикрыл одеяльцем, попрощался. Вот так… Давай, поэт, выпьем за Таню, за Татьяну, потому что…
Он осекся, поднял рюмку, чокнулся со мной, выпил, сглотнул чаю и почти торжественно заговорил:
– Потому что Таня не исчезла. Она воскресла. Но – по-настоящему живой. В Москве я пошел в школу, и… вот Таня. Правда-правда, моя живая Таня! Только вы, пацаны-идиоты, ее почему-то называли Танькой, а я – никогда: только Таня. Помнишь? О! Потому что она и есть моя Таня, моя ожившая кукла, которая каким-то престранным, волшебным образом перелетела ко мне в Москву из Куйбышева. А как ей это удалось? Она долго мне не говорила про это, долго, и лишь через годы, когда мы стали целоваться… ну и прочее… да, она мне сказала: «Дурачок мой, ну ты же так звал меня, так ждал, так хотел – ну вот я и объявилась в твоем классе. А как же! Как я без тебя, а ты без меня? Ты и я – это одно, ты без меня погибнешь, а я без тебя. Ты уж не погибай никогда, дурачок мой. А скоро мы школу окончим и поженимся, и я буду тебе сказки рассказывать на ночь, в нашей постели, в нашем доме, и ни от кого прятаться уже не будем по всяким подъездам и кустам, обязательно, все будет хорошо, даже чудесно, как в сказке! Потому что ты моя сказка, а я твоя».
Андрей уже даже не улыбался, а молчал, растянув рот в счастливой гримасе. Так и сидел. Мне стало жутко. Будто маска какого-то шута.
– Эй! – позвал я. – Эй, приятель!
Он очнулся:
– Все хорошо, поэт, все нормально… Вот тогда, уже в Москве, в моем новом классе, когда я вдруг увидел мою Таню, только уже живую, вот тогда я простил отца. Подумал: это он так шутил! Ну, грозился выбросить Таню, а на самом деле знал, что в Москве она будет меня ждать. Вот как подумал. И верно. И с тех пор стал слушаться отца. Да, не всегда соглашался с ним в душе, но понимал: как он говорит, так надо, он что-то знает наперед, надо его слушаться. И слушался – хоть он таким просоветским был, как железобетонный столб, но при всем при том честный мужик, прямой и не гад, не гад. И преступных приказов никогда не выполнял, и меня учил следовать этому правилу. Служака до мозга костей, но хороший мужик, ей-богу. Жаль, помер.
– Да, – признал я, – хороший мужик и тебя любил, засранца.
– Любил, знаю, – кивнул Андрей. – И маму любил, наверное. Иначе – что же приехал к ней, умирающей, и меня потом взял с собой, усыновил? Любил, да… Вот Страна Советов, все через жопу! Если интеллигент, то с расщеплением личности: и власти лизать, и вроде порядочным быть, а как это совместить, если совместить невозможно? Так же и среди военных: преступные приказы – и не хочется их выполнять, но как же устав и присяга? Вот и выходит, поэт, что все здесь и есть расщепление личности – хоть в советские времена, хоть в постсоветские. А почему? Наследственность! Наследование расщепления, наследование сожития этой чертовой двойственности. И кто рождается в результате? Опять двуликий Янус.
– Однако бывают исключения. Вот твой отец, например. И ты тоже.
– Знаю, спасибо… Знаешь, вот с кем иногда теперь я хотел бы посидеть-поговорить, так это с ним, с отцом. Но в отличие от Тани он умер навсегда. Не поговоришь, а хотелось бы. А о чем поговорить с ним? Вот вопрос. М-да… Еще по одной или спать? Пожалуй, спать. Ты как, созрел? Ну как хочешь, хозяин – барин, посиди еще, а я в койку, пора, пора… А посуду не мой, оставь, только в раковину сложи, это до завтра, утром всё вымоем.
Он спокойно поднялся и не покачиваясь пошел в комнату. А я остался. Покурить, переварить услышанное. В том числе про вечную Таню – сначала куклу, потом живую. И про то, как на финале было сказано, что отец Андрея умер, причем навсегда – в отличие от Татьяны.
5
Утром сквозь сон я смутно услышал какую-то мелодию, которая повторялась несколько раз. Вроде я спал, но вроде и размышлял – что это может быть? Ну так бывает под утро: еще спишь, но уже думаешь. Вот я и думал: телевизора тут нет, но на кухне есть радио, однако чтобы Андрей включил радио, пока я сплю, этого не может быть, он человек деликатный. Тогда что это за навязчивая мелодия, откуда взялась? Но вскоре она смолкла, и вместо нее возник глухой голос Андрея. Что он говорил, разобрать было невозможно, ибо голос шел из-за двери, то есть все-таки с кухни. Пока я все это медленно осмысливал, опять провалился в сон.
Проснулся – передо мной на стуле лежала страничка, вырванная из ученической тетрадки в линейку. Ну я хоть не разведчик, но по почерку сразу понял, что эта записка от явно торопившегося человека:
Поэт! Меня срочно вызывают в Изотино по лесниковым делам. Еду туда на машине. Когда вернусь, не знаю, может, к вечеру. Поэтому ты сегодня на самообслуживании. С едой разберешься, ее полно, только водку без меня не пей, это не по-джентльменски. Будешь гулять – не углубляйся в лес, заблудишься. Ходи по дороге, не покидая ее. А то тут, говорят, медведи. Понял? А здешние медведи очень евреев любят, говорят. Тем более евреев-поэтов. Твой Андрей.
Вот тут до меня дошло: это рация пела! То есть, точнее, не рация, а телефон-рация… или радиотелефон – не знаю, как называется эта штуковина. Значит, в ней не обычный телефонный звоночек, а вот такая мелодия! Ну ладно, черт с ней – главное, хоть теперь ясно, кто меня будил утром!..
Когда, умывшись и позавтракав, вышел в сени, не обнаружил там карабина Андрея – только пустой чехол лежал на сундуке. Интересно, что же случилось? Какие-то враги напали или преступник объявился? Или на охоту поехал – ведь карабин охотничий…
В течение дня, будучи «на самообслуживании», я кое-что понял. Точнее, почувствовал – почувствовал всем нутром. Особо когда бродил невдалеке от дома – и по дороге туда-обратно, и даже, несмотря на эфемерных медведей, по лесу. Я почувствовал, как тут глухо. Глухо, одиноко, безжизненно. Андрей говорил, что тут кругом жизнь, раздолье жизни, царение жизни, но мне, человеку сугубо урбанистическому, все казалось мертвым, безжизненным. Как на другой планете, чужой, неприютной, вызывающей тревогу. Я ежился и возвращался в дом. Но и там что-то давило. Одиночество, какая-то неласковая глухота. При Андрее я этого не ощущал. Но вот стоило ему уехать…
Какие же мы с ним разные по своей природной сути, понял я! Ему тут вполне комфортно, а мне наоборот. Он сюда стремился – в одиночество, в жизнь с самим собой в окружении этих глухих лесов, без людей, а я… мне тут плохо, если одному. Для него это и есть его мир, мир с самим собой, в котором он жил с детства, и вот теперь, после долгого перерыва (армия, ГРУ, боевые действия в Йемене, плен), он опять вернулся. Куда? К себе. Ну да, жуткие события произошли в его боевой-разведывательной жизни, но после них, после всего пережитого и открылся ему путь к спасению – к себе, в свой мир. Лекарство, выздоровление. Будто ребенок-аутист Андрей поманил из детства Андрея сегодняшнего, взрослого, тридцатишестилетнего, и этот взрослый опять стал аутистом, воссоединившись с собой-ребенком, мальчиком из третьего-четвертого-пятого класса.
Мне вспомнилось, как однажды, еще давно, я влез в медицинскую энциклопедию и там прочел: аутизм – от греческого слова «сам». Под этим понятием психиатры понимают аутистический уход человека в мир собственных фантазий, любое внешнее воздействие на который воспринимается как нестерпимая назойливость. Отсюда недостаток взаимодействия с социумом, ограниченные интересы, стереотипное поведение, жизнь в своем мире, погружение в него с отчуждением от реальной действительности.
Вот такой Андрей? Да, именно таким он был до Тани-Татьяны, потом… ну, что было потом, с ней и при ней, это нам ясно, а вот после всех жутких событий и после Татьяны – что, опять диагноз? Стоп, я сказал «после нее» – и что, это так? Татьяны действительно нету или?.. Ведь Андрей, кажется, не раз намекал мне, что она существует и общается с ним. Так?
Он приехал уже под вечер. Послышался натужный звук старого мотора «Нивы», вползавшей в гаражную пристройку за домом, – и вот он, Андрей. Неулыбчатый, явно усталый, в руке – большой пластиковый пакет. На мой вопрос: «И что?» – ответил:
– Что? Хренота всякая!
– И что за хренота?
– Котлетники.
– Не понял!
– А тебе и не понять. Ты ж в сытом Израиле живешь.
– В хронически воюющем, заметь. Ракетные обстрелы, теракты.
– А, извини. А у нас полуголодное население! Жрать хотят! Вот и охотятся в ближних лесах, если там зверье водится. Браконьеры. Завалят кабана или лося – и на котлеты. Вот мы их и зовем так – котлетники… Короче, их еще вчера засекли – троих мужиков, браконьеров. А они на мой участок вышли. Мне и позвонил мент из Изотина утром – дескать, давай к нам, на облаву! Двое ментов, двое егерей и я, стало быть. А мент с собакой. Взяли след, вышли на них. А они, голубчики, уже лося разделывают. Ранним утром убили. Естественно, никакой лицензии, а сами из Коврова нашего.
– Арестовали?
– Ты что, зачем? Куда их девать? В город транспортировать? Еще день терять на туда-обратно? Да там полгорода таких! Всех сажать, что ль? Эдак полстраны сажать надо! Нет, отпустили. Менты патроны отобрали, деньги, водку и заваленного лося. И отпустили. Понятно, ничего не оформляли. Это ясно, тут все свои, такой порядок: попались – отдавай, плати, и свободен. Они ушли, ну а мы лося закончили разделывать – и по-братски на всех нас пятерых.
– Себе? А государству? Ведь лось – государственный, так?
– Нет, не так. Потому что у нас сейчас нет государства. При Советах – было, херовое, но было, а теперь даже херового нет. Сборище полуголодного населения, особенно на периферии, в сельской местности. Тебе этого не понять, слава богу. Тут только полуголодные и котлетники, вот что ты должен понять! Зато воюем в Чечне и Дагестане. И что? Ясно что: трупы. Ты про трупы спецназа ГРУ знаешь? А я знаю! Ладно, все, все, я спокоен, я давно спокоен. Поэтому давай загрузим холодильник, поэт. В пакете куски лосиного мяса, большие куски, елки-палки! На неделю нам хватит. Посему котлет навертим сегодня, понял! Ты лосиные котлеты хоть жрал?
– Ни разу, никогда.
– О, вот и попробуешь! А когда вернешься к себе – скажешь, кошерным мясом питался в России. Мясо лося – оно как, кошерное?
– А черт его знает! Вот свинина – это некошерное, но я ее люблю и, несмотря на все, там покупаю.
– Это как? Что – продается? Ведь нельзя!
– Представь, нельзя, но можно. В любом городе Израиля есть русские магазины. Которые для русско-еврейских репатриантов. Заходи и покупай. Все привычное, родное. Свинина, говядина, сосиски, сардельки, пельмени, те же названия, та же водка, те же сорта колбасы, только всё классного качества, разумеется.
– Молодцы евреи! Думаю, арабам их не победить, если нельзя, но можно.
– Именно так. И проституция там есть. Тоже нельзя, но можно. И это в правоверном Израиле.
– Демократия, блин!
– Да при чем здесь демократия! Тут вечный принцип: есть спрос – есть предложение. Втихаря, но есть, только плати. Вечное и повсеместное человеческое достояние. Хоть демократия, хоть диктатура, христианство или ислам – один черт! Основные инстинкты никто не отменял. Реализм.
– Да-да, – протянул Андрей. – Это, конечно, так. А как же духовность? А, поэт? Вот это, например:
И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.
И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.
И странной близостью закованный,
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.
– Да, это беспроигрышно, – вздохнул я. – Тоже вечное и повсеместное человеческое достояние. И это тоже никогда не отменяется. Тоже основной инстинкт – творить-боготворить образ женщины.
– О, верно говоришь! А это мне Таня недавно читала. Училка! Блока они, видишь ли, нынче проходят в десятом классе! А у меня память профессиональная, ее не отшибло, несмотря на… ну понимаешь. Вот я и запомнил с Татьяниного голоса… Ладно, пора вертеть котлеты из лося, вперед!
На следующий день Андрей опять уехал, на сей раз в лесничество, которое, как он сказал, в поселке Холуй, что в восьми километрах от Изотина. К вечеру вернется. А зачем туда? Совещание, блин! Но причина уважительная. По поводу посадки леса. Всех лесничих области собирают. Срочное дело!
И стал объяснять мне. Нынешняя зима, как ты видел, выдалась затяжной, поэтому весеннюю высадку леса теперь придется проводить в сжатые сроки. Надо успеть до начала вегетационного периода, особенно у хвойных пород. А тут речь именно о них. Почки у ив и тополей уже набухли – значит, пора. И нельзя затягивать, потому что, если проводить лесопосадку уже в начале лета, то развитие корневой системы у сосенок и елок понижается. Вот такая у нас наука!
И уехал на свое совещание. Что ж, важное дело. А я, бездельник, остался. Опять один, опять в насупленной тишине, глухомани.
Однако на сей раз уже не тяготился этим. Пообвык, что ли? Ну да, я же не псих и родную природу люблю, то есть русскую, и никто здесь мне не угрожает, а на случай чего (то есть медведя) даже ружье есть, Андреев карабин. Хотя, да, как с ним обращаться, я не в курсе.
Стал мыть посуду, оставшуюся после нашего завтрака, включил радиоприемник. Вскоре пошли новости. Главная: в Чечне, у некоего селения Ярышмарды, попал в засаду 245-й мотострелковый полк российской армии, есть погибшие и раненые… Вот так! Тут, оказывается, идет война, а я, приехавший из благословенного Израиля, даже не знаю об этом. Точнее, слышал краем уха, но краем, да и только… Как-то нехорошо мне стало. Успел подумать: спасибо еще, что Андрей ушел из своего ГРУ, а то опять в составе какой-нибудь спецбригады угодил бы туда. Интересно, там, в Чечне, спецназ ГРУ воюет? Ну если в далеком Йемене воевал, то в недалекой Чечне сам русский бог велел, наверное…
Оделся, пошел в лес. Но перед тем решил совершить подвиг – разобраться в сенях с Андреевым карабином, этой его «Сайгой». Ни черта не разобрался! Даже не понял, заряжена ли. Но тяжелая же, зараза!.. Опять уложил ее в чехол, поставил на место и с облегчением двинулся из дома.
Было почти не пасмурно, даже кое-где в небесах открывались молочно-голубые проталинки. И потеплело прилично. Весна в разгаре, снега в лесу почти нет, только в оврагах. Я медленно шел, держа в уме оставленную за спиной дорогу и запоминая ориентиры, по которым должен вернуться на нее. И тут услышал странные звуки.
Издалека они походили на треск, но какой-то щелкающий. Потом что-то шипящее, но коротко, дробно и будто по железу. Интересно! Зверь? Или человек? Или какая-то птица?
Разобрало любопытство, и я уж решил идти на эти звуки, но тут подумал: а вдруг заблужусь? Да это запросто в подобной глухомани, тем более такому нелесному человек, как я… В общем, сел на пенек, закурил и стал прислушиваться… Опять треск, щелканье, но какое-то специфически упорядоченное: после наиболее громкого щелчка – серия коротких шипящих звуков. Интересно! Андрей был прав, говоря про активную жизнь леса. Но кто там или что?..
Идя обратно, я вышел таки на дорогу, хотя и не в том месте, где сошел с нее. М-да. Но все же вышел. И спокойно добрался до дома.
Там напился чаю и принялся за готовку обеда к возвращению Андрея. Включил радиоприемник, уселся чистить картошку. В новостях опять говорили о Чечне, о засаде, устроенной боевиками, и о потерях федеральных войск, того самого 245-го мотострелкового полка. На сей раз указали ориентировочные цифры потерь: около пятидесяти убитых и столько же раненых. Но это предварительные данные, добавили… Вот так, полный кошмар, война! Хорошо, что Андрей не слышал…
Он вернулся еще часа через два, молчаливый, весь в себе. Умылся, сели обедать.
– Устал? Как совещание?
– Нормально. Уже подвезли саженцы, песок, щебень, наняли рабочих, они будут копать посадочные ямки. Этим занимается Россельхоз, а не лесничество, оно только организует, командует и указывает места посадки. Вот мы и определяли эти места по заказнику. Короче, начинается работенка, но меня она не шибко коснется, только контроль… А ты чем занимался, кроме ковыряния в носу и готовки обеда? Кстати, отлично приготовил, очень вкусно, спасибо!
Я рассказал про свой конфуз с карабином (Андрей понимающе улыбнулся – дескать, что с тебя взять!), потом про гуляние по лесу и странные звуки, которые слышал там.
– Ну-ка, ну-ка! – оживился он, – Опиши, опиши, поэт, и попробуй сымитировать!
Я потратил много слов и исполнил, как мог. Выслушав, Андрей удовлетворенно поднял палец:
– Так, ясно! Ну, повезло тебе, поэт! Ты знаешь, кого и что слышал? Глухаря! Или пару глухарей. И слышал ты ток! Как они токуют. Понял? А эти их особые шипящие звуки, они похожи на точение железяк, верно? Отсюда и пошло еще издавна – глухарь «точит». Во как! Говорю же, тебе повезло, ты на токовище почти наткнулся. И хорошо, что не спугнул их. Хотя они, может, тебя и не засекли бы из-за своей глухоты в этот период, в ток. В ток их столько убивают! Они ж почти глохнут, когда к спариванию готовятся и любовные арии поют. А тут их – раз!
– А ты?
– Я? На глухаря или на тетерева? Никогда!
– А что ж на селезня? Он ведь тоже скоро спариваться будет?
Андрей даже опустил голову:
– Да… Но, во-первых, их, в отличие от глухарей, до хрена по всей планете, а во-вторых… для меня это как спорт. Да, виноват, виноват, каюсь. Людей убивать можно и иногда нужно, а птиц – нельзя. Да и вообще зверей. А людей можно и нужно. В конце концов, это наши внутривидовые разборки. Так Господь Бог решил, создав нас. С братоубийства все и началось – Каин и Авель.
– Значит, это оправдано?
– У каждого брата – своя правда, а общей правды нет. Вот чеченцы… я сегодня там, в Холуе, по телеку слышал и смотрел… чеченцы за свою землю воюют, которую мы когда-то оккупировали, мы, русские. Воюют, и это их правда. Повторяю: это их правда, их! А вот то, что вчера они полсотни наших ребят положили, наших бойцов, это не их вина, а наших. Наших! И за то, что воевать туда полезли, и за то, что воевать не умеют. Полк попал в засаду! Ты понимаешь – полк! А где же была ваша разведка, мать вашу?! Где глубокая разведка? Где внедрение агентов в ряды противника? Чтобы вжились в их среду и информировали! Почему твои израильтяне это умеют – вживаться в среду арабов, перекупать арабов, вербовать их, а мы – нет? Почему Моссад это умеет, да и ГРУ наше умело, например в моем Йемене, а сегодняшние наши – нет? Потому что с некоторых пор нами руководят и командуют мудаки! Вот и всё. Слава богу, отец не дожил до такого позора.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.