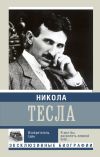Текст книги "Порыв ветра, или Звезда над Антибой"

Автор книги: Борис Носик
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц)
Глава 14. Женщина, ваше величество…
Думается, что как раз в ту пору, когда Никола лечил в Маракеше пораненную ногу, он и встретил Жанин, которая взяла на себя заботы о нем. Можно предположить, что и сообщение в письме домой о том, что «Жан оказался хорошей сиделкой» было вполне безобидной шуткой: не Жан, а Жанин, о которой еще долгое время в семье и слыхом не слыхали.
Впрочем, похоже, что и самым осведомленным из биографов (скажем, их дочери Анне) мало известны обстоятельства их знакомства.
Анна сообщает в своей книге, что Жанин пригласила Никола посмотреть ее живопись, и он был поражен серьезностью ее творческих усилий. Далее Анна сообщает, что живопись их была несходной и что они не влияли друг на друга как художники. В высшей степени академичный взгляд на любовь…
А где они впервые увиделись? Может, бедняга приволок свою раненую ногу на многолюдную площадь Джамна-эль-Фна, в огромное, царящее над базаром кафе, где и нынче собираются туристы. А может, она приметила на улице этого большого, красивого и беспомощного сироту, страдавшего от боли и взывавшего к материнской помощи. Увидела и пожалела. По-русски это почти то же, что полюбила. А он позволил себя пожалеть и полюбить, несмотря на свою баронскую заносчивость…
Ну да, вероятно, она привела его в этот пропыленный, убогий шалаш, где она, обугленная солнцем, царила среди мужчин – единственная женщина, бродяжничающая бретонская королева в шалаше бродячих художников-поляков. Королева пропыленного шалаша была женой одного из художников и матерью их пятилетнего сына. Очень высокая, очень худая, с яркими и печальными глазами…
Мы ничего не знаем о том, как складывалась ее семейная жизнь до появления этого долговязого русского бельгийца с не слишком русским именем фон Хольштейн..
Мужа ее звали Олек Теслар, сына Антек, они бродили с друзьями-художниками по марокканскому захолустью уже добрых три года. Может, это из-за ее болезни легких выбрали они для странствий жаркое Марокко. Но может, и впрямь, именно художественные поиски гнали ее дальше и дальше по пыльным улицам Маракеша, по раскаленной пустыне. Так или иначе она круто переменила судьбу, и свою, и всей своей бродячей семьи: ушла за этим бедным, раненым, оказавшимся в тупике и вконец обнищавшим молодым парнем, бросила мужа, отправила во Францию, к не слишком ее причудами довольным родителям своего ставшего обузой пятилетнего сына. Мы мало знаем, кроме того, что в Бретани были озадачены таким поворотом событий и не готовы к нему.
Биографы сдержанно сообщают, что Никола понравились ее картины. Что потом он позвал ее за собой. Или что она его позвала, оценив его талант. Позвала куда?
Она не слишком знала, куда идти, да и он не знал. Он вообще, пожалуй, был на мели… Он знал только, что не хочет возвращаться в Бельгию, а хочет просто идти, идти, странствовать без конца. Что-то видеть в пути, что-то узнавать, чему-то учиться. Странствие смягчало боль, смиряло тревогу. Мир был открытым, бескрайним и полным чудес. Можно было пройти через всю Персию, уйти в Индию. И она решила, что будет идти за ним. Кто и что может остановить влюбленную женщину?
Нетрудно догадаться, что она была старше его. По документам всего на пять лет, но по зрелости – намного больше. Она и живописью занималась намного дольше, чем он. Если в этой сфере человеческой деятельности существует некое «уменье», то она и умела много больше, чем он. Могла какой угодно краской нарисовать и написать не только лошадь (как шутливо сообщал о себе Никола), но и мужчину, и женщину, и кусты, и деревья, и море, и скалы, и касбы… Он верил в ее талант и позволял ей учить себя. Она же, влюбленная женщина, не сомневалась в его гениальности, которая должна была раньше или позже стать очевидной для всех.
Её вере суждено было восторжествовать. С печалью напомню только, что прекрасная эта женщина не дожила до часа своего торжества. Что могу сказать в утешенье тебе, читатель? То, что мы все смертны? Что он все же сумел написать два-три ее портрета? Что, убив себя через десяток лет после ее смерти, он вернулся к ней, в общую их могилу на кладбище в Монруже?
А сейчас оглянемся через худое, загорелое ее плечо назад – чтоб увидеть, откуда она пришла, спасительница…
Жанин Гийу была родом из бретонского города Конкарно, что на западе Франции, на берегу Атлантики. Крепость-цитадель Конкарно была построена прославленным военным архитектором, маршалом Франции Вобаном на былом острове Конкарно, на пути у врагов-англичан. Это было в XVII веке. Цитадель и ныне красуется в Закрытом Городе. Маячат над тихой водой канала могучие башни, Майорская и Губернаторская, гроза былых пришельцев с Британских островов. А новые пришельцы-англичане что ж? Они не враги, они кормильцы, докучливое племя туристов. Еще кормит город рыба: третий рыболовный порт Франции, а по улову тунца, пожалуй что, и первый. Так что есть в городе и консервная фабрика, и предприятия, выпускающие всякую рыболовецкую снасть и спецодежду. А за стенами романтического, таинственного Закрытого Города (недаром же французский король детектива Жорж Сименон загнал на его ночные улицы свою «Желтую собаку», нагнетая чувство тревоги и тайны), вне его стен тянутся богатые дома ушедших веков. В одном из этих домов и жили Гийу, не последние люди в городе. Прадед бродячей художницы Жанин почтеннейший Этьен Гийу был мэром города и кое-что сделал для его усовершенствования. Отец Жанин был моряк, много странствовал, дослужился до контр-адмирала, а выйдя на пенсию, увез семью в теплую Ниццу, где юная бретонка (внешне, впрочем, похожая на нисуазку) брала уроки в школе декоративного искусства. Там она и мужа себе нашла, в свои неполные девятнадцать. Мужем стал ее преподаватель рисунка, метущийся художник-поляк Олек Теслар.
Ее увлечение искусством началось еще до Старой Ниццы, куда переехала семья Гийу. Оно пришло из бретонского Конкарно и его окрестностей, ставших к концу XIX века еще одной меккой не только французских, но и заморских живописцев, а также знаменитых маршанов и великих поэтов, о которых слагали легенды на Монпарнасе. В крошечных селениях, вроде Ле Пульдю и Порт-Манека, в прославленном Порт-Авене и, наконец, в самом Конкарно художников было множество, да еще каких (скажем, Поль Гоген). В Порт-Манеке жил одно время американский меценат, изобретатель и богач доктор Барнс, который прославился тем, что сумел оценить и вывести к славе нищего уроженца польско-белорусского местечка Хаима Сутина, При этом меценат настолько проникся красотой бретонского прибрежья, что велел построить себе в Пенсильвании точное подобие здешнего жилья. Еще в больший восторг приходил от здешних мест лечивший здесь свою военную рану молоденький лейтенант Костровицкий, вскоре ставший прославленным поэтом Аполлинером, вдохновенно описавшим берега здешней речки Оде («синей как молитва», «суденышки Беноде с парусами цвета лазури») и походя подкинувший чистой публике, умеющей выговаривать неодносложные слова, роскошное слово «сюрреализм»… (Как вы, быть может, заметили, мы подбираемся к корням и художественным поискам верной подруги нашего героя, а стало быть, и его тоже).
В 1870 году в Конкарно два художника-бретонца Альфред Гийу и его свояк Теофиль Дейроль основали международную колонию художников, среди которых были как французы (Эрлан, Ле Гу, Лабин, Гунье), так и самые разнообразные иностранцы (Гиршфельд из России, Фромут из Америки, Томпсон аж из Новой Зеландии). Искусствоведы называют их Первым поколением из Конкарно, а к 1920 году обозначилось уже и Второе поколение (Барнуан, Дельни, Менардо, Ассулен, де Беле, полотна которого приобрел Кемперский музей). Альфред Гийу был учеником самого Кабанеля, а Теофиль Дейроль уже с 1876 года выставлялся в Салоне. Это я все к тому, откуда вышла подруга и наставница нашего героя Жанин Гийу…
Неудивительно, что унаследовав неплохую академическую школу, Жанин не осталась глуха к соблазнам кубизма: ведь и бунтующий Понт-Авен был здесь совсем неподалеку. И сама Жанин и ее друг и кузен Жан Дейроль, объявившийся в Северной Африке в пору ее путешествия с Никола, уже пришли к поискам новых форм построения полотна. Так что, Никола нашел у влюбленной в него художницы не только веру в свой талант, но и безоговорочную поддержку всех его, пока еще довольно неопределенных, исканий. Эта поддержка объясняет отчасти то, что августовское письмо Никола отцу из Маракеша звучит некой истинно прощальной, отчаянной решимостью разрыва. Вот она, эта декларация давно назревшего освобождения и прискорбной неблагодарности:
«Маракеш. 31 августа. Дорогой папа. Отвечаю позже, чем хотел, но рана моя заживала дольше, чем надеялся… Все пройдет и останется только жуткое воспоминание об африканских врачах, которые тут настоящие бандиты.
Каждый раз, как соберусь вам писать, не могу отделаться от желания промолчать и послать вам лучше рисунок, чем все эти долгие разглагольствования, которые не приводят ни к чему, кроме более или менее крупных недоразумений.
Да и вообще это последнее письмо, за которым должен последовать рисунок. Я знаю, что вы мне не доверяете и, может, станете доверять еще меньше, когда увидите мою работу, но Бог ведает, кто вложил в меня такую сильную уверенность и в этой предстоящей работе и в тех, что за ней последуют.
Я пишу вам то, что я думаю, И я вам пишу, что я работаю. Вы мне не верите и, может, в ваших глазах это не работа вовсе. Поэтому мне так трудно вам писать. Вы так добры, папа, что мысленно я стою перед вами на коленях, как тот человек, который писал Святому Игнатию. Мне нечего вам сказать, просто нечего, и мне кажется неловким вам писать о берберской архитектуре, о горах, о перевале Ветров, о перевале Прерий, о городе, где щебечут сто пятьдесят видов птиц – как рассказывать, если вы так мало мне верите, считая все мои рассказы завиральными и дилетантскими.
А я не могу даже показать вам, какой я сделал прогресс в моей жизни и теперь я вернусь лишь через много лет.
Дорогой папа, я ничего не могу вам сказать, ничего объяснить, вы сделали для меня больше, чем сделал собственный мой отец; мне грустно от того, что я такой как есть и что я не могу быть лучше.
Господин Брувер был добр ко мне, и я с ним обойдусь «по хорошему». Но во мне сидит кто-то другой, который создает рисунки, и этому другому совершенно безразличны те тысячи соображений, которые важны для меня.
Вы как-то предложили послать мне немножко денег, чтоб «подкормить зверя». Без этого я никогда не обратился бы к вам с просьбой. Если вы по-прежнему считаете, что зверь заслуживает кормления, высылайте мне двести франков в месяц, вы мне этим сильно поможете. Если нет, скажите мне просто, чтоб сам выкручивался, но не просите меня вернуться; потому что честно говоря, я собираюсь еще долгое время отсутствовать, в лучшем случае не прекращать путешествий…»
Окрепшая решимость не прекращать странствий по Марокко, так же, как и другие благие решения, принятые Никола (скажем, закончить наконец рисунок, уладить отношения с тем внутренним человеком, который создает рисунки, обойтись без денежной помощи из дома и т.д.), разбилась вскоре о непреодолимые препятствия, так что эта мучительная (для них обоих) переписка отца с сыном продолжалась еще много месяцев.
Той же осенью 1937 года выяснилось, что кончился срок марокканскской визы, полученной Никола в Брюсселе, и что здешние власти не собираются ее продлевать. Никола и Жанин пришлось перебраться в Алжир, откуда в конце сентября Никола сообщал отцу:
«… я намерен был отправиться в Индию, через Алжир, Тунис, Египет, Персию, проходить неторопливо, этап за этапом. Один Бог знает, удалось ли бы мне это осуществить. Теперь не я принимаю решения, но эти любезные чиновники, которые дают визы. Так что я пока в пути: Касабланка, Фес, Ужда, дальше морем, Порт-Саид, Тлемсен, Алжир. Здесь очень любезный бельгийский консул, он любит живопись и много внимания уделяет художникам. Тлемсен очень красивый город, лежит в предгорье над изумрудной долиной, небольшие, тщательно возделанные поля, вся дорога красива.
… порт огромный. Свет проливается на него с неба, как крупные капли дождя в Бельгии, яркая окраска судов, все как во сне. Множество мелких суденышек и больших сухогрузов, которые медленно входят со стороны моря, и горы, и солнце, оно встает каждое утро и застывает над городом, который белыми уступами спускается к морю. О Боже, как прекрасен, папа, этот мир, прекрасны все виды его деятельности, и портовые машины так же прекрасны, как деревья. Я пишу вам слишком торопливо, ибо спешу увидеть как можно больше картин и книг. Все это просто скандал, как любит говорить Долгоруков, все, что творится в мире, но как великолепен этот скандал.
Я напишу маме длинное письмо, и пусть вас не удивит, если следующее письмо придет из Туниса или из Рима. Я буду там, куда эти вездесущие «заседатели с любезными улыбками» позволят мне ехать.
До свиданья, папа, спасибо за двести франков, которые я получил перед отъездом в Маракеше. Крепко целую вас, маму, Ниссона, от всего сердца».
«Заседатели с любезными лицами» – русские слова, записанные с ошибками (а может, набранные с ошибками), возвращали отца и сына в те не слишком далекие времена, когда они еще вместе читали по-русски Гоголя. Письмо предупреждало о том, что общению их пришел конец. И все же, где-то в Северной Африке вдруг вспомнились ему эти русские «заседатели»…
Потеребив на столе затрепанный польский паспорт Жанин, полученный ею в Варшаве после свадьбы с Олеком Тесларом, и нансеновский паспорт Никола с просроченной марокканской визой и без должных отметок о странствиях, бельгийские «заседатели» разрешили паре обгоревших дочерна художников переплыть из африканской красоты в другую, европейскую, в неаполитанскую красоту.
… Четыре с лишним месяца спустя, в дождливый февральский день, сидя в огромном мраморном зале неаполитанской почты, Никола писал новое письмо отцу. Он получил денежный перевод, подкрепился большим куском хлеба с кальмаром, оглядел Везувий, засыпанный снегом, опустевшие рыбные ряды на базаре, костры под арками улиц, у которых грелись рыбаки, мокрые улицы, мокрые палубы судов, и написал отцу грустно:
«Вы, наверно, хотели бы знать, что происходит в мозгах всех этих людей, которые водят хоровод по этой земле, я посылаю вам газеты. В жизни Неаполя можно увидеть все виды лжи, болезни и порока, которые как мне кажется отпечатались на лицах здешних моряков, рабочих и всей припортовой швали, всех здешних молодцов.
Мне-то на самом деле хотелось бы увидеть фрески, найденные в Помпеях, в Пестуме и во многих других местах, а также те, что выставлены в здешних музеях.
Первое мое впечатление вполне отрицательное, я снова и снова гляжу на них, но после того, как я копировал фламандские примитивы, где каждый штрих порождает эмоцию и возвышает, открывается навстречу сердцу, а тут, Бог мой, все, что я вижу не приближается даже к самому слабому из того, что я находил у Виргилия…»
В общем, ни итальянская архитектура, ни великолепный Пестум, ни Помпеи не трогают Никола, как трогало его Марокко, однако он собирается здесь жить долго, с упорством копировать полотна Тициана, Эль Греко, Мантеньи, Антонелло де Мессины и прочих, хотя они не так близки его сердцу, как фламандцы, голландцы, Рембрандт, Ван дер Меер…
Отчего ж тогда не вернуться? – спросите вы. Папа Фрисеро, кстати, об этом самом и спрашивает в своих письмах…
Нет, возврата нет… Он перебьется. Он собирается долго что-то копировать, долго где-то путешествовать, домой он никогда не вернется. Как он будет жить, на что? Это ему самому неизвестно…
«Что бы я ни натворил, я думаю, я всегда буду оставаться хорошим парнем, и если я никогда не стану господином или джентльменом, я буду выше этого, – гордо и обиженно пишет он отцу. – Волна, которую вы во мне чувствуете, она выйдет в один прекрасный день на поверхность, и может, этот день уже недалек. На этом я должен с вами проститься, милый папа, всегда хочется рассказать вам множество мелочей, но из них и складывается все та же борьба за достижение далекой цели, которой никогда не удастся достигнуть. Еще раз спасибо за вчерашнее письмо. Нежно вас целую. Никола».
Не слишком вразумительно, но вполне печально…
После Неаполя Никола и Жанин переехали в Фраскати, что близ Рима, сняли комнату, накупили красок. Никола сообщает в письме отцу, что продал какому-то немцу свое неоконченное полотно. И конечно, просит новых субсидий. В более или менее замаскированной форме все письма об этом… Оно и понятно. Все труднее становится «кормить зверя». А Никола хотелось бы вдобавок снова побывать в Помпеях, осмотреть весь берег до Капри… Долгие путешествия обходятся дорого. Кстати, Никола нигде не упоминает о том, что он теперь не один.
Отец, видимо, упрекает его в письмах, что он никак не может закончить картину, что он продает незаконченное, что расходы его растут.
«Я уже давно понял, – отвечает Никола, – что должен научиться сам зарабатывать на хлеб и воду и что мне никогда не удастся по-настоящему кончить картину прежде, чем ее продавать или ставить на продажу. Не напоминайте мне больше об этом».
Однако напоминает он сам. Рассказав в том же письме о встрече в Италии со своим 82-летним дядей, Никола возвращается к неизбежной проблеме выживания:
«В среду истекли сроки платы за комнату. Если я не получу денег, Бог знает, что мне делать. Полагаю, что я в последний раз прошу вас помочь мне, но если по получении этого письма вы смогли бы послать немножко денег авиапочтой или чеком в лирах через итальянский банк, я был бы признателен. Если это сердит вас, не делайте этого, но мне так нужны деньги, что даже телеграфный перевод был бы удобен, если вы сможете. Прощайте, милый папа, целую вас с нежностью. Поздравляю с пасхой. Маме я напишу. Никола».
Как ни мало доверяли родители всем этим якобы забавным итальянским историям о глупом немце, купившем у Никола недописанное полотно, главное они поняли: положение у сына отчаянное. Откуда им было знать, что их двое и что если им что-то и удается продать, так это картины Жанин. Что Никола пока еще только учится и долго будет учиться живописи. Что же касается бедняжки Жанин, ей до безбедной (хотя бы без долгов) жизни, увы, дожить было не суждено. Кстати, выживать в небогатой Италии оказалось намного труднее, чем в нищем Марокко. Даже неунывающая Жанин признавалась в одном из писем кузине:
«Несмотря ни на что решила, что выброшусь в окно как можно позже».
Чтобы развеселить кузину, она сообщает в том же письме, что благодаря их высокому росту (ее рост176 сантиметров) и длинному имени Никола (который с неизменностью сообщал, что он «фон Хольштейн»), все принимают их в муссолиниевской Италии за союзников-немцев («тедески») и оттого встречают с большим гостеприимством…
Счастливый народ итальянцы. Я облазил всю Италию автостопом на 60 лет позже, чем Никола и Жанин, и меня принимали там еще гостеприимней и жизнерадостней, чем их, потому что я был человек из Москвы («да Моска»), а в Италии, кажется, все, или почти все, были тогда коммунистами. То, что я при ближайшем знакомстве оказывался скорее антикоммунистом, чем коммунистом, никого не смущало (был бы человек хороший, тем более, из Москвы).
Что касается наших героев, Никола и Жанин, им пришлось уносить ноги на север, как только пришли деньги из Бельгии. Перед самым отъездом, облегчая свой багаж, поневоле скопившийся за годы странствий, они отправили один ящик с картинами в Бельгию, барону Бруверу. Что уж там были за картины, Бог его знает. Французские биографы об этом дружно умалчивают. Скорее всего это были непроданные пейзажи Жанин, а не учебные опыты Никола, далекие от завершения.
Эксперимент выживания был продолжен ими во Франции, где их тоже не ждали ни распростертые объятия родных, ни толпы меценатов-поклонников.
Их вполне равнодушно встретил более или менее знакомый им обоим Париж. Они снимали комнатки в самых дешевых отелях, вроде «Примаверы» на рю Алезиа, размещались то в чьей-то на время уступленной им мансарде, то в комнатке на рю Верней… Было так тесно, что писать мог только один, другой отдыхал или читал. Никола штудировал книгу Пауэрса о построении художественного полотна…
Как иностранцу с нансеновским паспортом Никола необходимо было получить какое ни то разрешение на жительство. Для этого он снова стал студентом и записался на курс в Академию Фернана Леже. Былой обитатель нищенского парижского «Улья» Леже к началу новой войны был уже знаменитостью. Он оформил шведский балет и создал фильм «Механический балет». Разнообразная механика (всякие болты, кронштейны, шурупы, станины, сверла) вообще переполняла его плоские полотна, формировала прямоугольные роботоподобные фигуры, склоняясь, впрочем, со временем к криволинейному кубизму с одной стороны и к коммунизму с другой. Понимая несовместимость последнего с отклонениями от реализма, он разумно продолжал обитать на Лазурном Берегу Франции, настоятельно рекомендуя соотечественникам жить только при коммунизме. Никола де Сталь не сумел увлечься стилем Леже. Впрочем, знаменитый мэтр и не слишком обременял своим присутствием академический девичник на рю Мулен Верт (Никола был в Академии Леже единственным представителем сильного пола). Царствовала в его отсутствие бывшая модель и ученица (а потом и жена мэтра) Валентина Ходасевич. Главный биограф де Сталя полагает, что Никола должен был симпатизировать этой соотечественнице. Может, так и было.
Когда я впервые приехал во Францию, соотечественница уже была вдовой и наследницей Леже, а также «гранд-дамой французской компартии». Мне попали на глаза всего два ее произведения, сходные по идее, и не очень интересные по исполнению. Первый стоял в витрине кассы «Аэрофлота» на Елисейских Полях. Это был портрет Ильича, сработанный из крупного галечника и мелких булыжников. Я отметил, что молодые русские кассирши относились к шедевру без уважения, но на покупателей-французов он производил не слабое впечатление. Второе произведение ассистентки Леже, с которым я познакомился через несколько лет в парижской печати, было произведением литературным (правда, в том единственном жанре, в котором не писал Чехов, – в жанре доноса). О его публикации позаботился знаменитый музыкант Ростропович. В этом тексте сообщалось, что в одном престижном парижском салоне вдова Леже встретила Ростроповича и его жену Галину Вишневскую, чьи высказывания показались мадам Леже недостаточно патриотичными, о чем она и спешила сообщить Кому Надо для того, чтобы впредь музыкант и его жена не смогли беспрепятственно выезжать за рубеж. Ростропович обнаружил это литературное произведение в подаренном ему (в минуты всеобщей растерянности) собственном его досье. Великого музыканта удивило не только то, что вдова точно знала Куда Надо писать в Москве, но и то, что Того, Кому Надо, она называла по имени отчеству. Может, это был тот самый отдел известного ведомства, где подыскивали подходящих жен для слабовольных французских интеллигентов, которые еще и в описываемый нами момент жизни молодого де Сталя (речь идет о весне и лете 1939 года) яростно «боролись за мир», отстаивая политику миротворца Сталина. После жаркого лета наступил отрезвляющий сентябрь, когда Сталин и Гитлер начали дружно делить Европу, отрезая от нее большие куски. Вскоре пришла очередь Франции. Началась война, которая французам показалась «странной». Огромную французскую армию загнали в окопы, над которыми кружили немецкие самолеты. У французов самолетов почти не было, и эта была только одна из странностей. Зато тогдашний французский министр авиации получил позднее Сталинскую премию мира… Не странно ли?
Жанин повезла в ту пору своего возлюбленного в Бретань, чтобы познакомить его с сыном Антеком и родителями. На вокзале их встречал кузен-художник Жан Дейроль, с которым Никола познакомился еще в Алжире. Парижские гости, видимо, рассчитывали долго прожить в Бретани, и Никола даже начал подыскивать жилье для приятеля-уругвайца. Но в просторном старинном доме семейства Гийу нового спутника дочери встретили довольно сдержанно. И впрямь радоваться родителям было нечему. Жанин бросила мужа, спихнула на родителей маленького сына, а теперь привела в дом нового нищего художника, с той разницей, что он не преподает, а только еще учится рисовать… Вот и сейчас он целый день пытается написать ее портрет, бьется и так и этак. Тем временем Жанин и ее кузен Дейроль спорят о геометрическом элементе живописи.. А на дворе война, и не слишком ясно, что будет с ними завтра…
Никола благоразумно решил, что в этой ситуации ему лучше не засиживаться в чужом доме, и один вернулся в Париж. В Париже он долго мыкался по чужим углам, одно время снимал ателье вместе со Сгарби, потом решил уйти в армию. Что ж, почти все фон Хольштейны воевали. На той или на другой стороне…
Как иностранец он мог служить только в Иностранном легионе. Он подал туда добровольцем и стал ждать своей участи. Из чужих домов, в которых он находил на время приют, самым просторным и удобным был особняк архитектора-декоратора Пьера Шаре и его жены Долли. Могло ли хозяину дома присниться в страшном сне, что года три спустя его любезный гость будет рубить топором двери этого дома, коллекционную, экспериментальную мебель, полки его библиотеки. Впрочем, Шаре мог увидеть в провидческих снах и кое-что пострашнее – Аушвиц, Дахау… На счастье, он поверил своим дурным предчувствиям и, закрыв дом на ключ, бежал за океан.
В те последние зимние дни 1939 года одинокий Никола обжил немало чужих опустевших мастерских. Было у него и несколько памятных встреч. Его познакомили с галеристкой Жанной Бюше. Позднее один из добросовестных биографов де Сталя нашел его имя среди многих других имен художников в записной книжке покойной Жанны. Биограф многозначительно отметил, что против имени Никола стоял крестик. Значило ли это, что она видела какой-либо его рисунок? Или просто то, что молодой бесприютный гигант показался ей привлекательным? Или что он был обходительным? Пойди угадай семь десятков лет спустя…
От внимания биографов не ускользнула памятная парижская вечеринка 1939 года, на которой присутствовал Никола де Сталь. В Париже тогда опасались воздушных налетов и соблюдали правила светомаскировки.
Романтично. Страшновато. Волнующе… Среди гостей, собравшихся в квартире мадам Хееринг на улице Томб-Иссуар, что в 14 округе Парижа, был младший брат известного эмигрантского писателя Владимира Сирина-Набокова Сергей Набоков (брат-писатель уделил ему не слишком много строк в своем блистательном автобиографическом романе). Сообщают также, что в тот вечер кто-то из гостей читал вслух русские стихи, в том числе, стихи Маяковского. Никола однажды упомянул в письме строку из Маяковского – во французском переводе. Похоже, что это был все тот же сборник переводов Бенжамена Горелого.. Так или иначе, русским биографам, писавшим о де Стале (скажем, Валентине Ходасевич-Маркаде), приходила на память фигура
Маяковского. Сравнения навевали черты сходства двух молодых авангардистов – рост, голос, странности поведения, «необъяснимое» самоубийство. Однако различий в их судьбе было больше, чем сходства. Маяковский, на его счастье, не был гонимым сиротой и радостно примыкал к гонителям. Зато де Сталя, на его счастье, никогда не заносило «под своды таких богаделен», в которых жировал Маяковский…
В январе 1940 года Никола был зачислен в Иностранный легион и отправился в Алжир, в Сиди-Бель-Абес, откуда направлен был в тунисский порт Сусс, в штаб первого кавалерийского полка, где ему и предстояло просидеть больше полгода – чертить полевые карты, играть в карты с сослуживцами и бездельничать.
Полвека спустя, лежа на пляже в тунисском Суссе или бродя среди античных мозаик в тамошнем великолепном музее, я иногда вспоминал историю де Сталя и удивлялся тому, что после отчаянной своей борьбы за Северную Африку он на казенный счет вернулся на этот берег и словно бы охладел ко всему. Может, виной армия?
Судя по фотографии, ему шли армейская форма и высокие кожаные ботинки.
Но видно, что-то происходило с ним на сей раз в Северной Африке, что отняло интерес ко всему и отняло силы. Ведь не только не осталось никаких рисунков и живописи, но и писем никаких не осталось. Интересовала ли его судьба тяжело больной Жанин, судьба сестер и приемных родителей, судьба друзей? Посещал ли он старинные памятники Магреба, так волновавшие его два года назад? Трогали его судьбы некогда вызывавших столь пылкие его симпатии арабских и берберских племен? Наконец, не интересен ли был сам Иностранный легион? Там было множество любопытных людей из всех стран Европы. Там были русские (даже русские аристократы).
Скорее всего, Никола переживал в то время очередную депрессию. Рутина казармы и службы, карт и штабного безделия помогли ему незаметно пересидеть серую полосу жизни. Жанин отмечала при встрече, что он поправился, окреп…
Можно также заметить, что он всегда был мало чувствителен к трагедиям, сотрясавшим планету, ко всему, что происходило за пределами его мира. В его собственном мире были свои нелегкие проблемы, и живопись должна была оказаться спасением от этих проблем. Остальное проходило где-то на границе сознания. Даже друзья, даже родители и сестры. Наверное, и больная Жанин тоже. Во всяком случае, упоминаний о ней не находишь у него до самого дня его демобилизации в сентябре 1941 года… Что уж тогда говорить о мировой войне, об униженной Франции, об ушедшей на дно Польше, о растерзанной России, где русские отступили за неполных четыре месяца до самой Москвы, оставив врагу богатейшие земли, промышленность, миллионы пленных…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.