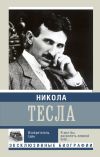Текст книги "Порыв ветра, или Звезда над Антибой"

Автор книги: Борис Носик
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 26 страниц)
«Рискуя быть обвиненными в святотатстве, – пишет парижанка Вероника Шильц (имевшая, кстати, намного больше русских друзей, чем сам Никола де Сталь), – мы можем сказать, что никогда Никола де Сталь не был так близок к иконе, как… в серии «ню» и «фигур» 1953-54 гг…»
И автор монографии о де Стале Жан-Клод Маркаде, и его покойная супруга В.Ходасевич, посвятившая творчеству Сталя одно из первых русских исследований, и знаменитый Андре Шастель – все говорят о несомненных чертах русской иконы во французской живописи космополита де Сталя. В этой связи вы найдете у них и рассуждения о приоритете сущности над видимостью, и о красочном разгуле, дарящем радость, и об обратной перспективе, и о сплошном фоне, и о ярком красном, и о вечном пристрастии путешествующего де Сталя к византийской живописи. В наибольшей степени все эти наблюдения касаются последних месяцев жизни художника, последнего его взлета и последнего «взрыва». Впрочем, Жан-Клод Маркаде настойчиво обращает наше внимание и на ранние (1939-1941 гг) сталевские портреты бедной его подруги Жанин. «Это сущие иконы… У нее глаза архангела…» – замечает исследователь.
Жорж Дюпюи с уверенностью говорит, что, как и любимый им Эль Греко, де Сталь был ученик византийской школы. Маркаде утверждает, что энергия цвета в последних работах де Сталя родственна энергии цвета в иконе. Как любил говорить Ланской, этот цвет «поет». Так что, выученик французской точности и дисциплины де Сталь являет редкий в искусстве XX века образец синтеза старинного и нового.
Глава 35. Музыка последней зимы
Убегая в Мадриде от попутчика и неисцелимой тоски, де Сталь все же не забыл прикупить мебель для Менерба, а также прихватить и запихнуть в чемодан какие-то мало кому интересные предметы (которые не могли не озадачить таможню) – какие-то флаконы, бокалы, горшочки и вазочки: он писал в ту пору натюрморты. Он уже разместил на своих натюрмортах все предметы посуды и мебели, уцелевшие от прежней антибской знаменитости, работавшей в том же ателье, срисовал в Спераседе у Жана Борэ посудную полку завезенным из Штатов фломастером, а незадолго до смерти превратил рисунок в чудное полотно «Этажерка». Как отметила грамотная внучка художника (Мари де Буше), иные из предметов на натюрмортах де Сталя словно светятся изнутри. Впрочем, в последних его натюрмортах все чаще преобладают холодные тона.
«В последние недели жизни Никола де Сталя, – пишет искусствовед Вероника Шильц, – оранжевый, красный, желтый противопоставляются черному, серому, темно-свинцовому в его натюрмортах, в которых читается нарастающее чувство одиночества… доходящее до траурной скорби по цвету…»
Думается, нельзя не упомянуть о состязании синего и красного в последних картинах де Сталя. Об этом писал Анри Мансар, определяя противостояние синего и красного как «космическое противостояние земли и неба», напоминая нам «синего Рублева», формулу Кандинского и даже черновик Флобера, в котором героиня смотрит на улицу через синее окно: «через синее все казалось грустным». «Синий уголок ателье» Андре Шастель находил попросту «мрачным» (lugubrе).
Что же до красного фона недописанного, последнего полотна де Сталя, то он вдохновил недавно одного из французских литераторов на создание повести «Мажорный красный». Уже два с половиной века неклеванные ни «красным петухом», ни «жареным», французские литераторы остаются по традиции «красными», хотя де Сталь (которому посвящена повесть) вряд ли имеет к этому застарелому энтузиазму прямое отношение.
В последние месяцы и недели жизни в Антибе де Сталю вдруг стали вспоминаться люди из Ниццы, из Брюсселя, из прошлого. Он навестил в Ницце Жака Матарассо, пригласил супругов Обле навестить его в Антибе, а однажды вдруг написал длинное письмо одной из первых своих женщин – Мадлен Опер. В этом письме среди разнообразных сообщений были и совсем устрашающие:
«…между мной и реальностью воздвиглась стена, прозрачная, тяжелая, мощная… чтобы пробиться к подлинному свету, я должен избавиться от своего телесного каркаса».
Впрочем, о своем желании слиться с еще более широким пространством де Сталь писал все последние годы.
Подвергший блестящему разбору письма де Сталя искусствовед Андре Шастель отметил постепенный переход от надменности тона и искусной дипломатичности гордого художника к печальной и неизбывной жалобе:
«После того, как минули первые радости в связи со свалившейся на него известностью, и первые экстравагантные траты, появляются печальные жалобы на усталость и бессонницу, на нервозность и исступление. Нечто безысходное и неисцелимое вытесняет в нем безграничную самоуверенность. Можно отметить, как нарастает тема роковой обреченности. Тон остается гордым, хотя по временам и жалобным. Появляется то, что он называет «туманом»…
В последние месяцы своей жизни де Сталь чаще всего излагал свои взгляды на живопись в письмах Жаку Дюбуру, а иногда подругам Жанны мадам Грийе или мадам Осман. Последнее из таких «теоретизирующих» писем он послал в январе 1955 года коллекционеру и искусствоведу Дугласу Куперу. Де Сталь писал о роли случая и случайности в развитии его живописи. Он не впервые писал о роли случайности или даже «взрыва», о вторжении неведомой внешней силы, о находках, являвшихся сами собой… Как ни странно, французским комментаторам не вспоминался при этом старший художник (в некотором смысле «основоположник»), писавший о том же несколько десятилетий тому назад:
«Все формы, когда бы то ни было мною употребленные, приходили ко мне «сами собой»… Иногда приходилось терпеливо, а нередко и со страхом в душе дожидаться, пока они созреют во мне».
Или еще:
«Развитие искусства… состоит во внезапных вспышках, подобных молнии, их взрывов, подобных «букету» фейерверка, разрывающемуся высоко в небе и рассыпающему вокруг себя разноцветные звезды…»
Так задолго до Сталя писал Кандинский. В его письмах найдется еще немало совпадений с формулами молодого де Сталя (о подсознании, об алогизмах, о непризнании абсолютного и т.п.).
…Всю зиму и начало весны 1955 года Никола де Сталь напряженно работал – писал картины, делал с Пьером Лекюиром книгу «Максимы», готовился сразу к нескольким выставкам (в Париже, Лондоне, Цюрихе). А однажды, встретив де Сталя, зале смотритель музея в замке Гримальди Дор де ла Сушер предложил ему устроить выставку в их почтенном учреждении (ныне это музей Пикассо). Де Сталь принял предложение, и выставка должна была открыться в августе 1955 года, после парижской выставки в галерее Дюбура.
Де Сталь работал теперь исступленно, зачастую почти без сна, но при этом еще успевал путешествовать, надзирать за работами в Менербе, угощать мастеров, работавших в «малом замке», в престижном антибском кафе «У Феликса», завтракать в ресторане с Бетти Бутуль и ее супругом, мэтром Гастоном Бутулем, писать письма. Успевал читать книги и даже знакомиться с дамами. Дамы в Антибе попадались ему вполне интересные и образованные. Одна из них, упомянутая мной жена адвоката, написала сочинение об истории секты ассасинов или хашишинов. Признаем, что слова, лежащие в основе обоих названий этой исмаилитской секты (и убийство и гашиш), звучат и нынче вполне устрашающе.
Когда сочинение это вышло в свет, наивный американский рецензент встретился с авторшей в парижском отеле близ Латинского квартала и попытался узнать, откуда она все это разведала: не иначе, как через своего мужа, который как-никак адвокат. Адвокат тут был скорей всего не причем. Литература об этой секте к тому времени уже кое-какая существовала. Скромному автору этих строк довелось читать про все эти страсти прежде, чем засесть в памирском кишлаке среди мирных исмаилитов и написать для таджикской студии киносценарий про Омара Хайяма…
Рассказывают, что в неблизком от нас (по времени), но вполне недалеком по грозящим ныне нашему миру страхам XI веке в неприступной горной крепости Аламут царил всемогущий глава секты ассасинов, Старец Горы Хасан-и-Сабох. Здесь же раскинулся прекрасный сад, укомплектованный райскими гуриями, может, даже девственницами. Предстоящих вербовке в секту молодых новобранцев, до кайфа обкуренных гашишем и опоенных вином, уносили в этот сад, прообраз обещанного им рая, – в объятия дев. Завербовав, их отправляли на мокрое дело, обещая, что после смерти они попадут в тот же самый райский сад… Политическое убийство, как нынче выражаются, терроризм, было орудием захвата власти для новой династии, которую позднее смело с лица земли монгольское нашествие. Конечно, рай был для самых простых камикадзе: для тех, кто потоньше и поумнее, потребны были изрядная доля суфийской мистики, критика неправедных порядков и благородный поиск недостижимой Истины… Обо всем этом писала грамотная антибская дама, жена адвоката красивая Бетти. Свой труд (а может, и свою симпатию) она вынесла на суд долговязого и богатого аристократа-художника, недавно объявившегося на приморском бульваре Антиба и в кафе «У Феликса». Он был из тех русских, что все принимают всерьез. Он начал внимательно читать ее труд и в письме к ней изложил свои размышления по поводу книги. Конечно, прежде всего де Сталь писал о том, что занимало его теперь больше всего: о смерти, об убийстве, о самоубийстве как тени убийства… Убийство художник, похоже, ставил даже выше самоубийства, считая его актом исключительным, обдуманным, истинной жемчужиной, порожденной серым веществом мозга и оправленной вдобавок в слоновую кость, наподобие рукоятки кинжала…
Однако на этом общение художника с женой адвоката не кончилось. Позднее Никола отослал Бетти вполне светское и игривое письмо, где было и про его работу, и про его рыночные успехи, и про музыкальный спектакль в Ницце, и про стиль Борхеса, которого он перечитал несколько раз после того, как за ужином муж Бетти впервые упомянул это незнакомое художнику имя латиноамериканского писателя. В общем, это было вполне перспективное знакомство, и может, оно смогло бы отвлечь де Сталя от наваждения…
Под Рождество де Сталь написал длинное письмо Жаку Дюбуру о своем одиночестве и больших надеждах на их с Дюбуром грядущую мировую славу:
«Я знаю, что мое одиночество бесчеловечно, но я смогу здесь так сильно продвинуться вперед, что вы займете самое поразительное место в мире. Если я продержусь так еще несколько лет, вы увидите полотна, каждое из которых будет событием, не будет укладываться ни в какие ныне известные рамки. Это нелегко, но попробовать все же надо».
Дальше речь шла о мучившем его недуге, который Никола называл «головокруженьем» и который, по его признанию, являлся непременным спутником успешной его работы, помогал ему достичь большего лаконизма, большей свободы и ясности. Неожиданность, с которой возникали в его творчестве новые направления, де Сталь считал естественной…
Под Новый год Никола поехал в замок Дугласа Купера, но оттуда, вдруг бросив удивленного хозяина, умчался на выставку живописи Курбе в Лион.
После посещения выставки де Сталь написал Жаку Дюбуру, что Курбе это титан, которого поймут не скоро. Письмо де Сталя начиналось с утверждения, что его самого пока нельзя ставить на одну доску с Курбе (в других письмах – с Коро, с Франсиско Гойя). Нетерпение быть приравненным к величайшим художникам мира, которое ощущалось теперь все чаще, вероятно, тревожило и Дюбура и Лекюира. Оба парижанина пытались развеять тяжелые мысли художника, но он отвечал все той же фразой: «Не терзайте себя по моему поводу…» Впрочем, Пьеру Лекюиру де Сталь отвечал резче и неуважительней, чем Дюбуру.
На самом-то деле, это де Сталя терзали теперь самые разнообразные страхи и сомнения. Он опасался не только того, что будет отвергнут возлюбленной, но и того, что живопись его станет невостребованной, даже того, что денег ему не хватит (или уже не хватает).
10 января он написал Жаку Дюбуру, что, возможно, из-за разницы в солнечном освещении какие-то из его полотен, написанных в Антибе, покажутся в Париже недописанными. Он и правда сейчас писал неправдоподобно быстро и часто не давал себе труда закончить работу… В письме к Дюбуру Никола предложил, что он слетает на полдня в Париж и взглянет там на свои картины. Но в завершение своего коротенького письма он заверял парижского галериста, что все в конце концов наладится и «решится окончательно в ту или другую сторону».
Однако беспокойство его не улеглось. В тот же день он доверительно написал Сюзанне Тезена, что мысль об этих посланных в Париж картинах внушает ему тревогу.
Кончилось тем, что Жак Дюбур сам приехал к де Сталю в Антиб, чтобы его успокоить. В февральском письме Дюбуру Никола пишет, что такой визит полезен для дела и пытается объяснить новые взрывы своей творческой активности:
«Чем внимательнее вы присмотритесь к взрыву – для меня это все равно что распахнуть окно – тем лучше вы поймете, что я не могу остановиться, создавая все новые и новые вещи, и тем больше у вас будет веских аргументов, чтобы защитить то, что я делаю».
Любопытно, что о своих тревогах Никола написал сравнительно недавней своей знакомой Сюзанне Тезена. Среди наименее подробно описанных моментов биографии нашего героя можно назвать и эту интимную доверительность с богатой дамой патронессой, бывшей в годы оккупации ближайшей подругой знаменитого французского писателя-нациста и воителя-антисемита Пьера Дрие ла Рошеля. Романтическое отличие Дрие от других французских коллоборантов заключалось в том, что он испугавшись суда и послевоенных разборок (из которых многие французские коллоборанты вышли с почестями и с повышением, вроде Буске или Миттерана), предпочел выпить яд… Легко представить себе, как волновала вся эта история нашего героя, не оставлявшего мысли о самоубийстве.
В длинном письме бывшему владельцу замка «Кастеле» в Менербе Никола де Сталь взялся перечислить свои труды по усовершенствованию поместья и все с ним связанные затраты, объясняя, что именно по причине этих затрат он пока не сможет отдать недоплаченную сумму, но обещая непременно отдать долг в конце апреля. Впрочем, тревоги, пришедшие вместе с богатством, были тоже, видимо, неотступны. Посулив в письме к бывшему своему пасынку Антеку оплатить ему проезд до Антиба (чтобы написать о нем, де Стале, хвалебную книгу), Никола сопроводил свое обещание жалобой на материальные трудности…
Можно отметить, что в письмах де Сталя в эти последние месяцы с большей даже настойчивостью, чем во все былые годы, присутствует музыка. Музыка прорывается в описания, в глаголы, в метафоры (в письме Куперу Никола сравнивает себя с барабаном, противопоставляя его гром звуку трубы над морем). Де Сталь пишет о концертах, на которые успел съездить, о концертах «Домэн мюзикаль» в Мюнхене, на которые не решился ехать… Похоже, что в пору его мучительных «головокружений» музыка (и скорее, барабан, чем труба) неотступно звучала у него в ушах. Искусство авангарда XX века вообще притязало на синтетизм (и уж во всяком случае, на синестезию). Никола де Сталь был причастен и к музыке, и к поэзии, но, конечно, не в такой степени, как почтенный Кандинский, который был и поэтом, и музыкантом, и драматургом, и режиссером, и теоретиком искусства, и ученым-социологом…
Из всех видов искусства музыка представлялась художникам самым близким видом, а абстрактным художникам вдобавок еще и наиболее беспредметным. То есть и предмет и идею произведения, и даже чувство, им внушаемое, должен додумывать (дочувствовать) сам зритель или сам слушатель. Понятно, что каждый додумывает на свой лад. Ну, скажем, к чему может подвигнуть слушателя «Лунная соната» Бетховена. Среди ее бесчисленных поклонников известны два, которые, ее обожая, имели к ней каждый свои претензии. Персонажей этих звали Бисмарк и Ульянов (по кличке Ленин). Бисмарк говорил, что когда он слушает эту музыку, ему хочется гладить всех людей по головке. Ленин говорил, что музыка эта побуждает его бить всех людей по голове (что он и стал делать, захватив власть в России).
Кандинский говорил, что «музыка всегда была искусством, не употреблявшим своих средств на обманное воспроизведение явлений природы, но делавших из них средство выражения душевной жизни художника». По Кандинскому, творчество должно быть направлено на раскрытие в искусстве «трансцендентальной сущности вещей (по ту сторону их зримой вещности)». С этой точки зрения идеалом творческой деятельности Кандинскому представлялась деятельность музыкальная.
Сам Кандинский обладал, как, кстати, и де Сталь, «цветным слухом». В его наследии, как и в наследии де Сталя, немало «музыкальных» картин. В 1920-м году на заседании возглавляемого им при большевиках Института художеств он демонстрировал таблицу «Параллели цвета и звука», однако роман Кандинского с музыкой начался намного раньше. Он вполне прилично играл на виолончели и на фортепьяно. В 1911-м году Кандинский впервые услышал струнные концерты австрийского композитора Шонберга и вдохновленный ими написал картину «Концерт» («Впечатление 111»). В том же году вышли книга Кандинского «О духовном в искусстве» и книга Шонберга «Учение о гармонии».
Сам Шонберг тоже занимался живописью, а о живописи Кандинского и Кокошки он говорил, что эти художники «пишут картины, для которых материальный мир не более чем импульс к фантазии в красках и формах. То что они выражают себя таким же образом, каким до них выражал себя раньше лишь музыкант, это и есть симптомы распространяющегося познания истинной сути вещей».
Шонбергом была создана атональная, додекафоническая музыка и основана школа композиции, которую называют Новой венской (или нововенской) школой. Познакомившись с Шонбергом в Германии, Кандинский до конца жизни вел с ним активную переписку.
Теперь музыку Шонберга и других композиторов нововенской школы, атональную, лишенную мелодии музыку предстояло услышать Никола де Сталю, и он с нетерпением ждал начала парижских концертов «Домэн мюзикаль» в театре Мариньи.
Четвертого марта Никола де Сталь двинулся в Париж в автомобиле, прихватив в попутчицы Бетти Бутуль. Путешествие длилось целую ночь.
В Париже у Никола было еще множество дел. Он заезжал в типографию Бодье, где у них с Лекюиром должна была выйти книга «Максимы», потом он до ночи бродил по улице с сыном Жанин Антеком, который собирался писать книгу о творчестве де Сталя. Он съездил также повидаться с Жаком Дюбуром.
А шестого марта начались концерты в театре Мариньи. Наряду с Шонбергом исполняли Антона Веберна, потом Пьера Булеза, и для Никола де Сталя это было настоящим потрясением. Он слушал, и в видениях его звуки являлись в красках. Он даже пытался успеть что-то нацарапать на программке: «скрипки красное цвет охры…» Программка эта сохранилась, она является архивным документом, нас с вами не будет, но вечно будет жив архив…
Избранная публика из числа «завсегдатаев «Домэн мюзикаль» собралась после концертов в салоне Сусанны Тезена. Вряд ли сам Шонберг, будь он жив и окажись он в Париже, попал бы в высокородное общество почитателей Второй венской школы, в салон подруги покойного эстета… Кто он был, в конце-то концов, сам Шонберг, венский еврей, беженец, так что даже у ближнего соседа своего в Лос-Анджелесе, у богатого композитора И.Ф.Стравинского никогда в гостях не бывал…
Среди гостей в тот вечер промелькнул Пьер Лекюир, но он теперь только раздражал де Сталя, так и не нашедшего времени для встречи с ним…
Многие из привилегированных гостей салона, вступавших в тот вечер в разговор со Сталем, вспоминали позднее, что он жаловался на усталость, на бессоницу, на рокот волн и главное – на шум ветра в Антибе. Везде этот проклятый ветер…
Силы оставляли его, возбуждение сменялось депрессией.
Окажись в тот вечер в толпе меломанов мой друг «псико» Пьер или американская блондинка Кей Джемисон, они могли бы объяснить бедному Никола, что это и есть самый опасный момент, переходный, между циклами, или хуже того, смешанный…
Помню, мы шли с другом-психиатром Володей Леви по коктебельскому пляжу, и он сказал:
«Когда любовная неудача наложится на депрессию – жди беды…»
Я сказал:
«А какая она бывает, удача?»
На дворе стоял 1973. Сынулечке моему было семь…
На обратном пути из Парижа де Сталь ненадолго задержался в Менербе, а 10 марта он уже был в Антибе, обедал, как было заведено у них по четвергам, с Жаном Борэ и его женой Элен в кафе «У Феликса». За обедом Никола возбужденно говорил о концерте, о музыке… Бедный Веберн, подстреленный близ своего деревенского дома случайной американской пулей… Пуля дырочку найдет…
– Ах, как гремел барабан! Вы бы слышали!
В предоставленную де Сталю под дополнительное ателье заброшенную сторожевую башню на дальнем конце Антибского мыса уже были доставлены заказанные художником огромные (три с половиной метра на шесть метров) подрамники. Художник сам натянул на них полотно. Незапятнанно белая площадь полотна казалась огромной. В конце концов, вырвавшись из неподвижности, он ринулся на снеговую равнину со щеткой…
Сперва киноварь, ярко-красный фон…
Кандинский писал когда-то, что красный обладает огромной силой, что он сам по себе есть движение. Что он противостоит черному и что при их совмещении они ведут к коричневому, очень жесткому.
Пришел день, и черный не замедлил ворваться на полотно. Это был огромный рояль. Горизонтальный черный блок рояля в левой части картины. А справа, в противовес ему вертикальный столб контрабаса… Милые друзья прежних времен, Бистези, помогли найти инструмент в Ницце.
Никола ощутил вдруг смертельную усталость… Такое уже было с ним в феврале… И в октябре, перед Испанией.
Жан Борэ одобрил эскиз… Черный рояль, контрабас, а между роялем и контрабасом, в оркестровой яме – белые и желтые листки нотной бумаги. Сама музыка? Ветер?
Музыка была в противостоянье всего двух инструментов, музыка была в красном фоне.
Большинство искусствоведов считают это полотно вполне завершенным шедевром.
Иные пишут, что просвет с нотными листками – это и есть та пустота, в которую ушел художник…
Чего только не пишут об этом огромном полотне!
Арно Мансар считает, что построение картины напоминает классическое изображение Благовещения. Слева – простершийся перед Святой Девой ангел, справа – стоящая Богородица. В отличие от Вероники Шильц Арно Мансар не извиняется за богохульное сопоставление…
Многие пишут об этом торжествующем красном фоне картины. Считают, что он пришел с русской иконы. Маркаде уточняет, что это ближе всего к стилю Новгородской школы…
Русская икона, музыка, красная буря, та самая, что сделала его сиротой и подтолкнула к краю террасы над каменной мостовой улицы Ревели…
В понедельник, вернувшись от Жана Борэ, он забрал в антибской лавке заказанный им седьмой том собрания сочинений любимого им Чехова и продолжил работу над картиной.
Говорил по телефону с Жанной. Он виделся с ней в конце недели, они договорились о новой встрече, но теперь она сказала, что не сможет приехать. Никто не знает подробностей этого разговора. Бог мой, какие там разговоры, жаны, жанны, если все уже решено…
Во вторник, 15 марта он продолжал работать в одиночестве над «Концертом». Рокот рояля заглушал сомнения…
Днем Никола зашел к знакомому юристу в Антибе. Расспрашивал, как обеспечить имущественные права детей, в частности, тринадцатилетней Анны, если с ним что-нибудь случится. Он знал, что должно случиться, и чувствовал облегчение.
Близ цитадели он встретил главного куратора антибского музея, и господин Дор де ла Сушер захотел его сфотографировать. Никола улыбался. Пожалуй, с меньшим напряжением, чем обычно.
Добравшись до дому, он начал жечь письма. Письма Жанны он откладывал в сторону. Как пишет осведомленный биограф, он отнес пачку ее писем ее мужу и сказал: «Ваша взяла». Как и многие другие поступки де Сталя, этот поступок взрослого человека объяснить трудно. Обида? Месть?.. Он мстил модели? Ее мужу?
В Антиб он возвращался пешком. Дома продолжал жечь письма. Потом принял большую дозу веронала, но его вырвало. Тихий уход не удался…
В среду он не выходил из дому. Написал деловое письмо старшей дочери, потом два довольно странных и малозначащих прощальных письма Жаку Дюбуру и Жану Борэ. Вот письмо к Дюбуру:
«Жак, я заказал краснодеревцу у крепостной стены два деревянных шезлонга, один из них я оплатил, это для Менерба. У таможенников остался еще столик, а в кампании есть бумаги для доставки стульчиков и табуретов, которые я закупил в последний раз, тоже для Менерба.
У меня нет сил закончить мои картины.
Благодарю за все, что ты для меня сделал.
От всего сердца, Никола».
И еще письмо Жану Борэ, в чье высшее понимание его живописи он так трепетно верил:
«Дорогой Жан, если найдешь время, если случатся какие ни то выставки моих картин, не расскажешь ли, что нужно делать, чтобы их понять? Спасибо за все».
Такие вот суетные, практические хлопоты. И то самое раздвоение, что всю жизнь помогало ему как-то выживать. Теперь оно поможет ему уйти…
Он не написал ни слова близким… Ни слова о себе… Психологи, изучавшие последние письма самоубийц, уже отмечали это ничтожность их предсмертного эпистолярного наследия. Вспомните убогое письмо Маяковского с цитатой из собственных стихов… Вообще при всех различиях в ситуации (думаю, Маяковскому было чего опасаться) сходство какое-то есть.
Думал ли Никола о жене, которую оставит вдовой, о четверых сиротках, о сестрах… Вряд ли. Он и в лучшие времена не мучил себя сопереживанием. Этот мир, который оставил его сиротой, не заслуживал сострадания. Он с ранних лет считал, что ничем не был обязан этому миру.
О чем он думал весь долгий день 16 марта, наш бедный петроградский сирота Николай, наш процветающий французский художник, молодой, долговязый хозяин маленького люберонского замка, вхожий в парижский салон мадам Тезена? Точнее, что он чувствовал?
Вероятно, чувствовал себя беззащитным, загнанным в угол, чувствовал, что дальнейшее существование непереносимо, ощущал свою неспособность жить дальше, бороться за жизнь. Неудачи подступали к нему из темных углов, он ощущал полную беспомощность и тревогу. Гора придуманных и настоящих трудностей угрожающе застилала горизонт, в который он все пристальней вглядывался последние годы. Оставалось только бежать, прервав муку. Бежать в тот мрак, что сгущался за окном…
В десять часов вечера он поднялся на открытую террасу дома Ардуэн и ласточкой нырнул в темную пустоту…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.