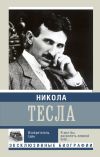Текст книги "Порыв ветра, или Звезда над Антибой"

Автор книги: Борис Носик
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 26 страниц)
«27.5.45
Антек уже приходил к отцу за справкой для своей матери, у которой больное сердце. Это четырнадцатилетний мальчик, которому на вид не дашь больше десяти.
В воскресенье я в первый раз пошел к ним в дом 54 по рю Нолле. Дом продан, они должны выехать, а жаль, потому что место невероятное и им очень подходит… Антек побежал искать отчима, чтобы открыть дом. Ставни в нем заперты, потому что двери разбиты на куски.
Я вошел в комнату, забитую полотнами Сталя, все разрушено, четыре комнаты без дверей, потолок почти провалился. Несколько полотен, огромные, но хорошие, как правило, очень абстрактные, но мне нравятся, так сказать, «красивая живопись», «хорошая работа» и везде видна его индивидуальность.
Через пять минут пришел Сталь. Огромный, не меньше двух метров, и голос как оркестр.
… Пришел месье Перре со своими друзьями, которые наверно, купили много картин.
Мы поднялись на второй этаж. Я знакомлюсь с мадам… настоящая покойница, зеленоватый оттенок кожи. Короче, сердечница. А на самом деле, существо замечательное, и ум в ней так и светится.
Она побежала искать стихи своего сына, чтобы мне показать, и я подумал, что это признак ее материнской любви… У нее поразительно живая речь. Так льется потоком, что отдельные слова даже не выделяешь.
«13.6.45
Сталь приготовил нам чай, вернулся с половиной длинного хлеба, который он разрезал и смазал маслом. Потом он принес нам огромный поднос со сладким творогом, чтобы намазать сверху. Странное блюдо, но недурно.
Реверди принес двух кур, пакет и огромный чемодан с 30 бутылками розового вина. Пиршество длилось до 3 или до 4 утра. Сожгли многие двери дома…
22.1Х
Они еще несколько дней будут на улице Кампань-Премьер. Я говорил ему (де Сталю), что мне хочется пойти с ним к Пикассо, чтобы с ним познакомиться. Он сказал, что мне это только повредит, потому что Пикассо не любит, чтобы ему слишком откровенно говорили, если на его картинах что-нибудь не понравится. Он любит, чтоб ему льстили, так что появление в обществе Сталя может мне только повредить. Мне показалось, что у него очень много показного, саморекламы…»
Глава 22. Таланты и поклонники, великие покойники
Скромные коллективные выставки все же ввели нового парижанина де Сталя в круг художников, знатоков искусства, галеристов и маршанов, помогли завести друзей и приобрести поклонников. Без поклонников-меценатов художнику, не имеющему внехудожественных доходов, выжить и вовсе невозможно. Выставки 1944 и 1945 года, а также близость к окружению Сезара Домеля и Альберто Маньели расширили круг парижских знакомых Никола, а со временем и круг его покровителей, его покупателей. Среди них были и художники, и любители, и просто тонкие знатоки искусства, и торговцы живописью, и поэты, и люди близкие к художественным кругам, и родственники Жанин. Одним из новых друзей Никола стал чуть раньше него пришедший к абстрактной живописи русский аристократ, граф Андрей Михайлович Ланской. Если верить ему, он был потомок того самого графа Ланского, который унаследовал супружеское ложе Пушкина, взяв в жены его вдову со всеми ее детьми и влиятельными связями. Русский эмигрант, художник Андрей Ланской был всего на двенадцать лет старше Никола де Сталя, но каждый из этих двенадцати лет стоил многих довоенных или мирных бельгийских. Как и Сезар Домеля или Альберто Маньели, он был самоучка. Годы его отрочества переломили война и революция. Он успел поучиться всего год в Пажеском корпусе и один год в гимназии, а семнадцати лет от роду юный аристократ Ланской ушел в белую армию драться с большевиками. Кто предскажет нам дороги и тропы судьбы? Чуть позднее, в Париже, Ланской был облеплен эмигрантскими большевиками, как сахар мухами, но судя по воспоминаниям, он к тому времени больше не придавал значения ничему, кроме занятий живописью. Понятно, что биографы и в жизни самых классических самоучек ищут – у кого учился, кого посещал. И всегда то ни се находят, не вполне, впрочем, точно. Вот про Ланского пишут, что в Киеве он заходил в студию А.Экстер, а в Париже к Судейкину. Но сколько раз заходил, теперь уже спросить некого. При ближайшем рассмотрении короткой и заполненной под завязку трудами и неприятностями парижской жизни Судейкина отыскать в ней щель для уроков трудно. А вот кто принял Ланского в Париже с распростертыми объятьями, так это были молодые парижские художники и их леваки-пастыри Ромов, Барт, Зданевич, Ларионов, а также их пробольшевистские группы «Удар» и «Через». В эту вот компанию левой молодежи (Терешкович, Карский, Воловик, Минчин) и тех, что были постарше, но там же паслись (вроде Пуни, Кременя, Липшица, Сутина, Цадкина, Грановского), и вошел в Париже Ланской: сидел с ними в кафе, где толковали о новой российской безграничной свободе, и уже через два года начал участвовать в ими организованных выставках. Сперва в большой коллективной в галерее «Ликорн», потом в галереях «Кармин» и «Анри» вместе с недавним красноармейцем Костей Терешковичем и недавним комиссаром Марком Шагалом. Оба были, впрочем, дезертиры и беженцы-эмигранты (Костя, как положено, бежал в Константинополь и оттуда в трюме добрался в Марсель, а комиссар Шагал сбежал из командировки, но вероятно, наган и кожаную куртку успел сдать то ли на границе, то ли еще в Москве). На выставке в галерее «Кармин» добрый человек, большевик Сергей Ромов охарактеризовал Ланского как художника «русской школы», произрастающей из «французской школы». Зато на афише Ромов представил Ланского как графа, потому что уже известно было, что новой российской власти, перебившей чуть не всех аристократов, хотелось бы заиметь своих «красных графов» на самых заметных участках жизни.
B конце 20-х на живопись Ланского (в ту пору еще вполне фигуративную) обратил внимание художественный критик и коллекционер Вильгельм Уде, некогда сосед, и даже супруг молодой художницы Сони Терк, что была родом из города красивых женщин Одессы. На самом деле никакие женщины, даже бойкие одесские (вроде Дины Верни), даже с петербургским гимназическим образованием (вроде Сони Терк) знаменитого Уде не интересовали. Его интересовало искусство, и может, еще чуток мужчины. Но родственникам, материально поддерживавшим бескорыстные усилия Вильгельма на ниве искусства, было бы приятнее, если б он женился. Да и Сонины приемные родители были обеспокоены одиночеством девушки в чужом городе. Желая укрепить свою экономическую базу и успокоить кормильцев, Соня и Вильгельм вступили в брак, освященный искусством. Чуть позднее Соня вышла замуж за Робера Делоне, а Вильгельм, среди прочих своих открытий на ниве искусства, открыл Ланского и даже написал о нем статью. Конечно, в статье содержались намеки на влияние Достоевского (но какой же иностранец, заговорив о русском, избежит намеков на Достоевского?). Зато, дописав свою статью, Вильгельм Уде привел Ланского на рю Боэси в престижную галерею «Бинг» и представил его знакомым галеристам. Так Ланской попал в одну компанию с такими знаменитостями, как Брак, Дерен, Руссо, Матисс, Бонар, Фрис, Ван Донген, Марке, Вламинк… А главное, в галерее этой произошло одно воистину судьбоносное для Ланского знакомство: он познакомился с пятидесятилетним Роже Дютийелем (или Дютильелем), и знакомство это оказалось более важным для жизни и творчества Ланского, чем все перечисленные выше столь престижные и столь лестные для любого художника знакомства. Ибо Роже Дютийель был коллекционер и меценат. Он мог не просто выручить художника, купив у него картину, он мог покупать много картин и выручать из беды многих художников. Ко времени его знакомства с Ланским имена художников, которых меценат Роже Дютийоль выручил из беды, могли бы украсить любую художественную энциклопедию: Брак, Вламинк, Дерен, Шаршун, Модильяни, Миро, Бошан, Марке, Руссо, Фрис, Вюйяр, Ван Донген, Руо, Матисс… Ученый искусствовед Бертье так писал об этом в своей диссертации:
«В условиях рыночной экономики, когда произведение искусства является товаром, положение художника зависит от спроса. Роль коллекционеров авангардной живописи в конце Х1Х и в первые годы XX века была не пустячной. Лишь они, вместе с несколькими маршанами, смогли оказывать своим любимым художникам материальную и моральную поддержку… Тот же Ланской получал материальную возможность продолжать работу на протяжении семнадцати лет исключительно благодаря Дютийелю». Ланского Дютийель любовно называл «мой колорист», а когда любимец его стал мало-помалу переходить к абстракции, меценат оговаривал в письмах к другим своим художникам некое особое право «своего колориста» на эту стезю, которая многим казалась и соблазнительной и доступной и притом героичной:
«…избегайте «абстракции», которой Ланской, может быть, и есть один-единственный представитель, поскольку он художник искренний и уже успел с разных сторон (как примитивист, как самоучка) утвердиться в живописи – пейзажами, цветными портретами, натюрмортами и т.д. Поскольку он утвердился, он может многое себе позволить. Он человек честный, и он не ищет в абстракции фальшивых тайн, того, что многим критикам кажется «религиозным»… Ланской – чистейшей воды православный, со всей церковной практикой. Вот почему он кончит свою жизнь в изгнании. Он верует во все, даже в свою «абстракцию». Я уважаю его веру».
В творчестве Ланского, по наблюдению искусствоведа Жан-Клода Маркаде, прежде всего «брызнул… СВЕТ»:
«Это мистический свет, исходящий из недр изначального света, прошедший через призму духовности. Это и есть тот свет, который озаряет витражи средневековых соборов. Как в церковных витражах, в картинах Ланского есть всегда доминирующий цвет: синий, фиолетовый, индиговый, красный, черный, белый, зеленый, всегда чистый, яркий, певучий, как в иконописи. Его палитра блещет оргией красок, вибрирующих наподобие русской старинной песни, выражающей гаммы мельчайших чувств, которые сопровождают главнейшие события человеческого существования…»
Я позволил себе привести столь длинную цитату из старой статьи Жан-Клода Маркаде, желая обратить ваше внимание на проблему света, которую любили обсуждать Ланской с Никола де Сталем (уверен, что о таких вещах они говорили по-французски, а не по-русски). Решение ее Ланской считал своей главной удачей в живописи. А тридцать лет спустя Ланской признал однажды, что решение этой проблемы удалось и его другу Никола де Сталю. Такая похвала многого стоит. Никола дер Сталь ее не услышал. Его уже давно не было на свете…
Однако не будем спешить. Вернемся в «сороковые роковые», как назвал их русский поэт-фронтовик. Для парижан они, впрочем, не были столь уж безысходными. В 1942 году Андрей Ланской провел свою первую персональную выставку абстрактной живописи в парижской галерее Берри-Распай. Вторая выставка абстрактной живописи Андрея Ланского состоялась в 1944 году. В том же 1944 году вполне уже маститый художник Андрей Ланской и познакомился с младшим собратом по искусству Никола де Сталем. В мрачноватой абстрактной живописи де Сталя Ланской видел большие задатки, однако посмеивался над маньелевской геометрической выверенностью ранних полотен де Сталя, над всеми этими сегментами и углами, которые казались младшему неизбежными спутниками абстракции. Ланской призывал де Сталя к большей смелости, к введению в композиции звучащих аккордов белого и красного.
Ученый исследователь творчества Никола де Сталя, внучка художника Мари де Буше находит в некоторых тогдашних полотнах де Сталя сходство с построением абстракций Ланского. Не думаю, что даже самые интересные находки такого рода столь уж существенны. Абстрактные полотна тридцатидвухлетнего Никола де Сталя были «зрительным залом его души», а боль его души была особой, его собственной. В «незабываемом» 1919-м Андрей Ланской был уже мужчина, пусть даже и совсем юный. Он умел принимать взрослые решения, он ушел воевать. А пятилетний Никола прижимался тогда испуганно к спасительной материнской шубке, и кругом были ночь и снег, и ужас погони, и зловеще чернела кобура нагана на боку у комиссара, проверявшего документы беглецов, наверняка фальшивые…
А теперь по ночам в мастерской на парижской рю Нолле рождались на свет эти мрачные черно-коричневые, странные, сложные, большие полотна…
1944 год был годом многих потерь. Умер Альберто Маньели. Умер прославленный Мондриан. А 13 декабря в западном предместье Парижа, в Нейи-сюр-Сен умер на 79-ом году жизни Василий Кандинский.
Его отпевали в Александро-Невском соборе на рю Дарю. Истаивали в пальцах тонкие свечи, золотом мерцали оклады икон, пел хор, женские голоса уплывали в нездешнюю даль. Что-то смутно всплывало в памяти Никола де Сталя, может, иконостас Петропавловского собора, ангелочки на польском кладбище под серым небом…
Вместе с Андреем Ланским и другими Никола нес на плече гроб Кандинского… Может, не случайно первый его визит в Париже был к Кандинскому, первая его выставка в Париже была с Кандинским… Никола решил, что он посвятит Кандинскому то самое, большое (113 на 78) полотно с выставки…
Он уже знал, что выставки будут еще. А вот продлится ли этот ветер, что несет тебя куда-то, несет, несет и вдруг – спадает… И тогда ждешь в глухой тишине ночи, чтоб он вернулся, подул с новой силой, ждешь в страхе, что он не вернется, не повторится. Что уже никогда не вернутся желанье и сила. Боже, как страшно…
Глава 23. Порыв ветра
В том 1944 году Никола написал не больше полутора десятков картин (не так много в сравнении с грядущими годами безудержности, когда он будет писать по две с половиной сотни полотен).
Среди начатых в 1944 и законченных в 1945-ом были большие и очень сложные абстрактные полотна, вроде сходу купленной его поклонником Луи Кэле картины «Порыв ветра». Известно, что названия для абстрактных полотен де Сталя Жанна Бюше придумывала сама. Они бывали навеяны случайными и неслучайными впечатлениями. Откуда же взялся ветер в этом изощренном, замкнутом, герметичном полотне? Думаю, и порыв, и ветер в названье картины пришли не случайно. Думаю, они пришли из безудержных, порой казавшихся лишь ассоциативно связанными друг с другом исповедальных фраз молодого художника, из наблюдений внимательной галеристки над взлетами и спадами его вдохновенья, над сменой озорства и отчаянья в его взгляде…
Слово ветер, как и многие другие французские слова в личном его словаре, имело для словотворца – сюрреалиста де Сталя собственный, зашифрованный, герметичный смысл, а также особую эмоциональную окраску, которая становилась все более угрожающей по мере углубления его душевного кризиса. В сороковые годы порыв ветра был чем-то сулившим ему мрачное возбуждение, прилив безудержной силы и энергии, полуночного труда. С начала пятидесятых «ветер» (все чаще упоминаемый в письмах, но не представленный, как, скажем, у того же Сутина, на полотнах) свидетельствует о пугающих переменах, упадке, непостоянстве, даже смертельной угрозе… Впрочем, нам с вами еще далеко до пятидесятых, вернемся в середину сороковых, к знаменитым «большим абстракциям», среди которых особую известность и приобрел «Порыв ветра».
О работе Никола де Сталя над ранними абстрактными полотнами так писал младший сын художника Гюстав де Сталь:
«В первых своих абстрактных картинах он без конца накладывает один на другой слои краски, скребет, счищает, врубается в эти слои до самого полотна, подобно тому, как пахарь выворачивает слоями землю из глубины на свет солнца, вспахивая полосу на поле и проходя по нему раз за разом со своим плугом. Перепахивает картину, на которой с неистовством создает все эти композиции из элипсов, обрывков и обрезков прутьев и завитков, извлекаемых на свет из мрака небытия. Когда стремительная поспешность влечет его за собой, встречному потоку удается сдержать его руку, завладеть и повелевать его жестом. И только, когда стихийная материя смирится, руке его бывает позволено выстроить гармонию. Щедро расходуя материю, он горделиво отдается разорительному порыву, не щадя материальных затрат. Эти полотна, при создании которых он дает волю жесту, доходящему до любой крайности, свидетельствуют о безвыходных лабиринтах, в которые заходила душевная жизнь художника. Палитре его приходилось ограничиваться коричневым, серым и черным. Блуждая в этих тонах, он искал дорогу к дневному свету, хотя за окном в ту пору стояла ночная тьма. Всю свою жизнь искал он проблеск этого света, пробиваясь к нему из мрака. И свет возникал в результате тончайшей оркестровки отблеска ближних цветов».
В этом описании Гюстав сводит воедино характеристику художественного жеста с подробностями ночного (в ту пору жизни по преимуществу ночного) труда неистового, тридцатилетнего живописца-отца, сталкивает догадки о тяготах его существования с поэтическими образами.
(Впрочем, о мельком здесь упомянутых материальных затратах можно найти и реальные, бытовые отклики – в письме Жанин Гийу к сестре Никола Ольге де Сталь: «Он пишет большие полотна, размером больше самого себя и тратит по 10000 франков в месяц на краски, зарабатывает до 23000 и занимает со всех точек зрения так много места, что я вовсе перестала работать…»)
Что же до выбора темных красок из экономии, гипотезу эту давно опровергли расчеты знатоков, доказавших, что и белая, и красная, и прочие краски обошлись бы художнику не намного дороже темных. Ведь и отнюдь не бедствовавший в ту пору Брак прибегал к темным.
А вот наблюдение о без труда узнаваемой смелости художественного жеста и особой привлекательности палитры де Сталя, оно бесспорно. Об этом писали не раз историки искусства. Сошлюсь на одного из самых престижных и требовательных критиков искусства Андре Шастеля:
«С 1944 года все более утончается каемка полотен Сталя, возрастает притягательность их поверхности, которая как бы впитывает краски, причем он покрывает ее все более толстым маслянистым покровом. От серого к черному с желтыми и коричневыми просветами и со все более очевидными и менее беглыми красными. Вся эта вязь способна привести на память миниатюры раннего средневековья, где разнообразные формы, сплетаясь и расходясь в нервном напряжении, теряются где-то в непрестанном движении».
Тот же Андре Шастель, считавший абстрактные полотна де Сталя этой поры «очень сложными и герметичными произведениями», высказывал догадку, что художник черпает свои образы из некоего ускользающего хранилища. Вот это тонкое наблюдение, впрямую восходящее к «Порыву ветра» и темным залежам души художника:
«Речь идет об очень сложных и герметических произведениях, черпающих образы из некого весьма переменчивого хранилища…
… какие-то косые спазмы, клеевые пики, застывшие языки пламени, скованные и недвижные переплетения, а то и вовсе беспорядочные пятна, где порой пятно становится фоном, или наоборот…»
Анализируя эти полотна, петербургский искусствовед Костаневич говорит об их «форсированной энергичной ритмике и колючем напряжении форм».
О поражавшей поклонников де Сталя его палитре знаменитая галеристка Жанна Бюше сказала, что это воистину «бархатная палитра». Услышав это суждение, тонкий ценитель искусства и меценат Жан Борэ, состоятельный промышленник, представлявший в Париже семейное производство текстильных изделий, в письме к де Сталю дерзнул оспорить авторитетной галеристки:
«Бархатная палитра, говорит Бюше, я бы скорее сказал, что это написано зубной пастой, эликсиром зубной пасты, здесь слюна и капелька крови из десен, и все это связывается, сочетается, принимает единство души, тела, движется или приводит в движение или сулит привести в движение в будущем; все это становится интересным, особенно в связи с тем, что это недорого, но цены на недорогую живопись становятся ныне такими заоблачными, что я даже не отважился справиться у мадам Бюше, сколько это может стоить…»
В том же письме мецената наряду с гимном зубной пасте («это чудо из чудес, волнующее воображение ребенка, который спрятан в глубине каждого из нас») содержалась осторожная похвала линии де Сталя:
«Она пока еще несколько холодна, нова. Ломайте ее, как певец ломает голос. Чтобы запеть, надо сделать усилие и победить свой голос, чтоб он возродился потом в своей первородной естественности».
О картинах этого периода (условно говоря, до и сразу после Освобождения, то бишь, 1943-45 гг) существует целая литература, затрагивающая разные стороны живописи Никола де Сталя. Конечно, и современникам и более поздним искусствоведам очевидны агрессивность, динамизм, с трудом обуздываемые сила и энергия этого едва вышедшего на арену абстрактной живописи (что касается Франции, арену пока еще довольно пустынную) и долго ждавшего своего раскрепощенья художника. Вот что писал о тогдашних картинах де Сталя художественный критик Арно Мансар в своей книге о де Стале, вышедшей в парижском издательстве «La Мanufacture» в 1990 году:
«В первую очередь полотно его выражает игру мускулов, проявление и столкновение энергий; мощь его арабесок бывает как правило подчеркнута и увенчана толщиной мазка (здесь царят мастихин, широкий нож или лопаточка, а не кисть), цвет он часто выбирает нейтральный (коричневый, серый и т.д.), притом что кое-где попадается тон поживее, в каких-то язычках пламени, мерцающих охрой, синевой, ярко-желтым…»
Мансар отмечает, что в 1944 году в картинах де Сталя еще нередки геометрические формы и какие-то сооружения, напоминающие строительные леса, вполне ненадежные, близкие к распаду. Иногда во мраке вспыхивают красные искры, а граненые оконечности форм и срезы оживляют картину. Порой же квадраты или пестрые ленты словно летят в пустоте, подброшенные невидимым фокусником.
Анри Мансар задается вопросом, не поддался ли де Сталь влиянию рельефов своего первого парижского друга Сезара Домеля.
Думается, что опасения критика напрасны. Полотна де Сталя с самого начала далеко ушли от творений всех почитаемых им друзей – и Маньели, и Домеля, и Ланского, и даже, вероятно, самого Брака, великого Брака, которого де Сталь и в конце своего пути ставил в один ряд с божественным Учелло.
Надо сказать, что не каждая из «больших» картин (а размеры их с годами становились все убедительней) удостоилась отдельного разбора в книгах о жизни и творчестве де Сталя. По понятной причине повезло картине «Порыв ветра», явившейся в значительной мере пограничной для творчества де Сталя – картине обаятельной, загадочной, наводящей на размышления, допускающей бесконечное число разгадок и толкований, как, впрочем, и положено абстрактному полотну.
Начать можно с того, что многим из знатоков (как, кстати, и самому Де Сталю) полотно это не казалось столь уж «абстрактным». Де Сталь не любил этого слова и утверждал, что если что-либо на его картинах и не является реальным, то уж пространство на них наверняка реально. А пространство в художественном мире де Сталя значило много, и он писал об этом не раз.
Особое внимание на проблемы пространства обращал уже Кандинский.
А нынешние источники мудрости (скажем, «Энциклопедия русского авангарда», Минск, 2003 г.) признают, что «само пространство есть некий абстрактный язык, который используется дла разных типов художественного моделирования», что «пространственная схема, превращаясь в абстрактный язык, способна выражать разные содержательные понятия», а «вся культура может быть истолкована как деятельность организации пространства».
Последняя фраза, без сомнения, извлечена из обширной работы о. Павла Флоренского «Анализ пространственности в художественно-изобразительных произведениях». Универсальный ученый и православный священник отец Павел Флоренский в тот год, когда маленького Никола тайком увезли из Петрограда, еще читал курс о пространственности в высших художественных мастерских в Москве, но к тому времени, когда Никола де Сталь обратился в оккупированном Париже к проблеме пространства в живописи, отец Павел уже дотягивал десятый год заключения в советском концлагере и вскоре сгинул на одном из Соловецких островов…
«Образной делает живопись Сталя ее трехмерность, – писал добрых полвека спустя петербургский искусствовед Альберт Костаневич, – что заметно отличает его от основоположников абстракции, не только от Малевича, Купки, Робера Делоне, но и от Кандинского».
Костаневич настаивает на том, что в абстрактных полотнах де Сталя человек внимательный разглядит немало аллюзий и значимых мотивов, «мотивов не пустяковых или каких-то случайных, а предполагающих контекст наиболее сущностных пластов культуры».
«…у живописи Сталя, и в этом одно из ее достоинств или, по крайней мере, отличий, – пишет А. Костаневич, – действительно имеются немалые ресурсы самообъяснения, не только потому, что она выразительна и краски радуют глаз, но еще и потому, что ее содержание может не исчерпываться всего лишь игрой отвлеченных форм. Беспредметная картина Сталя может оказаться содержательной в более или менее традиционном смысле этого слова. В ней содержатся элементы экспликативности, поскольку художник не держался за раз и навсегда выбранную форму».
Переводя это с искусствоведческого на язык родных осин, выясняем, что в беспредметных и абстрактных картинах де Сталя можно усмотреть кое-какие, хотя бы изначально присутствовавшие предметы и некое содержание. Подобное суждение о живописи де Сталя можно, впрочем, найти и у французских авторов. К примеру, почтенный Бернар Дориваль, возглавлявший Музей современного искусства, писал, что из всех абстрактных художников де Сталь «несомненно… наилучшим образом избегает опасности декоративности и достигает наибольшей человечности».
Правда, когда дело доходит до трактовки содержания абстрактного полотна и разнообразных аллюзий, услеженных искусствоведами, возникают, естественно, разночтения, которые, впрочем, никоим образом не умаляют ни ценности полотна, ни глубины его замысла, ни его философичности. Примером может служить тот же «Порыв ветра», о котором писали так часто и охотно.
Первое слово следует предоставить любимой старшей дочери художника парижанке Анне де Сталь. Она искусствовед, прозаик и поэт, много писала о картинах отца и вообще – lаdiеs firsт. В своей книге «От линии к цвету» Анна де Сталь среди прочего сообщает о том, что она видит на знаменитой картине:
«Что касается картины «Порыв ветра», на которой при рассмотрении частей ее в целом представлено нечто вроде корабельной надстройки, остатков ковчега, разметанных ураганом и собранных в некую модель нового мира. Вот окна, одни освещены, другие темны в этой композиции, сложенной из разнообразных лезвий и треугольников, которые устремляются в промоину вслед за разрушительной волной».
Описание это уточняет в своей книжке «Невиданный свет» (Париж, «Галлимар». 2003) внучка де Сталя и дочь Анны Мари де Буше, тоже искусствовед и философ. Она сообщает: «Начиная с «Порыва ветра» (1944-1945), форма и материал нерасторжимы. Сталь находит здесь форму выражения своего внутреннего видения, обозначая элементы присущей ему поэзии, которые будут появляться с неизменностью в его последующих произведениях. Их передает темная палитра, пронзаемая лезвиями серпа и «углами», и подсвеченная откуда-то снизу просочившимся светом, в каждой картине очень точно найденным».
Понятно, что молодой француженке нехватает здесь очертаний молота (кстати, кое-где у де Сталя мелькающих), увы, разлученного с серпом, хотя внучка и высказывает политкорректное предположение, что ее дед вывез все же из тогдашнего смертоносного Петрограда некий энтузиазм революции.
Художник Сезар Домеля, часто встречавшийся со Сталем в пору создания «Порыва ветра» считал своего младшего собрата «ночным художником», о чем свидетельствовали, по мнению Домеля, все его тогдашние картины. Позднее Домеля так писал в своих воспоминаниях о Стале:
«Он жил в те времена в особняке, который он сжигал в трудные дни, сперва деревья в саду, потом двери, лестницы, да и все, что можно было пустить на дрова… Это был по преимуществу ночной художник и картины его на это указывают достаточно. Часто он просыпался среди ночи и писал до рассвета, и к утру голос у него становился еще более глухим, а глаза краснели и наливались кровью».
Русские поклонники де Сталя высказываются о знаменитом полотне «Порыв ветра» с большим энтузиазмом.
«Крутая работа, – говорит молодой московский художник Илья Комов. – Средствами композиции де Сталю удается передать сложнейшие, глубокие переживания. Здесь идеально отобрано главное, очень точное видение цвета. Это, знаете, как музыка, когда нельзя описать словами, нельзя прокомментировать, но можно сопереживать, все почувствовать. А тут каждый миллиметр цвета несет переживание, вибрирует. И предельный лаконизм… Обратите внимание, как разные работы передают настроение. Они фигуративны, его работы, но точка зрения абстрактная…»
В 2003 году, приглашая жителей Петербурга посетить первую в Россию выставку знаменитого уроженца города Петра, кураторы «Эрмитажа» (в числе их и Альберт Костаневич) сообщали непривычному посетителю, что и с чем следует им ассоциировать:
«Композиции» середины 1940-х гг. Ассоциируются со скалами, нагромождениями лавы, зарослями. Полные ломаных линий «Композиции» вскоре как будто организуются и смиряются. Рубцы и кривые линии уступают плоскость холста вертикалям и горизонталям…»
В общем, рекомендуется ассоциировать со скалами. Впрочем, в 2003 году уже было позволено и в Петербурге иметь другие ассоциации в связи со столь отвлеченными и далекими от политики предметами. Тот же Альберт Костаневич писал в обширной статье, помещенной в великолепном каталоге выставки, и о «безукоризненном видении цвета» в ранних «Композициях» Сталя, и о «мощной лаконичности» этих абстрактных полотен, и, конечно, о свете де Сталя:
«Свет – одно из главных средств его живописи, то мерцающий в неровностях текстуры, то трубной медью сверкающих высветлений прорезывающий мерный фоновый гул и тем самым организующий ритмическую основу всей живописной структуры. Звучания красок то замирающие, то нарастающие и обогащенные обертонами и вибрато, то глуховатая, но очень слышная, заметная работа ударных. Такая живопись требовала не только колористического дара, но и особой врожденной музыкальности».
Так писал искусствовед из города композитора Глазунова о выходце из глазуновской семьи, художнике, давно известном всему миру и наконец показанном на родине.
Парижскому абстрактному художнику Александру Аккерману то, что предстает на полотне «Порыв ветра», представляется заоконным видом, а тонкая рамка внизу, по краю полотна – подоконником.
– Мы словно заглядываем в другой мир… – интимно сообщает мне почтенный мастер абстракции Саша Аккерман в кафе у площади Италии, – Там тайный мир художника, как говорят французы, jardin secret, его потаенный сад. У него там своя собственная топография, своя фактура. Своя живописная хиромантия, все полно значения. И это мерцание, эта вибрация по краю форм. Белые эти просветы, они светоносны. И обрати внимание на цвет, который виден из-под другого цвета, как цемент выходит из-под кирпичей при кладке. Важно, как был положен цемент, как лег кирпич… Ну и, конечно, музыкальность цвета, музыка цвета…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.