Текст книги "МЖ: Мужчины и женщины"
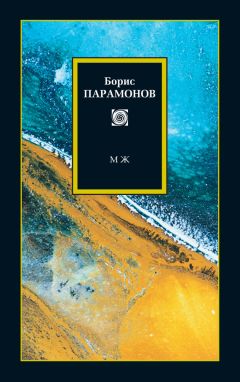
Автор книги: Борис Парамонов
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 30 страниц)
«За страсть – нажать, за страх – нажать; нажав, разбудить – все». (То же самое чувствовал, в 1918 году, каждый солдат в усадьбе.)
Яснее не скажешь: искусство – грабеж и поджог.
Еще о музыке. У немцев есть выражение: хороший человек, но плохой музыкант. Сохранилось ее письмо к Эренбургу, приведенное в его мемуарах: «Вы правы. Блуд (прихоть) в стихах ничуть не лучше блуда (прихоти, своеволия) в жизни. Другие – впрочем, два разряда – одни, блюстители порядка: «В стихах – что угодно, только ведите себя хорошо в жизни»; вторые, эстеты: «Все, что угодно, в жизни – только пишите хорошие стихи». И Вы один: «Не блудите ни в стихах, ни в жизни. Этого Вам не нужно»». Странное это зрелище – Эренбург, чему-то учащий Цветаеву, умный глупую, средней руки литератор – литературного гения. (Уговорил не печатать «Лебединый стан» – не лучшее у Цветаевой, но гениальный подзаголовок: «белые стихи».) Как раз Цветаевой «блудить», своевольничать было «нужно». «Девочке нужно, нужно, нужно». Чего Эренбург не понял, так это того, что цветаевский «блуд» никак не подпадает под понятие греха. Само искусство не подпадает (см. выше – «Искусство при свете совести»).
Впрочем, простаком Эренбург уж никак не был и в «Портретах русских поэтов» написал о ней много верного. Заметил, например, сосуществование «барышни» и «паренька» (не отсюда ли у самого – одна из новелл «Тринадцати трубок»?). Но это, в предлагаемом контексте, мелочь. Вот интереснее: «Цветаева – язычница светлая и сладостная. Но она не эллинка, а самая подлинная русская, лобзающая не камни Эпира, но смуглую грудь Москвы». Это, в отличие от предыдущего, не совсем точно, но наводка правильная. «Москва» для нее мелковата. Это ее русско-сказочный период, не более: все эти «Молодцы» и «Царь-девицы». «Болярыня Марина». Это она быстро изжила. Верно же – указание на язычество, и корни такового следует искать именно в «Эпире».
Вот хорошо у Эренбурга: «Где-то признается она, что любила смеяться, когда смеяться нельзя. Прибавлю, любит делать еще многое, чего делать нельзя. Это «нельзя», запрет, канон, барьер являются живыми токами поэзии своеволия».
«Зато от бабки родной – душа, не слова, а голос. Сколько буйства, разгула, бесшабашности вложены в соболезнования о гибели «державы»».
Держава гибнущая у нее – не империя Романовых, а Троя. Эренбург здесь не уловил масштаба ее язычества, ее мифичности.
Вопрос: подлежат ли мифические боги и герои моральному суждению? Применимо ли к ним понятие греха? У древних, откуда мифы, такого понятия во всяком случае не было. Было понятие трагической вины, просто – трагедии, столкновения с богами, с роком. Цветаевский рок был – стихи: не как «отвлеченное начало» поэзии, литературного творчества, а как бытие поэта, поэтом. Единство творчества и судьбы. А такое единство есть миф: образ, становящийся жизнью. Оплотняющаяся фантазия, онтология снов. Вот уж на чьем примере понимаешь, что поэт – это быть, а не «писать». Это Сартр пускай пишет, почему с ним за всю его длинную жизнь ничего и не произошло, несмотря на весь его «радикализм». Писанина гениальна только тогда, когда она выше самой себя, когда стихи больше стихов, когда поэт становится мифическим героем, самим мифом. Миф, по Лосеву, – исполнение идеального замысла о себе, совпадение личности с эйдосом. А если слово «замысел» заменить словом «вымысел», то это будет максимальным приближением к пониманию поэтического мифа, мифа о поэте, мифа поэта – поэта как мифа. Поэт – жизнь в согласии с вымыслом. Цветаева гениальна потому, что она мифа касалась не в стихах только, но воплотила мифический сюжет своей судьбой.
В статье «Эпос и лирика современной России» она дала это свое понимание поэтической судьбы на примере Маяковского – недостаточности, у Маяковского, этой судьбы:
«Приобрел эпос, потерял миф…
Если Маяковский в лирическом пастернаковском контексте – эпос, то в эпическом действенном контексте эпохи он – лирика. Если он среди поэтов – герой, то среди героев он – поэт. Если творчество Маяковского эпос, то только потому, что он, эпическим героем задуманный, им не стал, в поэта всего героя взял. Приобрела поэзия, но пострадал герой.
Герой эпоса, ставший эпическим поэтом, – вот сила и слабость и жизни и смерти Маяковского».
Ее же сила в том, что она в поэзии не только поэт, но и «герой», мифический герой. Ее поэзия не снизила до «поэта». «Герой» в ней не пострадал.
Миф Цветаевой – Федра: кровосмесительство, инцест.
Здесь нужно вернуться к ее самоубийству. Еще раз: на какие-либо «трудности» (это слово следует давать только в кавычках) списывать это нельзя. Судомойкой не взяли? В Чистополе не прописали? Смешно! В Париже ведь нищенствовать куда труднее, чем в Елабуге. Искать, копать надо не там: не снаружи, а внутри. Среди своих.
Ближе всех к истине подошла сестра Анастасия: видит причину самоубийства единственно в конфликте с сыном. Приводит его слова: одного из нас вынесут отсюда ногами вперед. Ассоциация неизбежная – смерть матери Сергея Эфрона: когда покончил с собой ее четырнадцатилетний сын, она повесилась на том же крюке. Анастасия говорит, что Марина заклинала смерть, отводила ее от Мура: погибнуть должен кто-то один, пусть это будет она.
Эта интерпретация способна произвести впечатление, но один вопрос остается нерешенным: а почему, собственно, Мур не желал жить с матерью, не мог, буквально, ходить по одной с ней земле? Почему их отношения должна была разрешить только смерть?
Анастасия пишет, как ее поразило, что в письмах Мур ни разу не назвал мать – матерью, писал только «М.И.». Можно и другие цитаты привести из его писем – к тетке Лилии Эфрон (та же «Марина Ивановна»): «Она многократно мне говорила о своем намерении покончить с собой, как о лучшем решении, которое она смогла бы принять. Я ее вполне понимаю и оправдываю».
К Дмитрию Сеземану: «Я пишу тебе, чтобы сообщить, что моя мать покончила с собой – повесилась – 31-го августа. Я не собираюсь распространяться об этом: что сделано – то сделано. Скажу только, что она была права, что так поступила, и что у нее были достаточные основания для самоубийства: это было лучшее решение и я ее целиком и полностью оправдываю».
Рефрен обоих писем в этих «понимаю и оправдываю»: «полностью», «вполне».
Естественно, исследователи уцепились за легенду о Муре как нравственном чудовище – и посильно эту легенду раздувают. Между тем его письма, недавно изданные, в этом представлении отнюдь не укрепляют. Возникает образ вполне корректного юноши: интересуется литературой, ходит на концерты, сдержан и по-джентльменски замкнут, очень неглуп, разбирается и в книгах, и в людях; при этом полон самого что ни на есть юношеского идеализма; собираясь в военкомат, на призывную комиссию, приоделся как на торжество.
Сохранились не только письма Георгия, но и его дневники по приезде в СССР. Там тоже нет «мамы», но есть «мамаша»: очень «не парижское» слово, даже не из грубо простонародного, а мещанского лексического пласта. Эта «мамаша» – знак стесненности чувств, боязни их продемонстрировать. «Как мальчишкой боишься фальши». То есть если идти до конца – этих чувств и не было. Он не видел Цветаеву матерью. Она и не была ему матерью.
Вместо матери была – «мачеха»: Федра.
Реакция Георгия на мать была типичной реакцией ребенка, подвергаемого сексуальной эксплуатации, инцесту.
Нужно ли это доказывать? Это нужно увидеть. «Герменевтически» узреть. Увидев, в доказательствах больше не нуждаешься. Это настолько в стиле Цветаевой, всей ее бунтарской, не считавшейся с условностями и законами сути, настолько соразмерно ее «безмерности», настолько выдержано в масштабах мифа, что, поняв эту о ней истину, повышаешь, а не понижаешь градус отношения к ней. Подлинный модус этого отношения – благоговейный ужас. Да, это действительно крупно. Это – жизнь в мифе, это миф. И – это очень похоже на ее стихи. (Написав это, нашел у Зинаиды Шаховской: «Скажу даже, ни один из самых знаменитых писателей, русских или иностранных, в личном общении не вызывал во мне такого трепета, а иногда и священного ужаса»…)
Я понимаю, что требуются доказательства. Их сколько угодно, и больше всего – в стихах. Книга «После России» переполнена инцестуозными мотивами – и ожиданием некоего Моисея в тростниках. А нам говорят про какого-то «Бахраха». Просто вдруг в этом, надо полагать, ничего не подозревавшем человеке она усмотрела то самое «дитя», о котором пишет в цикле «Час души»:
Есть час души, как час ножа,
Дитя, и нож сей – благ.
Мур был обречен до рождения. Еще в цикле «Георгий» 22‑го года: «Ты больше, чем Царь мой, Ты больше, чем сын мой!»
Или прочтите следующее – в записях «О любви»:
Я, о романе, который хотела бы написать: «Понимаете, в сыне я люблю отца, в отце – сына… Если Бог пошлет мне веку, я непременно это напишу.
Он: «Если Бог пошлет Вам веку, Вы непременно это сделаете».
Это не фантазия, это судьба, рок. У нее это шло еще с ростановского «Орленка». За Сергея Эфрона она вышла потому, что он был похож на герцога Рейхштадтского, а сын, ей показалось, похож на Наполеона. Этого было достаточно для принятия некоего решения: наконец – он, наконец – мой!
Недр достовернейшую гущу
Я мнимостями пересилю!
И снова вспомним: «единственный выигрыш всякого нашего чувства – собственный максимум его».
Это было сознательное решение, «экзистенциальный выбор». Поэтому здесь неуместен никакой «психоанализ», и я отнюдь не этим занимаюсь. В предлагаемом сюжете, точнее, в его толковании – ни грана «редукционизма». Я не свожу творчество Цветаевой к моментам ее (сексуальной) биографии, а эту биографию стараюсь понять как продиктованную потребностями и масштабом творчества. Она была поэт тотальный, тоталитарный: все было стихами, поэтический сюжет определял жизненные движения. Все было принесено стихам в жертву – даже собственный сын.
В «Искусстве при свете совести» она писала:
Меня, например, судят за то, что я своего шестилетнего сына не отдаю в школу (на все шесть утренних часов подряд!), не понимая, что не отдаю-то я его именно потому, что пишу стихи…» Дальше следуют стихи к Байрону: «Свершилось! Он один меж небом и водою… Вот школа для тебя, о ненавистник школ…» – и продолжает:
«А пишу-то такие стихи именно потому, что не отдаю.
Стихи хвалить, а за сына судить?
Эх вы, лизатели сливок!
Поразительный текст. Отдать сына – за стихи. Ей невдомек, что он не Байрон.
Для нее он Байрон, потому что – Георгий. Слова, ставшие плотью.
Впрочем, здесь Байрон – она.
Это своего рода каннибализм, человеческие жертвоприношения на алтарь поэзии. А те, значит, которые усмотрят в этой практике неэквивалентный обмен, – пенкосниматели. «Любишь кататься – люби саночки возить». Она везет на саночках – труп сына, ею же и убитого. При этом ей мнится, что убивает она – только себя: не различает сына, это – часть ее. «Часть речи».
Все это – прославляемая и пресловутая «поэтическая правда». Настоящий поэт, по-настоящему понятый, способен вызвать ужас – как стихия: безликая стихия. Во всяком случае – сверхличная. И еще раз: морализирование здесь неуместно, в мифе нет морали, потому что нет психологии. Мораль и появляется как результат открытия психологии – переживания индивидуальной души.
Поэтому и не нужен «психоанализ» – потому что не было никакого «невроза», ничто не отягощало «бессознательного»: все сознавала. Невроз возникает как результат конфликта индивидуума с социальной нормой. Случай Цветаевой – ни нормы, ни личности. Цветаева не личность, она архетип, миф.
Была, однако, «психопатология обыденной жизни»: оговорки и описки. Прозаический текст «Страховка жизни» – сплошь такая описка.
К эмигрантской семье, сидящей за скромным ужином, приходит страховой агент, молодой человек. Семья – мать, отец и малолетний сын. Агент рассказывает о преимуществах страхования жизни и предлагает соответствующий контракт. Сплошная проза. Но дальше начинается бред. Подбивая клиентов подписать договор, агент приводит случаи из жизни, свидетельствующие благотворность подобных акций, – и тогда оказывается, что его мать чуть ли не разбогатела, получив страховку за шестнадцать (16) разным образом погибших сыновей. Он остался последний, и мать его никуда от себя не отпускает. С отцом у агента какая-то неясность, но мать – есть. «Но мать была» – такими словами заканчивается этот фантастически абсурдный текст.
Мать наедине с сыном. Единственность сына. «Едина плоть».
– О, вы не знаете мою мать, она каждый раз, как поздно бы я ни вернулся со службы, – несчастные случаи ведь во все часы! – в десять часов, в одиннадцать часов, в двенадцать часов, в один час, – встает и греет мне обед. Вот и сегодня она выйдет мне навстречу в Issy-les-Moulineaux. Разве я могу жениться! Мне двадцать шесть лет, и я ни разу, понимаете, ни разу не пошел без нее в синема и не проехался на пароходике. On prend tous ses plaisirs ensemble. (Мы всегда развлекаемся вместе.) Разве я могу жениться?
– Вы чудный сын! – от всей души воскликнула она, невольно переведя глаза на своего и точно спрашивая. – Дай бог здоровья вам и вашей матери, и вашему отцу!
– Да, здоровье мне необходимо, мне уходить – нельзя. Будем надеяться, что и ваш сын будет вас радовать.
Этот текст не похож ни на что, кроме самой Цветаевой: в «Страховке жизни» она ощущает себя сыноубийцей. По-другому эту вещь понять нельзя. (Впрочем, понимают: одна исследовательница пишет, что тема «Страховки жизни» – сердечность русских, противопоставленная бездушию европейцев.)
Поэтому, и только поэтому, появился цикл «Стихи к сыну». Никакого «СССР», никакого «большевизанства» там нет и в помине. Просто иногда, опоминаясь, она понимала, что сыну будет лучше в любом месте – только не с ней. Писала Тесковой, что в СССР она потеряет Мура: пионеры, походы, коллективная судьба; но, как говорят эти стихи, готова была порой отдать сына даже Сталину: все лучше, чем с ней.
(От нее всю жизнь убегал муж: санитаром на Первую мировую – после того, как она, не успев родить ребенка, завела скандальный роман с Софьей Парнок, – в Белую армию, наконец, в НКВД. К черту в лапы, только подальше от нее. Выходя из поэтических запоев, Цветаева понимала, насколько она невыносима для окружающих.)
Мур в России – Каспар Гаузер.
Мур – Амур. Тут не рифма, а опять же миф. Рядоположение Венеры с Амурами на старинных картинах всегда наводит на мысль о каких-то сексуальных играх – в то же время предельно, божественно невинных. («Птичий грех», как говорили в русской деревне о снохачестве.) Что-то вроде Тициана: «Венера утешает Амура, ужаленного пчелой». Вот так она должна была воспринимать эту страсть, которую, в поэтической своей ипостаси, никак не могла считать греховной. Вообще грех – какое-то мелкое для нее слово, слишком пассивное: она – не подверженность греху, не «страдательность», а – активность его, его носитель. Но то, что в жизни можно назвать грехом, в поэзии было – стихом. Искусство – «незаинтересованное созерцание», следовательно, невинно. А в жизни она не жила, только иногда просыпалась. Однажды проснулась в Елабуге.
Что ее разбудило? «Луна – лунатику»: «У лунатика и гения / Нет друзей. / В час последнего прозрения / Не прозрей». Можно вспомнить и «Наяду»:
Горделивая мать
Над цветущим отростком,
Торопись умирать!
Завтра – третий вотрется!
Узнаю тебя, смерть,
Как тебя ни зови:
В сыне – рост, в сливе – червь:
Вечный третий в любви.
«Вечный третий» – купальный костюм: собственное ее объяснение. С сыном нужно быть – голой. Смерть придет, когда сын вырастет, когда нужно будет одеться. Одежда, любая, всегда и только – смертная. Она хотела быть, всегда и только, – голой. Это вот и есть бытийная – не культурная, не социальная, даже не словесная – вещная правда. Тайна плоти – голизна. Голизна – бессмертие, духовность, божественность плоти. Тяжесть земная – не земля, а одежда: культура, знаки, конвенция и этикет.
Несмотря ни на что, Цветаева жила в раю, до грехопадения – не сознавая наготы и не ведая стыда. Как говорил обожаемый ею Сергей Волконский о Москве лета 1919-го, когда в голодную красную столицу вдруг завезли откуда-то колоссальное количество яблок: «Мы в раю: ходим голые и едим яблоки».
Но если у Волконского это было метафорой, аллегорией, эмблемой, то у Цветаевой подобные ситуации, воплощаясь в стихи, всегда сохраняли прямое, буквальное значение, точнее – реальность. Необычность Цветаевой в том, что ее искусство – это прямоговорение. Я бы не стал искать у нее иносказаний. «Цветущий отросток» – отнюдь не метафора, даже не метонимия. Искусству прямоговорение абсолютно противопоказано (Шкловский), но у нее – получалось, и в этом прямоговорении, в назывании вещи своим именем оно, искусство, обретало некую бытийную силу. Ведь Адам в раю не только ел яблоки, но и давал имена животным и растениям. Назвать – создать: здесь это не «критический трансцендентализм», но самая настоящая онтология. У Цветаевой вновь ощутим акт сотворения бытия, и натуральное у нее сильнее супранатурального – божественнее. В отличие от Канта, она умела действительно рожать, а не только задумываться о механизмах семяизвержения. За словами всегда виден предмет – совершенно реальный, физически ощутимый. Вышеприведенный пример о Христе и Магдалине – один из тысячи. Когда она пишет о пере и белой странице, об ученическом стилосе и восковой дощечке («Федра – Послание»), о дожде и пашне, то это именно Федра и Даная: одна жаждущая Ипполита, другая – осеменяющего дождя. Она не писала о них – она была ими.
Еще и еще раз: это жизнь не только вне морали, но и вне культуры. И если (тот же Шкловский) задача искусства в том, чтобы давать ощущение заново переживаемого бытия, то она это ощущение дает максимально. Так переживают бытие звери, у них, надо полагать, никогда не наступает никакого «автоматизма восприятий» – терять чутье им не след. Но зато у них никаких переживаний – моральных мук. (И тут приходят в голову алкоголики и венерики: попав в больницу, на отдыхе, они отнюдь не каются и не посыпают головы пеплом, а всячески резвятся: все время – юмористические истории и самое искреннее веселье. Они ведь тоже люди эпические, в стихиях живущие, и психологические изыски – не для них.)
Нужно, однако, вернуть ее в Россию: не в самом же деле Троя. (Троя осталась в Париже, где Троянской войны, как известно, не было.) Россия, натурально, будет архаическая, с купальными игрищами (тот же Эренбург): даже не Московская, а до: древляне и поляне, предающиеся свальному греху. О христианстве, понятно, речи нет. «Христианская немочь бледная». (Где-то пишет, что молилась в Кунцеве дубу.) Русь – не «Царь Небесный исходил благословляя», а упыри, скифы и цыганщина; из имперского периода – каторжанка на этапе, заговаривающая зубы конвойному. Леди Макбет Мценского уезда (детоубийство тут как тут). Какая-нибудь Ахматова против нее – что та самая Сонетка, которую утопила Катерина Измайлова. (Разница – она бы не за Сергея цеплялась, а эту Сонетку отбила у него: это ведь та же «Сонечка».) Очень бы ей пошло конокрадство, вроде как у Чехова в «Ворах». Но это все – как бы фольклор, а ее требуется перевести в миф, в русский миф. Дорогу показал соразмерный гений – Пастернак:
«Цветаева настоящий большой человек, она прошла страшную жизнь солдатской жены, жизнь, полную лишений. Она терпела голод, холод, ужас, ибо и в эмиграции она была бунтаркой, настроенной против своих же, белых. Она там не прижилась» (запись в дневнике А. Тарасенкова).
Главные тут слова – солдатская жена. Проще и лучше – солдатка (думаю, что Пастернак так и сказал). С этим определением она без зазора ложится в русский сюжет. Мифическое соотнесение – Ярославна, плачущая зегзицей. Это больше, чем история, это миф: Россия – брошенная жена. Это ее, России, «элементарный образ», как говорил Юнг вслед за Я. Бурхардтом. Элемент значит стихия, первобытие. Тут Бабель вспоминается: «Вот передо мной базар и смерть базара». История России – иссякновение стихий, упадок, распад, схождение на нет бытия. Это такой же парадокс, как самоубийство Цветаевой. Этого не должно было быть. Рыбная ловля, охота и бортничество, хлебный экспорт, каспийские осетры и Тихоокеанская железная дорога обратились в баб, пашущих на коровах. А куда же делась пресловутая пенька? Пошла на веревку Цветаевой.
Не вспомнить ли еще одну солдатку – Пенелопу? Меня занимает символика распускаемого ночью ковра. Я справился у Отто Ранка («Инцест-мотив в литературе и мифологии»), но у него ни слова о Пенелопе. А как быть с Телемаком? Так что же такое распускаемый ковер? Не есть ли это – нечто неестественное, против природы (женской) идущее: нечто, обращаемое вспять? И не есть ли инцест матери с сыном – обращенное вспять материнство? «Могла бы – взяла бы в пещеру утробы». И почему упорно отвергаются женихи?
У Цветаевой, правда, «женихи» были, и тут ее статус солдатки приводит на ум чисто бытовые ассоциации: солдатка – гулящая бабенка. Но это – поистине девятнадцатый век. В русской деревне сорок первого и последующих годов «гулять» было не с кем, потому что все мужики стали солдатами, все ушли в Одиссеи.
Но оставались – Телемаки.
Теперь мы можем понять сверхличное значение цветаевской судьбы, ее архетипичность, – увидеть Цветаеву как символический образ России. Понять ее в паре с ее Муром. Какая уж тут психопатология. Да и «поэтическая безответственность» предстает пророческим служением, репрезентативной демонстрацией будущего, раскрытием книги судеб. Кем же надо быть, чтобы носить в себе все бывшие и будущие русские судьбы? Да, эта женщина была поистине femme fatale. Фатальность здесь – не разорение и самоубийство десятка любовников, а фатум, Рок, предвестие всеобщей гибели. Она, как Германия у Томаса Манна, взяла на себя вину времени. Была виной времени.
Марина Цветаева – сама Россия, русская земля и – одновременно – гибель ее и разорение. Это от нее, от матери-земли, в ужасе и отвращении разбегаются сыновья. Все Телемаки делаются Одиссеями. Произошло самоотравление русской жизни, аллергическая реакция на собственные ткани.
Требуется возвращение Одиссея.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































