Текст книги "МЖ: Мужчины и женщины"
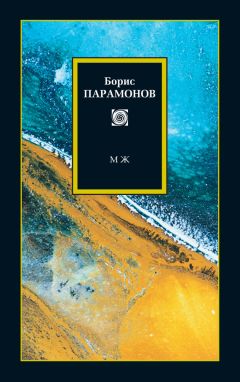
Автор книги: Борис Парамонов
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 30 страниц)
ТРИПТИХ О ПАСТЕРНАКЕ
ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ БОРИСА ПАСТЕРНАКА
(Заметки о романе «Доктор Живаго»)
1
В книге Ольги Ивинской приведена запись Пастернака на машинописи стихов (17.11.56):
…я не всегда был такой, как сейчас, ко времени написания 2-й книги докт. Живаго. Именно в 36 году, когда начались эти страшные процессы (вместо прекращения поры жестокости, как мне в 35 году казалось), все сломилось во мне, и единение с временем перешло в сопротивление ему, которого я не скрывал.
Цитация автографов поэта – не единственное ценное качество этой книги. Главный ее интерес – в облике автора. Мы должны узнать эту женщину, если мы хотим лучше узнать Пастернака. Она сама – не автор, а персонаж – лучший комментарий к его стихам. И то, что мы узнаем в книге о Пастернаке-человеке, без зазора совпадает с обликом его стихов.
Ивинская – не только подруга Пастернака, это его тема.
Пастернак писал в автобиографии, что литературоведы охотнее всего женили бы Пушкина на позднейшем пушкиноведении. И добавлял:
А мне всегда казалось, что я перестал бы понимать Пушкина, если бы допустил, что он нуждается в нашем понимании больше, чем в Наталии Николаевне.
Существует афоризм: для камердинера нет великих людей. Ивинская, конечно, была к Пастернаку ближе любого камердинера. Но величие поэта не умаляется от сообщаемой в книге прозы, наоборот, оно растет постольку, поскольку эта проза способствует нашему пониманию поэзии.
Пастернак говорил на I съезде ССП:
Поэзия есть проза… голос прозы, проза в действии, а не в пересказе. Поэзия есть язык органического факта, то есть факта с живыми последствиями…Чистая проза в ее первозданной напряженности и есть поэзия.
Из всех прозаических фактов, сообщаемых в книге, мне показался самым интересным для характеристики Пастернака-поэта рассказ о том, как однажды в его пиджаке, брошенном на диван, кошка родила котят.
А разве не интересно, например, узнать, что Пастернака до слез умилял фильм «Матрос Чижик» (по Станюковичу) – довольно-таки слюнявая история о том, как русские матросы спасли негритенка? Разве мог бы позволить себе такое «человек со вкусом»? И мы начинаем понимать, что гений – это меньше всего проблема вкуса. Менее всего гений «культурен».
Часто цитировались слова Пастернака из речи на Парижском конгрессе о том, что поэзия не в небе, а в траве. Стоит процитировать и другое – одно письмо Пастернака, сообщаемое Ивинской:
…мои читатели и почитатели… не поняли во мне главного: что я «стихов вообще» не люблю, в поэзии, как ее принято понимать, не разбираюсь, что я не судья, не ценитель в этой области… Если вы разделите людей на партийных и беспартийных, мужчин и женщин, мерзавцев и порядочных – это все еще не такие различные категории, не такие противоположности, как отношения между мною и противоположным мне миром, в котором любят, ценят, понимают, смакуют и обсуждают стихи, пишут их и читают… вера в то, что в мире существуют стихи, что к писанию их приводят способности, и прочая, и прочая – знахарство и алхимия.
Думается, что не только высокопоставленные литературные друзья Пастернака, вроде Асеева, отвернулись от него, но он и сам не сильно их обожал. Об этом у Ивинской есть интересная глава под названием «Друзья, родные – милый хлам…» с письмом Пастернака актеру Борису Ливанову. Запьянцовский старик Кузьмич – хозяин дачи Ивинской – и самогонщица Маруся, продукцию которой Пастернак прятал у себя в подвале, были ему ближе, чем коллеги, не потому, что он был «демократ» – этих терминов лучше избегать, – а потому, что он их, Кузьмича и Марусю, не воспринимал как нечто постороннее. Они были для него деталью мира, в котором он жил сам. Естественно, это был мир «природы», а не «культуры». Они его раздражали только тогда, когда в дело вмешивался, по-теперешнему, «маскульт».
В книге Александра Гладкова «Встречи с Пастернаком» рассказана одна замечательная история. В Чистополе, в эвакуации, Пастернак, выйдя на сцену литературного вечера, отказался выступать, сказав, что утром он обидел соседей по коммунальной квартире, накричав на них только за то, что они завели патефон и мешали ему работать; эти люди не виновны в том, что не понимают хорошей музыки, и он, Пастернак, не может простить себе такого снобизма.
Пастернак не любил выделяться, хотел жить в толпе. Он говорил, что не мыслит жизни вне тайны и незаметности, жизни в зеркальном блеске выставочной витрины. В толпе, «на ранних поездах», легче было затеряться. Происходило все это не оттого, что он был демократ, а оттого, что он был интроверт. Он носил мир – в себе. Отсюда – гармония этого, пастернаковского, мира.
Читаешь его стихи, смотришь на даты – страшные годы; и думаешь, что не так уж страшны они были, если по-прежнему шел снег, или парила весенняя земля, или гремела гроза. Наивная аберрация: это не снег шел, не гроза гремела, а Пастернак стихи писал. Жизни – вокруг – не было, она сохранялась только в стихах Пастернака. Мир был дан ему на сохранение. Удивительно ли, что, владея таким богатством, он не очень нуждался в общении с людьми.
Нобелевская премия была ему не нужна. Его выставили за зеркальную витрину. Тихо съездить в тихую Швецию и вернуться нельзя было. Нарушили порядок пастернаковского существования. Все его поведение вокруг истории с премией объясняется только одним желанием этот порядок восстановить, вернуться к себе, в себя. Кто-то, в октябре 58-го «разоблачая» Пастернака, рассказал, как в 1945 году его наградили медалью «За доблестный труд в Отечественной войне», а Пастернак за этой медалью не пошел: «Ах, медаль… Я пришлю, может быть, сына…» Совершенно то же самое было у него и с Нобелевской премией. Он в ней не нуждался. Он жаждал воли и покоя. Но советская власть была куда шумнее чистопольских соседей.
Конечно, Пастернак хотел напечатать «Доктора Живаго», но «стратегия и тактика» рассчитали бы это действие по-другому. С этой точки зрения была сделана «глупость». Можно назвать также это актом внутренней свободы. Не осуждение (с упомянутой точки зрения) и не восхищение должен вызвать поступок Пастернака – а только признание его немыслимой среди людей естественности.
Пастернак не умел, не мог и не хотел рассчитывать, прикидывать варианты, строить предположения. Все эти умения необходимы жителю земли, но ведь он-то был, по счастливому (впрочем, апокрифическому) выражению тов. Сталина – небожителем. Нужно сделать очень небольшое усилие, чтобы понять: в этом была не слабость Пастернака, а сила его. Даниил во рву львином. Сделать это усилие и перейти к этому пониманию очень помогает книга Ивинской. И это должно быть ей зачтено.
Раньше мы могли только догадываться об этом. Шкловский писал о нем: «Счастливый человек… Жизнь свою он должен прожить любимым, избалованным и великим». Это верная формула, и о ее верности мы могли судить по стихам Пастернака. Основной, если не единственный, мотив этих стихов – счастье бытия. Кому, казалось бы, могло это помешать? Оказалось – мешало. Оказалось, что та жизнь, которая осталась за его стихами, – жизнь, протекавшая не в природе (ибо природа и стихи Пастернака – одно), а в истории, – эта жизнь не была счастливой. Судьба Пастернака показывает, что пути бытия и истории разошлись.
Винили Пастернака в том, что он уходил от истории. Такие разговоры начались задолго до «Доктора Живаго», еще в двадцатые годы. Корнелий Зелинский называл его «гениальный дачник». Потом эпитет, разумеется, отпал; стали говорить о «взбесившемся обывателе». Да, история настигла его и на «даче». Это и называется тоталитаризм. Обобществлено было все, «частная жизнь» не задалась. А мы думали, читая его стихи, что она возможна. И это помогало жить.
Высшим счастьем казалось, что человек в 1937, 41, 47-м – оставался жив, как аббат Сийес. И даже получал гонорары за переводы Гете и Шекспира. И даже жил в собственном доме, ездил в Москву на ранних поездах. Создавалось впечатление, что это вот и есть та жизнь в тайне, вне зеркального блеска витрин, о которой позднее сказал Пастернак.
Все это было не так, и Пастернак недаром переводил Шекспира. Он не уходил от истории. В «Докторе Живаго» он посмотрел ей в лицо и сказал все, что думает.
2
Мы узнали у Пастернака, что поэзия – это проза. Но при этом он всю жизнь мечтал о прозе как таковой, о жанре. Говорил Цветаевой, еще до эмиграции, о романе «как у Бальзака» – с любовью и героиней. «Детство Люверс» и «Повесть» – очень серьезные прозаические заявки. А к концу 30-х годов относятся те фрагменты, которые уже позволяют говорить о начавшейся работе над «Живаго».
Интересно отметить дату первого появления этих фрагментов в печати – 1937-й. Вспомним, что разрыв Пастернака с эпохой очень точно им датирован тридцать шестым годом. Социалистическая реальность подошла вплотную. Надежды исчезли, и, как всегда в таких случаях, пробудились воспоминания.
Реальному образу жизни Пастернак задумал противопоставить образ идеальный, в данном случае – уже ушедший в прошлое. Психологически – прошлое всегда есть резервуар красоты. Пастернак попытался сохранить поэтический образ революции. При этом оказалось, что он попросту вспоминает старый быт. Это были поиски утраченного времени.
Только теперь мы можем понять, что в дореволюционном простонародном быту был стиль. Высокие сапоги, гармошка, самоварные чаепития на Воробьевых горах – под стать масленичным гуляньям и звону московских колоколов. В эту устоявшуюся буколику входило новое – и сразу же обретало приметы быта, знакомые любому пригородному пассажиру:
С ленивой телесностью, как волос в парикмахерской, на пол падало жирное серебро стальной стружки. Мимо обширного застекления с поломавшимися стеклами, сотрясая полы и своды, пробегали поезда и паровозы. Но свистков не было слышно, лишь видно было, как отрывались от клапанов петушки белого пара и отлетали в пустое послеобеденное небо.
Это – описание инструментальных мастерских Казанской железной дороги в отрывке «Тетя Оля». А вот описание тогдашнего быта:
В закате загорался притвор Спаса в Песках и черепные впадины его звонниц. Заглохший самовар приходилось раздувать. Это почти никогда не удавалось. Его разводили снова.
Подкрадывались сумерки. Оля закрывала книгу. Чай садились пить в надвинувшейся темноте. Только руки, сахарница и что-нибудь из закусок озарялись на минуту красноватым вздохом угольков, падавших в решетку самоварного поддувала.
Создается образ гармонического быта, «паровоз» и «самовар» в нем не противопоставлены, а объединены, и достигается это употреблением слова «поддувало». Ассоциативные связи идут дальше и объединяют церковь Спаса в Песках с революционной книгой.
Марина Цветаева писала, что быт у Пастернака легкий – не оседлый, а в седле. И когда он пишет о революции, подполье у него заменяется сходкой, «маевкой».
Пустую вырубку окружали голенастые ели и сосны. За ними лиловела голая, еще только что отзимовавшая чаща. Из нее заплывал паровозный дым и тянул клочьями до самой заставы.
Эти отрывки («Надменный нищий», «Уезд в тылу» и др.) печатались как фрагменты из романа о 5-м годе. Реальность Пастернак хотел ограничить поэтической прелюдией к ней. Пятый год – еще не революция; вернее, революция хороша тогда, когда она ничего не меняет в картине осени или зимы. Жизнь продолжается. В поэме «1905» он писал:
Было утро.
Простор
Открывался бежавшим героям.
Отрывок «Уезд в тылу» уже вплотную подводит к «Доктору Живаго». Действие переносится на Урал, но оно передвинуто не только в пространстве, но и во времени – 1916. Сюжет еще не разверстан по лицам так, как это будет в романе, но уже входит основная его тема – тема гибнущего быта (возы с капустой расхватываются горожанами еще не доехавшие до рынка). Тут же бытовые реалии передаются в уже неясных нынешнему читателю образах: «На мне были новые, неразношенные сапоги. Когда я нагнулся, чтобы пересунуть пятку в правом по подбору…» Подчеркнутые мной слова так же загадочны, как слова Блока из письма к матери, когда он был призван в армию: о присылке сапог черного товара.
Мы даже не способны представить себе, сколько реальностей ушло из России с большевистской революцией.
Фрагменты к роману – очень сильная проза. Мне она кажется сильнее основного текста «Доктора Живаго».
Конечно, отрывок в пол-листа легче написать, чем роман в 30 листов. Но дело не в объеме, а в материале, с которым работал Пастернак в том и другом случае. В роман он ввел современность, начавшуюся вместе с большевистской революцией. Материалом романа стала жизнь, из которой ушла поэзия.
Конфликты этой жизни не могут быть разрешены или «сняты» эстетически.
Оказалось, что в вещи крупного жанра нельзя сохранить иллюзию торжествующей красоты. Большая русская литература XX века должна быть эстетически ущербной. В ней не может быть катарсиса. Угрожаемо не художественное творчество, а само бытие. Поэтому литература должна быть чем-то большим, чем просто литература. Дело идет не о художественных приемах автора, а о том, быть ли ему живу. С какой-то демонской иронией подтвердилась теория Б.М. Эйхенбаума о «литературном быте».
Слова об эстетической неудаче Пастернака вряд ли удивят русского читателя. Это утверждение стало почти что общим местом. Но на Западе роман имел громадный успех. То и другое требует пояснений.
Успех на Западе объясняется, конечно, не политической сенсационностью – никакой политики в романе нет (Марк Слоним сказал, что Пастернак так же враждебен политике, как Толстой – истории), а, как кажется, элементарными литературными реминисценциями, возникавшими у западного читателя. Он, думается, ощутил в романе «стиль рюсс», что-то вроде «Войны и мира» в постановке Кинга Видора. Поверхностный взгляд увидит в книге много «достоевщины»: страшный русский мужик, топором убивающий семью, непонятно для чего сбежавший от домочадцев Антипов, переменивший к тому же фамилию и ставший чем-то вроде Великого Инквизитора, курсистка, стреляющая не то в любовника, не то в прокурора. «Трактирные» диалоги героев (это не объясняю, уверенный, что русский читатель помнит того же Достоевского). И те же самые черты романа у русского вызывают обратную реакцию. Ему кажется, что автор не выдержал жанр; в романе отсутствуют психологические мотивировки, и в то же время он как будто реалистичен, причем крепко реалистичен, склоняется к бытописательству. Ничего фантастического, позволяющего обойтись без психологии, как в «Мастере и Маргарите» или, положим, в «Хулио Хуренито», в нем нет. Антипов принимает странное решение, и тут же – великолепное описание зимней ночи, лодок, вытащенных на берег, воинского поезда, идущего мимо дома. Выразительная реалистическая деталь: гимназист, не могущий натянуть фуражку на забинтованную голову, и Стрельников, говорящий рядом о зверях Апокалипсиса. Вечеринка в московском доме, накануне октябрьского переворота, с уткой и спиртом, прерывается вдруг странным монологом хозяина и начинает напоминать Тайную вечерю. Толстой, Чехов приучили нас к другой прозе, у них герои в критической ситуации говорят об «Африке», на сцену являются даже сопли (Пьер Безухов со спасенной на пожаре девочкой). Русская психология оказывается гораздо проще той, что представляет себе западный читатель Достоевского. И почему же Пастернак, автор, у которого даже в стихах «зрели прозы пристальной частицы», как раз в прозе решился на такую как бы ходульность?
При многократном чтении начинаешь понимать, что это нарушение пропорций, перебивка масштабов не составляет порок, а придает качество книге Пастернака. Сложность в том, что это качество – не эстетическое, тут мы имеем дело отнюдь не с «приемом». В романе Пастернак велик не как художник, а как человек, решившийся разорвать с «эстетикой». Такое решение продиктовала ему тема романа.
Люди более или менее эстетически искушенные знают, что тема в искусстве ничего не решает, что она совершенно нейтральна в отношении самого факта искусства. Слово «тема» приводит на ум другое, крайне скомпрометированное слово – «отражение» и различные его «ленинские теории». В борьбе с этими теориями и особенно с перенесением их в эстетику мы в свое время начали понимать, что подлинное произведение искусства не отражает бытие, а моделирует его. Отношение бытия к художественному произведению – отношение макрокосма и микрокосма. Микрокосм так же, как макрокосм, – самодовлеющее, замкнутое в себе бытие, целостность, в нем нет субъект-объектных отношений, нет ничего внеположного, то есть, возвращаясь к прежнему термину, нет извне заданной темы; не бывает литературы «о».
Такое понимание искусства казалось нам в Советском Союзе верхом как мудрости, так и гражданской смелости; и в каком-то отношении это была не худшая из позиций – там приходилось вести повседневную борьбу за свободу творчества. Такой эстетизм был в сущности не эстетической, а этической позицией, он был аксиологией: требовалось убеждение в самостоятельной ценности искусства. Теперь приходится признать, что особенной доблести в этих убеждениях не было.
Мысль о самодостаточности произведения искусства, об искусстве как моделировании бытия следует связывать исключительно с той ситуацией, которая существовала внутри определенного, ныне изжитого стиля культуры – гуманистического, ренессансного. Эстетизм – реликт этого стиля, модификация в теории красоты основополагающих этот стиль рационалистических посылок. Определяющее как ренессансную эстетику, так и ренессансную онтологию понятие гармонии – пережиток архаического платонизма. Искусство, стимулировавшее эстетизм, – поистине птолемеевское (термин Николая Федорова, употреблявшийся им в несколько ином значении). Ныне в наш когда-то замкнутый мир ворвались ледяные вихри из космоса, как говорил Бердяев в «Кризисе искусства». В мироздании обнаружились дыры. Тогда родилось левое искусство, отбросившее прежнее понятие гармонии. Маяковскому такими дырами в небе казались звезды – традиционный предмет поэтического поклонения. Утративший прежнюю гармонию мир распался на ряды внеположных объектов, он отчужден и экстериоризирован. Так же, как эстетическая гармония перестала быть моделью бытия, так и сам человек – и дух его и тело – перестал быть моделью и вечным образом искусства.
Великие художники во все времена не поддавались эстетическому соблазну, потому что они всегда были выше культуры – какой угодно культуры. Их корни бездонно глубоки, они уходят не в космос, а в хаос. Поэтому, как неоднократно замечалось, у гениальных художников хромает композиция. Еще бы: у Толстого историософские рассуждения нарушают художественную целостность вещи (давая ей в то же время какой-то новый синтез, ибо в историософии «Войны и мира» – «война» и «мир» уже не противопоставляются, а объединяются, ибо «война», история тоже «роятся»), а у Шекспира в ритуал дворцовой жизни Эльсинора вторгается мир духов.
Пастернак, как известно, искал поэзию в траве, а не на небе. Но в «Докторе Живаго» появились тени.
Это прежде всего главные мужские персонажи – сам доктор и Антипов-Стрельников. Правда, их развоплощение происходит по разным причинам.
В романе, наполненном крепкими описаниями крепкого быта, картинами не желающей умирать природы, вдруг появляются эти духи. Происходит резкое нарушение стилистического единства. Это воспринимается как эстетический срыв. На самом деле таким способом автор выражает жизненный конфликт, ставший содержанием романа. Разрушение эстетической ткани должно выразить крах жизни, быта, культуры. Рушится культурный и социальный космос. Роман – плач на реках Вавилонских, страсти четырех Евангелий, Апокалипсис нашего времени. Это библейское укрупнение масштабов выводит роман из эстетического ряда, как описанное в нем – из бытия. «Доктор Живаго» – роман конца. Эстетизировать этот конец нельзя.
Ближайшая ассоциация русского читателя – «Двенадцать» Блока: что-то большее искусства, нечто не оценимое эстетически.
Потом уже, как частность, вспоминается статейка Достоевского, описывающая гипотетическую ситуацию: помещение в лиссабонской газете, на следующий день после землетрясения, стихотворения Фета «Шепот, робкое дыханье…». В этом случае, соглашается Достоевский с Добролюбовым, автора нужно бить.
Пастернака же советская власть била за то, что он напомнил ей о ее катастрофической природе – как раз тогда, когда она, после Сталина, надумала стабилизироваться.
Апокалипсис тоже может стать бытом, растянуться во времени. Он может стать нудным, как очередь за колбасой. Может убивать медленно.
Очень точно пишет об особенностях «Доктора Живаго» эмигрантский литературовед Л. Ржевский, формулируя понятие «стилевого дуализма» у Пастернака: «Внешне этот дуализм, казалось бы, отражает неоднородность авторского поэтического инструментария; со стороны же творчески-композиционной, наличие реалистических стилей объективного повествования и стилей субъективных, «аутных» – есть как бы выражение основного конфликта романа – конфликта между внутренним миром одной, необычайного богатства, человеческой души и миром ее окружения».
Выведя своего героя из бытового ряда, разорвав его связи с окружающей жизнью, Пастернак дал высокую правду времени, не сводимую к удачам той или иной биографии.
Эренбург писал в своих мемуарах, как он «огорчился», прочитав «Доктора Живаго». Поэту, мол, нечего было писать роман: он слышал, как стучит сердце и растет трава, но не услышал хода истории. У Эренбурга получается, что услышать ход истории это значит угадать победителя и на него поставить. А как быть в том случае, если проиграли – все?
Я ничего не хочу сказать особенно худого об авторе «Хулио Хуренито», ни о К.Г. Паустовском. Последнего я вспомнил потому, что параллельно с «Живаго» перечитал его автобиографическую прозу. Сделал это сознательно: материал обеих вещей дает очень сильное совпадение. Тут и старорусский быт, и бегство в природу, и даже фронт первой войны с теми же разоренными местечками. Захотелось посмотреть: чем же отличается великий писатель от просто писателя?
Просто писатель бежит от трагедии – не от литературного жанра, а от жизненной правды в эпоху, когда трагедия стала бытом. Ему хочется остановить мгновение и сказать, что оно прекрасно. Другими словами, он эстет; но эстетика не открывает ему мир, а заставляет его разными ширмами. Он тратит все силы на то, чтобы не заметить происходящего. Поэзия заменяет ему правду.
А Пастернак всегда оставался верен своим давним словам: «Неумение найти и сказать правду – недостаток, которого никаким уменьем говорить неправду не покрыть». Великий писатель бесстрашен, он не боится видеть. Различие – в масштабе личности. Мера гения – не талант, а чисто человеческая значимость. Талант – условие необходимое, но не достаточное.
3
Как известно, Юрий Андреевич Живаго Октябрьскую революцию поначалу одобрил. В письме из редакции «Нового мира», отвергавшем роман, это одобрение было расценено чуть ли не как провокация. В лучшем случае – отговорка автора; заплата на антисоветской ткани романа.
Между тем у Живаго все было очень органично. Это революция оказалась неорганичной. Пастернак не человека судит революцией, а революцию человеком. Очевидно, это и было сочтено антисоветчиной.
Известие об Октябрьской революции застигает доктора на улице.
«Метель хлестала в глаза доктору и покрывала печатные строчки газеты серой и шуршащей снежной крупою. Но это не мешало его чтению. Величие и вековечность минуты потрясли его и не дали опомниться».
Придя домой, Живаго объясняет событие тестю:
– Главное, что гениально? Если бы кому-нибудь задали задачу создать новый мир, начать новое летоисчисление, он бы обязательно нуждался в том, чтобы ему сперва очистили соответствующее место. Он бы ждал, чтобы сначала кончились старые века, прежде чем он приступит к постройке новых, ему нужно было бы круглое число, красная строка, неисписанная страница.
А тут, нате пожалуйста. Это небывалое, это чудо истории, это откровение ахнуто в самую гущу продолжающейся обыденщины, без внимания к ее ходу. Оно начато не с начала, а с середины, без наперед подобранных сроков, в первые подвернувшиеся будни, в самый разгар курсирующих по городу трамваев. Это всего гениальнее. Так неуместно и несвоевременно только самое великое.
Это очень важное у Пастернака определение – обыденщина, будни, отсутствие красной строки. Получается, что революция не столько опровергает будни, сколько входит в их естественное течение. Она превосходит их только размером, скачка, перерыва нет, сохраняется качество бытия.
Понятно, что это характеристика не революции октябрьской, а собственной историософии Пастернака. Революция выступает у него здесь в гармонии истории и природы; собственно, она и есть эта гармония.
Очень скоро выяснилось – собственно, еще до того, как Живаго читал на улице газету, – что первый результат революции сказался как раз в нарушении естественного течения жизни. Сказано об этом вскользь, потому что намек бывает порой эффектней декларации. У Живаго заболевает маленький сын, а он не может выйти на улицу, чтобы купить лекарство: идет бой, большевики борются за власть.
Намек тут такой: грядущая гармония не стоит страданий ребенка.
Однако мы не должны считать слова о революции, как редакторы «Нового мира», неискренними. У Пастернака с ними слишком многое связано.
В этих словах сказалась инерция его опыта, скорее чем собственный характер революции.
У Пастернака было в жизни откровение – лето 1917 года. Как все знают, эта дата – второе название его книги «Сестра моя жизнь». Известные слова его об этой книге повторены в «Докторе Живаго»: «И не то, чтоб говорили одни только люди. Сошлись и собеседуют звезды и деревья, философствуют ночные цветы и митингуют каменные здания. Что-то евангельское, не правда ли?»
Всем известно отношение Пастернака к Рильке. Преклонение достигало того, что он вел с учителем посмертные разговоры, надо полагать – о самом важном. И о чем же он писал в письме, отправленном покойнику? Да все о том же:
Едва ли сумел я как следует рассказать Вам о тех вечно первых днях всех революций, когда Демулены вскакивают на стол и зажигают прохожих тостом за воздух. Я был им свидетель. Действительность, как побочная дочь, выбежала полуодетой из затвора и законной истории противопоставила всю себя, с головы до ног незаконную и бесприданную. Я видел лето на земле, как бы узнавшее себя, естественное и доисторическое, как в откровеньи. Я оставил о нем книгу. В ней я выразил все, что можно узнать о революции самого небывалого и неуловимого.
Революция персонифицируется в женском образе. Причем нет в этом образе никакой аллегорической скульптурности, античных реминисценций, нет «Делакруа», он нарочито прост, даже снижен – побочная дочь, бесприданница (хочется добавить – «простоволосая»). Этот образ неоднократно возникает в стихах Пастернака.
Очевидно, это и была «сестра моя жизнь». В революции поэту открылся истинный лик бытия, при этом оказалось, что ничего, так сказать, сверхъестественного не происходит, просто вдруг жизнь обретает гармонию в собственной повседневности. Поэзия становится реальным фактом жизни и не требует больше книг.
Отсюда пошли у Пастернака разговоры о тождественности поэзии и прозы.
Те же видения были у Блока, в зиму 17—18-го годов. Его стихией была зима, как пастернаковской – лето. В докладе «Крушение гуманизма» он развивал свою любимую мысль о культуре и стихии. Стихия побеждала в революции – и за это, только за это, Блок революцию принимал. И эта стихия поначалу не была враждебной человеку, она внесла его на высоты, недостижимые для культуры. В начале революции («всех революций» у Пастернака) падал строй и образ исторически сложившегося бытия, и открывалось нечто высшее. Чем назвать его? Уж не видением ли рая?
Видимо, остро переживалось выпадение из времени, символизированного историей, открывалась вечность. Выпадение из заведенного не нами порядка – начатого кем и когда? – давало это неземное впечатление. Понималось, видимо, что не «царизм» пал («царизм», «Версаль» – только символы культуры, истории, времени) – а некое изначальное проклятие.
Видимо, в начале всех революций люди заглядывают за грань грехопадения. Иначе бы революции никогда не повторялись. То, что они видят за этой гранью, длится мгновение. Но мгновение, говорил Кьеркегор, – атом вечности, а не времени. Поэты на то и поэты, чтобы это мгновение не забыть, зафиксировать. Но на этой сверхкультурной высоте долго не удержаться, и чем выше подъем, тем глубже падение. Начинается революция в собственном смысле, революция в истории, история революции: война всех против всех. Человек начинает мстить самому себе за то, что не удержал мгновение, что нужно возвращаться в историю, в культуру и вместо явленной во плоти гармонии творить ее символы – ту же культуру. Предел грехопадения оказывается непреодолимым.
Лето 1917 года описано Пастернаком не только в стихах, но и в прозе. Это часть пятая романа – «Прощанье со старым» – шедевр прозы Пастернака.
Входя в обстоятельства написанного, понимаешь, что шедевры возникают не потому, что художник отточил мастерство, а потому, что он нечто увидел, ему дано было увидеть, было ему явление.
Образ гармонии, реализованной здесь, на земле, является доктору Живаго летом 1917 года в городишке Мелюзееве, в котором он застревает после ранения на фронте. Это здесь философствуют цветы и митингуют здания.
Вот совершенный образ бытия у Пастернака:
За вороньими гнездами графининого сада показалась чудовищных размеров исчерна багровая луна. Сначала она была похожа на кирпичную паровую мельницу в Зыбушине, а потом пожелтела, как бирючевская железнодорожная водокачка.
А внизу под окном во дворе к запаху ночной красавицы примешивался душистый, как чай с цветком, запах свежего сена. Сюда недавно привели корову, купленную в дальней деревне. Ее вели весь день, она устала, тосковала по оставленному стаду и не брала корма из рук новой хозяйки, к которой еще не привыкла.
– Но-но, не балуй, тпрусеня, я те дам, дьявол, бодаться, – шепотом уламывала ее хозяйка, но корова то сердито мотала головой из стороны в сторону, то, вытянув шею, мычала надрывно и жалобно, а за черными мелюзеевскими сараями мерцали звезды, и от них к корове протягивались нити невидимого сочувствия, словно то были скотные дворы других миров, где ее жалели.
В этом и подобных местах (а их в романе десятки) Пастернак достигает высот большого русского стиля. Это та самая трава, в которой он искал поэзию. Устанавливается непосредственная связь между предельно низким – хлев, корова – и предельно высоким – небо, звезды. Забегая вперед, скажу, что в таких местах дается пастернаковский образ христианства. Евангельская истина для Пастернака – не только в высоте морального правила, но и вот в этих простейших реалиях повседневности. (Так написано стихотворение «Рождественская звезда».) В ряду всех этих чудес – еще одно: провозглашение в округе «Зыбушинской республики», отделившейся от России, во главе с мукомолом Блажейко. Волостное правление Блажейко переименовал в апостолат. Республика опирается на дезертиров из двести двенадцатого пехотного полка.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































