Текст книги "Переписка Бориса Пастернака"
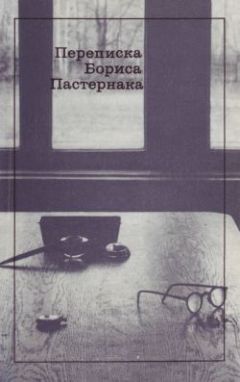
Автор книги: Борис Пастернак
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 47 страниц)
Фрейденберг – Пастернаку
Ленинград, 6.I.1954
Дорогой Боря!
Только что я хотела ответить тебе, как следует, на твои два письма, особенно на последнее, поразившее меня братской сердечностью, живостью и ласковостью (я так и метнулась к тебе, и столько во мне поднялось!), – как пришел Фауст.
Ты и взаправду должен быть счастлив, быть удовлетворен высшим и единственным на земле удовлетвореньем. А сколько раз ты считал себя у конца! Бесплодие творящего – милость Божия. Она наливает силой и дает паузу, без которой не было бы на свете ритма. Когда ты падал – сколько предстояло тебе сделать! Что ждало тебя!
Фауст – это монумент твоей славы. Я взяла профессиональными руками книгу, посмотрела в нее – и поняла это.
Но почему именно Фауст? Чего еще недоставало тебе после тебя самого и Шекспира?
Потрясает картина твоего в 64 года полноводья. Ты вдруг вышел из заточенья не с бледным лицом, а в горностае, во весь рост творческой гордости, во всем великолепии высочайшей полноты и меры.
Я не люблю родины Пуришкевича и III-го Отделения. Я устала до смерти от желудочной болезни, от тошноты, надрывающей сердце. У меня головокруженья и рвоты, но с отвратительным отсутствием беременности. Я несколько лет не говорила с тобой из-за Шпекина.[202]202
Почтмейстер в «Ревизоре» Гоголя, читающий чужие письма.
[Закрыть]
Но когда я взяла в руки твою книгу, я подумала: вот это – ощупь культуры во всей ее осязательности. Это вклад, который делается на глазах нерукотворным событием кровью русской культуры, ничем не смываемой. Дверь отворилась, ты вошел и сел. Это – факт.
Тут уж нет ни вкусов, ни школ. Означаешь ты будущее или прошлое. Сурков ты или Исаковский, Бурлюк или буржуй – или Александр Александрович Смирнов. На Фаусте они зубы себе обломают, потому что это шире – для русской культуры, – чем Шекспир или Пастернак. Это первый русский Гете, уже не говоря о Гете ГДР. Это политический факт. Так что и для слепых и для зрячих. Превосходен язык, живой, естественный, точный, сжатый. Простота формы сочетается с полнотой гетевской мудрости, и ее измеренье в глубину дается легко, как во всякой подлинной зрелости. Прекрасно играет ирония и налет шутки, составляющей привкус немецкого средневековья. Все дано в движеньи и в колорите. Заострены сентенции, которых так много, и концовки. Чудно звучит мелос.
Да, ты не можешь не чувствовать себя хорошо. Тебе дано счастье не только быть великим, но и стать великим. Тебе дано осуществленье.
Я еще не все прочла, но ясно одно: ты изменил природу перевода, сделав его из обычного иностранца в кафтане – самостоятельным оригиналом, который жадно читается без ощущенья, что ты в гостях. Как горько, что закрыты мамины глаза! Как бы она теперь читала!
Надписью на книге ты меня огорошил, чтоб не сказать – огорчил. Насколько было бы лучше, если б не было этой оценки, такой неестественной в устах брата. Ты неисправимый… литератор.
Крепко обнимаю тебя.
Твоя Оля.
Я уверена, что ты получишь официальное признанье.
Фрейденберг – Пастернаку
Ленинград, 18.III.1954
Боря, в апреле пойдет твой Гамлет в Александринке. Тебе не хотелось бы послушать себя в звучаньи? Этот спектакль несет большой смысл… Приехал бы ты на генеральную репетицию или премьеру. Я могу узнать точную дату. Пожил бы у меня, сироты.
Гамлета будет играть Фрейндлих, талантливый актер; очень был хорош… в Хлестакове. Я уверена, ты остался бы доволен.
Обнимаю тебя.
Твоя Оля.
Пастернак – Фрейденберг
Москва, 20.III.1954
Дорогая моя Олюшка, спасибо тебе сердечное за открытку. Я знаю об этом спектакле, со мной списывался Козинцев, режиссер, и тоже звал в Ленинград. Я не поеду. Мне надо и хочется кончить роман, а до его окончания я – человек фантастически, маниакально несвободный. Вот, например, до такой степени.
В апрельском номере журнала «Знамя» собираются напечатать десять моих стихотворений из романа «Живаго», в большинстве написанных в этом году. Я их читаю в гостях, они мне приносят одну радость. Их могло бы быть не десять, а двадцать или тридцать, если бы я позволял себе их писать. Но писать их гораздо легче, чем прозу, а только проза приближает меня к той идее безусловного, которая поддерживает меня и включает в себя и мою жизнь, и нормы поведения и прочее и прочее, и создает то внутреннее, душевное построение, в одном из ярусов которого может поместиться бессмысленное и постыдное без этого стихописание. Мне не терпится освободиться поскорее от этого прозаического ярма для более мне доступной и полнее меня выражающей области.
Или, например, если не считать некоторого Зининого неприкосновенного сбережения, с текущим, повседневным бюджетом у меня теперь некоторая временная заминка. И опять, из-за неоконченного и пишущегося романа у меня нет времени постоять за себя, что-то предпринять, похлопотать в издательстве и т. д.
Вследствие поглощенности этою мыслью, у меня нет времени спорить, когда мне говорят глупости, и за недосугом я со всеми соглашаюсь и предпринимаю правку, о которой просят редактора переиздаваемых переводов, хотя этого совсем не надо делать. Видишь, какое несчастье этот роман и как надо стараться поскорее от него избавиться. По тем же причинам пишу тебе второпях, за что прошу простить меня.
Я тебя не поблагодарил за твое щедрое чувствами, великодушное письмо о Фаусте. Но оно было именно то, написание которого я хотел предупредить и не успел. Как ты доверчива, если думаешь, что перевод оценят и обратят на него внимание (я привожу в своих выражениях надежды, которые ты питала в письме). У меня никогда расчетов и притязаний таких не было и быть не может.
Теперь о другом, гораздо более важном. Если ты знаешь кого-нибудь из участников постановки и спектакля, передай им от меня выражения сильнейшей признательности и пожелания успеха. Чтобы они не думали, если я остался в стороне, молчу и не даю о себе знать, что я что-то возомнил о себе, что безразличен к ним и что работа их не представляет для меня значения. Или иногда я отзываюсь слишком вынужденно торопливо с превратными последствиями, на письме лежит налет угрюмой отписки, способной оскорбить получателя. Так, на меня, кажется, обиделся Козинцев.
Милая, дорогая Оля, вот и тебе написал я безобразное по глупости письмо, состоящее из единственного слова «роман» в двадцати повторениях. А как бы я хотел обнять тебя, повидаться и поговорить с тобой!! И это будет, будет когда-нибудь, увидишь. Без конца целую тебя.
Твой Боря.
Пастернак – Фрейденберг
Москва, 27.III.1954
Дорогая Олюшка!
Мне прислали афишу о готовящемся Гамлете, расклеенную у вас. Это очень радостно, но там неправильность, сказано: перевод Б. Пастернак, а не Пастернака, как надо. Я об этом писал Козинцеву, но в вежливой, не настойчивой форме, прося его, чтобы в следующих афишах о днях спектаклей ошибку исправили и имя склоняли. Если у тебя есть знакомства с кем-нибудь из группы близко стоящих к театру или постановке, сделай милость, напомни об этой моей просьбе, и чтобы кто-нибудь последил о ее исполнении. Если это для тебя сопряжено с какой-нибудь неловкостью или трудом, если нет путей, забудь и прости.
Крепко тебя целую.
Твой Боря.
Фрейденберг – Пастернаку
Ленинград, 3.IV.1954
Дорогой Боря, я сделала то, что ты хотел, но дойдет ли грамматика до сознанья корректора, – сказать трудно. Увижу на премьере 11-го апр<еля> афишу. Играют самые первые актеры. После премьеры опишу тебе все впечатления. На тебя все обижены, до широкой публики включительно.
До скорой бумажной встречи!
Твоя Оля.
Пастернак – Фрейденберг
Москва, 4 апреля 1954 г.
Дорогая Оля!
Ответь одно: исправили ли имя на афишах (Пастернака). Тебя, наверное, поражает эта мелочность при кажущемся отсутствии интереса ко всему остальному. Но крупицами, частями жизнь будет возвращаться с неисчислимо многих и разных сторон. За всем не поспеть. Мне привезли уже одно мнение артистов московского гастролирующего у вас театра, соперников и недоброжелателей, похваливших Полония и призрака отца и нашедших Гамлета слишком деятельным и оптимистичным, не оставившим ничего от трагедии. Но ведь таков перевод. Бедные исполнители! Привезут мне еще и другие сплетни.
Целую тебя.
Твой Боря.
Фрейденберг – Пастернаку
Ленинград, 10.IV.1954
Ошибка исправлена. Завтра премьера, жду с волненьем. Жди отчета от меня.
Пишу по дороге из театра на почте, в руках колбасы, сосиски и булки для приятельницы. До послезавтра.
Твоя Оля.
Пастернак – Фрейденберг
Москва, 12 апреля 1954
Золото мое, Олюшка, спасибо тебе, что ты так горячо и деятельно держишь меня в курсе событий. Слышал очень хорошие отзывы о спектакле. В Ленинграде часто бывает Ливанов, большой мой друг, который должен был играть Гамлета во МХАТе пятнадцать лет тому назад. На днях он был с женой, и оба (приятели Черкасова) просили у него и Козинцева, чтобы их пустили на генеральную, и им отказали. На премьеру отсюда выехала Л. Ю. Брик. Вообще это – театральное событие, о котором будут мнения самые разнообразные и противоположные. Не страдай за меня, как я всегда прошу. Сейчас должен выступить на одном вечере венгерской поэзии. В четвертом, апрельском номере журнала Знамя есть несколько моих стихотворений из романа. 16-го будет обсуждение Фауста (перевода) в Союзе писателей. Пока все это очень незначительно и пока, все же, очень чуждо. Только бы хватило сил для решающих проявлений и не подорваться на этих предварительных пустяках. А столько еще можно сделать и сказать!
Целую тебя, хорошая моя.
Твой Б.
Фрейденберг – Пастернаку
Ленинград, 11. IV.1954
Дорогой Боря!
Спектакль великолепный, но без Шекспира. Гамлета ставят, как современную психологическую реалистическую драму. Когда я прочла в газете, что в Гамлете показаны «уродливые общественные отношения» и что цель Козинцева «ярко воссоздать образ героя, защищающего стремления людей к разумной жизни, лишенной лжи, насилия, угнетения человека человеком», я готова была увидеть в Гамлете народного демократа или предтечу декабристов. Кое-что в этом направлении имеется – пантомимический показ простого народа и восстанье, предводительствуемое Лаэртом в одежде корабельщика, с разорванной белой рубахой. Но это не больше, как «приближенье к нашей современности». Желая побороть рутину, театр дал много нового в трактовке и в мизансценах. В начале – пролог. Темно. Бьют башенные часы, средневековые, с заводными средневековыми фигурами. В глубине сцены – гробница, Гамлет перед ней на коленях. Благоговейно толпится народ. Гамлета любят, к нему тянутся. Он одаряет нищих.
Клавдий – маленький, рыжий, бледный; он суетлив. Смотрится в ручное зеркало. Гертруда – красивая женщина, без степенности, но с мелкой заносчивостью. Полоний традиционно толст и очень хитер. Лаэрт – бандит. Офелия приходит в своей последней сцене без цветов и венка, в бархатной верхней мантилье, пышной, которую потом сбрасывает.
Все естественны, правдивы, просты. Сцен на троне нет. Король и королева, как современные любовники, влекутся друг к другу, ищут рук и взглядов, ходят; «Гонзаго» разыгрывается в саду, с подмостков балаганной телеги. Призрак появляется на башенной вышке; он дороден, простоволос, добр, гуманен. Ну, а Гамлет?
Его играет умный, интеллигентный актер с широким диапазоном. Такого детально разработанного Гамлета я никогда не видела (уж не говоря о бездарном Качалове). Внешний образ до максимума прост. Черная одежда чуть не из коленкора, «шляпы» и кудрей нет. Большой лоб, высокая худощавая фигура, тонкие ноги. Умен, саркастичен и хитер в отношеньях с врагами, добр и мягок. Трогателен. В сцене с матерью не резок, а после призрака по-чеховски нежен, грустен, мягок. Забыв игру, я смотрела на него, как на «живого» человека, жизнь которого проходила, как жизнь знакомого. Мысль «в чем же его драма?» не вставала. Разве ты думаешь о драме, когда у тебя в столовой пьет чай твой знакомый, «несчастный в жизни»?
Офелию играла даровитая молодая актриса, показавшая себя в Джульетте (из театра для детей).
Фигурка, молодость, полная естественность интонаций и движений, доведенная до бытовизма; но лицо простецкое, но поэзии никакой. Кто был хорош – так это Горацио. Я никогда не видела такой сердечности, достигнутой просто и скромно. Да: Розенкранц и Гильденстерн. Щегольски одетые высокие два красавца, без обычной угодливости и приседаний. Фортинбраса нет совсем. А тем самым нет и замечательного философского образа. Что такое Гамлет без Фортинбраса? Это так у Мопассана: в конечной фразе – раскрытие всего смыслового смысла (написала нечаянно, но оставляю). Второй возможный вариант жизни, облегченный, но настоящий, действенный, реальный; вот кто Фортинбрас. Это вечная молодость, это жизнь в непосредственном ее потоке и свершеньи. Он должен прийти. Когда Гамлет умирает, приходит Фортинбрас – иначе не шла бы жизнь на земле. Сколько уносит с собой Гамлет! В чем его драма? В том, что он жил за жизнь (если б можно было так взаправду сказать!), брал на себя ее, творил от утра до вечера ее значенья, пролезал через толщу ее смыслов, как подземные черви; утомленье Гамлета бесконечно. Фортинбрас облегчен отсутствием этой мировой усталости. Каким светом он наполняет эпилог Гамлета! Сколько в нем шекспировского величественного оптимизма! Конечно, в «мещанской драме» Козинцева ему нет места. – Все знаменитые монологи нарочито «ореалены» и сделаны обыденными. То be or not to be[203]203
Быть или не быть (англ.).
[Закрыть] проходит на фоне заглушённого где-то за сценой органа и совершенно пропадает. Многие неясности «Гамлета» выутюжены: все это ясно до предела. Мизансцена «галереи» заменена, – ну, разумеется! – интерьером. Показана комната Гамлета. Посредине – огромная Ника на постаменте, без головы, как и следует; на полу античный барельеф, над ним полка с огромным свертком (древняя рукопись!). Здесь идет разговор с Полонием. «Слова, слова, слова» Гамлет произносит, полусидя на столе или ручке кресел, и при этом с шумом перелистывает кучки страниц. Сильная по драматизму сцена с «оленем» после «Гонзаго» мелодраматически переходит в «театрализованное зрелище» с танцами, криками и шутовством. – Купюр масса. Убраны шекспировские метафоры и афоризмы. Стих «снят»: читают, как говорят. Если б мы не жили в яркую, замечательную эпоху, я сказала бы, что такое противоборство стиху, ритму, страсти, темпераменту могла бы породить только эпоха, распластавшая человека и вынувшая из него внутренности, эпоха растоптанного стиха и облеванной души. Объясни: если нужно скрывать ритм и метр, как скрывают порочное происхождение, зачем писать в ритме и метре? Тогда давай разговаривать, как во время обеда.
Ты сочтешь за родственное преувеличенье («щедрость чувств», как ты называешь), если я скажу, что никогда ни у каких двух писателей не было столько умственного родства, как у Шекспира и у тебя. Все, за что тебя так нещадно гнали и хотели вытравить, – это «шекспиризмы». Когда читаешь Шекспира, поражаешься, сколько в нем «пастерначьего», того, что твои критики называли футуризмом, хлебниковщиной и т. п. Шекспировские образы, метафористика, многоплановость мысли, спрягаемость событий во всех временах и видах одновременно, доведенье частности до универсализма, величайший поэтический ум. Поразительно значенье анахронизмов у Шекспира. Он держит в одной руке нити прошлого и настоящего. Замечательно, как в «Цезаре» и «Антонии» он делает ремарки в нашу сторону, разрывая ткань времени. Так, у какого-нибудь Гольбейна к богородице и богу могут примоститься целые семейства Мейеров. Как убоги эти требования «современности» и «реализма»! Нельзя же требовать, чтоб у слона был хобот. Можно подумать, что они видели искусство без современности и без реализма, и жеребенка, вскормленного в консультации.
Я ушла, не досидев до конца. И не потому, что было скучно. Но актеры уже показали свой «потолок» и больше ничего дать не могли. А искусство есть ожиданье. Когда больше ждать нечего – с этим все кончается. Как любовь.
Я шла домой счастливая свежестью вечера. И у меня были свои тени: мама, дядя Ленчик. Гамлет – это не только история театра, но и семья, и юность, и та духовная физиология, которой живешь и держишься, ее не замечая.
Тебя знает весь цивилизованный мир. Но когда шумела и жужжала толпа, наполнявшая все ярусы и партер, и усаживалась, задевая чужие ноги, какой явной стала история! Твое величие можно было купить в любой афише и поразиться его ощутимости. Вот поднялся занавес – и твой язык раздался со сцены, твой жизненный подвиг сделался сценическим воплощеньем. Гамлет в переводе Бори!
Но чувства гордости у меня не было. История поглощала семью.
Извини, что я тебя занудила. Ради бога, не вздумай отвечать. Я пишу тебе «по мере надобности», и этого права у меня не отнимай, не стесняй меня глупыми условностями. Я знаю, что ты хороший мальчик и культурный гражданин, но очень занят и сыт по горло чернилами. Обязательность твоих ответов лишает меня возможности иногда говорить с тобой, – а ты не знаешь, какая бывает в этом потребность.
Обнимаю тебя. Надеюсь, что ты здоров и хорошо работаешь.
Твоя Оля.
Сейчас мне сказали, что конец Гамлета таков: покойники лежат во мраке, небо озаряется ярким светом – и там, в вышине, появляется на постаменте Ника, та самая. Как говорится – комментарии излишни.
Пастернак – Фрейденберг
Москва, 16.IV.1954
Дорогая Оля! Мгновенно отвечаю тебе по прочтении твоего талантливого, увлекательного, большого и глубокого письма, и в момент самый неподобающий: сейчас седьмой час вечера, а в семь тридцать в Союзе писателей обсуждение моего перевода Фауста, и я иду туда. Я плакал, читая твои строки. Милый друг мой, достань где-нибудь через неделю или дней через десять четвертый номер журнала «Знамя» (тут он уже вышел). Там за вычетом двух-трех стихотворений, раньше написанных, – все новое. Тебе приятно будет увидать в нынешней печати такое простое, естественное и непохожее на нее. Главное, конечно, не в них, а в прозе, в «системе», которой они вращаются и к которой тяготеют. И слова «доктор Живаго» оттиснуты на современной странице, запятнаны им! Без конца тебя целую, радость моя.
Меня огорчает, что присобачили они ко мне Маршака. Зачем это?[204]204
Г. М. Козинцев писал Пастернаку, что хочет кончить спектакль чтением 74-го сонета в переводе С. Маршака. Чтобы избежать контаминации кардинально противоположных образных структур разных переводов, Пастернак перевел специально для Козинцева 74-й сонет и прислал ему. Но в спектакль был включен перевод Маршака.
[Закрыть]
Твой Б.
Пастернак – Фрейденберг
Москва, 12.VII.1954
Дорогая Олюшка! Жива ли ты и что делаешь? Как твое здоровье? Я более чем свинья перед тобой, я подлец и мерзавец (если только это действительно более свиньи), что отделался короткой отпиской в ответ на твой большой обстоятельный разбор Гамлетовской премьеры. Это было замечательное письмо, содержавшее целый мир представлений, в общей сложности споривших глубиной и яркостью с самим Гамлетом. И когда я теперь слышу или узнаю что-нибудь об этой постановке, передо мной встают не Шекспир, не Александринка, не Ленинград, а твое письмо.
Я боюсь, что ты не знаешь, как я люблю тебя, и не чувствуешь, как я тебя целую. Но если я расстанусь со своим, вошедшим в привычку, трудолюбием, что тогда от меня останется?
Зимою несколько либеральных месяцев были в том отношении облегчением, что знакомые заговорили живее и с большим смыслом, стало интереснее ходить в гости и видать людей.
Кроме того, наступил перерыв в утомительном этом плавании по собственной вынужденной безбрежности, без руля и без ветрил, некоторое подобие органического наполненного жизнью воздуха подступило к твоей судьбе, охватило ее кругом, опять придало ей очертания. Стало легче работать. Элемент определенности, хотя бы даже далекой, одним своим присутствием в пространстве дал опять почувствовать, где ты начинаешься и кончаешься, чего хочешь, почему у тебя такие странные желания и что ты должен делать.
Я и тогда был вне этих слабых перемен и не льстил себя никакими надеждами. Но обстановка была приятнее своим большим сходством с жизнью. А теперь опять я погрузился в бездонность полной своей свободы и одиночества. Я хочу кончить роман и верю, что кончу его. Никто не мешает мне писать его. Я здоров и хорошо себя чувствую. Зимой был ремонт дачного дома, который мы арендуем у Литфонда. Он переделан и превращен во дворец. Водопровод, ванна, газ, три новых комнаты. Мне неловко в этих помещениях, это не по чину мне, мне стыдно стен огромного моего кабинета с паркетным полом и центральным отоплением. Я работаю, я не умею отдыхать, наслаждаться, но как скучны и бездарны черновые карандашные заготовки, которые я делаю к последней части! Можешь себе представить, какой это ужас и отчаяние, если я позволил себе отложить в сторону дневной урок и дал волю постоянному желанию немного побыть с тобой. Но не буду гневить бога: вот я немного отвел душу с тобой, ничего не упомянув. А разве это не счастье. И кроме того: судьба так мягка ко мне. Но так несоизмерима разница между тем, что можно и должно было бы сделать, будь хоть какая-нибудь связь и сходство с любимым путем в окружающем и тем, что даешь и делаешь без этой общности.
Каждое лето я с некоторой надеждой, что это когда-нибудь осуществится, зову тебя к нам. Я не повторяю этой просьбы, она только возрастает в силе.
Поцелуй, пожалуйста, от меня Машуру. Это не слова, не безграничная условность. Очень часто целые полосы отдаленного детского прошлого проходят передо мною, особенно нынешним обжигающе-жарким летом, с заскакивающими в дом кузнечиками. Я опять все вижу не только с жаром, звуками и запахами тех дней, но и с чувством, что освобождающее, облегчающее дыхание будущего уже было после горячей тесноты их и бедной правды. Ах, Оля, Оля! Так, как тебя, мне надо было бы повидать только девочек, и не из-за близости родства только, а прибавившегося потом знания мира.[205]205
Пастернаку не пришлось увидеться с сестрами, живущими в Англии.
[Закрыть] Обширности кругозора, твоей деятельности, их путешествий. Крепко целую тебя.
Твой Боря.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































