Текст книги "Переписка Бориса Пастернака"
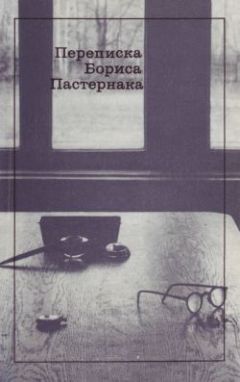
Автор книги: Борис Пастернак
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 44 (всего у книги 47 страниц)
Эфрон – Пастернаку
5 июня 1952
Дорогой мой Борис! Еще плывут по Енисею редкие льдины, а уже июнь! Никак не могу привыкнуть к тому, что здешняя природа и погода так отстают от общепринятого календаря, да и вообще от всего на свете. За окном – безнадежный дождь, мелкий, нудный, и все вокруг – цвета дождя, и небо, и земля, и сам Енисей, шумящий возле дома. Этот дождь назревал как болезнь уже несколько суток, и наконец разразился сперва, а потом и пошел и пошел однообразно стучать и стучать по крыше. Ночей у нас уже больше нет, стоит один и тот же непрерывный огромный день, сразу ставший таким же привычным, как недавняя непрерывная ночь. Еще нигде ни травинки, ни цветочка, весна еще ленится и потягивается, пасмурная и неприветливая, как старухина дочка из русской сказки. Навигация пока что не началась, но на днях ждем первого пассажирского парохода из Красноярска. Гуси, утки, лебеди прилетели. Кажется, все готово, все на местах, дело за весною. Я живу все так же, без божества, без вдохновенья, и без настоящего дела, несмотря на постоянную занятость и благодаря ей. Сонмы мелких и трудоемких работ и забот не снимают с меня все обостряющегося чувства вины и ответственности за то, что все, что я делаю, – не то и не так, и по существу ни к чему. Быт пожирает бытие, и все получается вроде сегодняшнего дождя, не нужного здешней болотистой почве, и к тому же такого некрасивого!
Поговорить даже не с кем. Правда, все мои былые собеседники остаются при мне, но ведь это же монолог! А о диалоге и мечтать не приходится. Тоска, честное слово!
Ты прости меня, что я к тебе со своими дождями лезу, как будто бы у тебя самого всегда хорошая погода. Но кому повем? Ты знаешь, когда вода близко шумит, и шум ее сливается с ветром, я всегда вспоминаю раннее детство, как мы с мамой приехали в Крым, к Пра, матери Макса Волошина. Ночь, комната круглая, как башенная (кажется, и в самом деле то была башня), на столе маленький огонек, свечка или фонарь. В окно врывается чернота, шум прибоя с ветром пополам, и мама говорит – «это море шумит», а седая кудрявая Пра режет хлеб на столе. Я устала с дороги, и мне страшновато.
Мне иногда кажется, что я живу уже которую-то жизнь, понимаешь? Есть люди, которым одну жизнь дано прожить, и такие, кто много их проживает. Вот я сейчас читаю книгу о декабристах, и все время такое чувство, что все это было недавно, на моей памяти – м<ожет> б<ыть> просто потому, что все живое близко живым? Ведь Пушкин – совсем современник, а Жуковский – далек. Я хорошо помню Сергея Михайловича Волконского, внука декабриста, и в самом деле все близко получается – ведь его отец родился в Сибири!
Нет, бог с ним с дождем, а жить все равно интересно. И все равно – живые – бессмертны!
Когда же ты устанешь переводить и захочешь пойти покопаться в огороде, вот в эту самую минутку, между переводом и огородом, напиши мне открытку. (Хотя бы.) Пусть у меня будет хоть иллюзия диалога. Мне очень хочется узнать о твоем здоровье, и очень хочется, чтобы никакие боли тебя не мучили. Когда ты долго молчишь, я думаю (и, увы, иногда угадываю!), что ты болеешь. И не столько из-за дождя я написала тебе, и не столько из-за свободного вечера (а их будет так мало летом – дрова, картошка, всякие общественные сенокосы, уборочные, народные стройки!), сколько из-за желания сказать тебе что-то от всего сердца хорошее. И опять не вышло.
Крепко тебя целую. Будь здоров!
Твоя Аля.
Пастернак – Эфрон
14 июня 1952
Дорогая Аля!
Я еще по поводу предыдущего твоего письма хотел повторить тебе, какая у тебя замечательная и близкая мне наблюдательность. У меня в продолжении романа, только что написанном и которого ты не знаешь, есть о том же самом, что у тебя в прошлом письме: о земле, выходящей из-под снега в том виде, в каком она ушла зимой под снег, и о весенней желтизне жизни, начинающейся с осенней желтизны смерти и т. д.
Я очень хорошо поработал для себя в апреле и мае и читал нескольким друзьям большой новый кусок прозы, еще не переписанной. Это было большое счастье, и было совсем недавно, неделю с чем-то тому назад.
Я здоров, я живу незаслуженно хорошо, Аля, с блажью, фанабериями (проза, чтение), которые позволяю себе.
Мы завтра переезжаем на дачу, и я тебе пишу эти поспешные строки в обстановке подведенных итогов и валяющихся на полу обрывков веревки и оберточной бумаги.
Мне хорошо, Аля, я стал как-то шутливо-спокоен. Я не остыл в жизни, а готов загореться и горю как-то шире, целым горизонтом, как будто я только часть пожара, вообще только часть того, что думает воздух, время, человеческая природа (в возвышающем отвлечении), я боюсь сглазить, я боюсь это говорить. Меня нечего жалеть, я что-то вроде Хлестакова, я заедаю чужой век, мне выпала даром, неизвестно за что, м<ожет> б<ыть> совсем не мне предназначенная судьба, незаслуженно, неоправданно.
Вот моя открытка тебе, между переводом и огородом. Я летом хочу кончить роман, так, как он был начат, для себя самого.
Tout à toi[493]493
Весь твой (фр.).
[Закрыть] Б.
Эфрон – Пастернаку
1 октября 1952
Дорогой мой Борис! Спасибо тебе за твое чудесное письмо, пришедшее ко мне с первым снегом, выпавшим на Туруханск, еще не очухавшийся от прошлогодней зимы. Оно пришло с юга на север, упрямой птицей, наперекор всем улетающим стаям, всем уплывающим пароходам, всему, всем, покидающим этот край для жизни и тепла. Душу выматывает это время года – вот, пишу тебе, а за окном пароход дает прощальные гудки – у них такой обычай: в свой последний рейс они прощаются с берегами – до следующей весны. И гуси, и лебеди прощаются. А снег падает, и все кругом делается кавказским с чернью, и хочется выть на луну. Из круглосуточного дня мы уже нырнули в такую же круглосуточную ночь – круглая, как сирота, ночь! И, когда переболит и перемелется в сердце лето, солнце, тогда настанет настоящая зима, по-своему даже уютная.
А вообще-то жить было бы еще несравненно труднее, если бы я не чувствовала постоянно, что ты живешь и пишешь. В этом какое-то оправдание моей не-жизни и не-писания, как вышеназванная ночь оправдывается вышеназванным днем. Почему – не додумала, но именно так. Я пишу тебе эту записочку, чтобы успеть отправить ее до того, слава Богу короткого, но все же промежутка времени, когда из-за погоды будет работать только телеграф. Я убийственно устала, и у меня нет секунды на передышку, я, кажется, и во сне тороплюсь. Трудные домашние и утомительные служебные дела и вообще самое всесторонне тяжелое время года. Я скоро напишу тебе, более или менее как следует, ответ на твое письмо, а пока просто коротенькое за него спасибо, радость ты моя! Целую тебя, главное – будь здоров!
Твоя Аля.
Эфрон – Пастернаку
8 декабря 1952
Дорогой мой Борис! Недавно получила открытку от Лили, а вслед за ней телеграмму – о том, что тебе лучше. Слава богу! Я не то, что волновалась и. беспокоилась, п<отому> ч<то> и так почти всегда о ком-то и о чем-то беспокоюсь и волнуюсь, а просто все во мне стало подвластно твоей болезни, я ничего, кроме нее, по-настоящему не понимала и не чувствовала. Одним словом – все время болела вместе с тобой и продолжаю болеть. Правда, после весточек о том, что ты поправляешься, на душе стало легче, но у меня всегда бывало так, что всякую боль и тревогу я переносила труднее и помнила дольше, чем нужно, и с физическим прекращением боли она все равно еще долго жила во мне. Так же и теперь – ты все болишь во мне, хоть я и знаю, что тебе легче.
Не писала тебе все время из-за какого-то внутреннего оцепенения, которое по-настоящему прекратится только тогда, когда я получу от тебя первые после болезни строки. Все время думала о тебе и с тобою, и все свои силы присоединяла к твоим, чтобы скорее побороть болезнь. Это не слова.
А так у меня все по-прежнему. Зима в этом году, кажется, особенно лютая, все время около 40°, несколько дней доходило до 50°, и все время ветры. Мы обе на работе с утра до вечера, придешь, а дома все промерзло и снег выступил на стенах. К счастью, печка у нас хорошая, сразу дает тепло. Еще больше холода донимает темнота, день настолько короткий, что о нем и сказать нечего. С утра и до ночи керосиновые лампы, только в редкие солнечные дни как бы рассветает ненадолго. Очень устают глаза, да и вообще все устает от холода и темноты, от их неизбежности и однообразия. Однообразно здесь все, редки просветы нового или чего-то, по-новому увиденного. Поэтому всегда – здесь – особенно радуют праздники, это по-настоящему «красные» дни, в лозунгах и знаменах, дни, с красной строки вписанные в белым-белые страницы зимы. Я живу так далеко от всего, что перестала ощущать и понимать расстояния, объемы, размеры. Стоишь на высоком берегу, и только и чувствуешь, что спиной упираешься в полюс, лицом – в Москву, головой – в небо. Вес близко, просто и ведомо, и аравийские восходы над ледяной пустыней, и звездные дожди, и… и… И… Кстати об «и», я прочла «За правое дело», все, кроме окончания. Не могли не понравиться отдельные места, и не могла не разочаровать вся книга в целом. Рассыпчатая она, без стержня, без хребта, без героя – записная книжка, а не книга. Гроссман, конечно, талантлив и бесспорно наблюдателен, но меня всегда раздражает такая форма повествования (вот у Эренбурга, например, да и у многих, начиная, кажется, с Дос-Пассоса) – будто бы автор сценарий пишет, заранее представляя себе, как все это будет выглядеть на экране. А некоторые вещи как-то (с моей точки зрения) бестактны – как, например, одна подруга прикалывает другой брошку, там, в бомбоубежище, чувствуя, что больше они не встретятся. Накинь одна пожилая женщина другой платок на плечи, вот уже и правдоподобно, а брошечку могла восемнадцатилетняя восемнадцатилетней же приколоть – тем брошка и ценность и память даже при бомбардировке. И кроме того, мне кажется, не характерно для интеллигенции подчеркивать прощальность встречи. Пусть ты знаешь, что навсегда, а другому, близкому, ни за что не покажешь, чтобы он не знал, не почувствовал, чтобы ему легче было. И много-много такого как-то огорчило меня в этой книге-хронике. Вернее всего – придираюсь, смотрю со своей колокольни, я бы, мол, не так сделала, я бы по-другому написала… А отдельные места хороши, хороша разговорная речь, природа.
Крепко, крепко целую тебя, поправляйся, мой родной. Представляю себе, как измучила тебя болезнь и неподвижность! Будь здоров!
Твоя Аля.
Пастернак – Эфрон
12 января 1953
Аля, Алечка! Ты и твои слова все время были со мной. Я – дома, скоро с Зиной поеду в санаторий. Все время чувствую сердце, теряюсь, до каких границ распространять осторожность, всякое ли сжатие, укол и прочее принимать за предупредительный сигнал, но тогда можно с ума сойти. Двухмесячной лежкой належал себе снова затрудненную подвижность шеи (отложение солей). Но это все пустяки! О, как по-маминому, по-нашему было в больнице первые ночи, пока было опасно, на пороге смерти! Как огромно и торжественно было около Бога! Как я ликовал, как благодарил его. как молился. Господи, – шептал я, – сейчас это только слова благодарности, если же ты унесешь меня, весь я с головы до ног, со всей моею жизнью стану благодарственным тебе приношением и смешаюсь с другими такими дарами тебе и растворюсь в вековечном отзвуке твоего дела.
Милый друг, без конца целую тебя.
Эфрон – Пастернаку
3 октября 1955
Боренька, нашла в маминой записной книжке (м<ожет> б<ыть> это вошло в ее прозу о тебе? не знаю – не перечитывала лет 20).
«Есть два рода поэтов: парнасцы и – хочется сказать – везувцы (-ийцы? Нет, везувцы: рифма: безумцы). Везувий, десятилетия работая, сразу взрывается всем (В! Взрыв – из всех явлений природы – менее всего неожиданность). Насколько такие взрывы нужны? В природе (а искусство не иное) к счастью вопросы не существуют, только ответ. Б. П. взрывается сокровищами».
–
Боренька, а ведь это о твоем романе (хоть запись и 1924 г.!). Как-то ты живешь, мой родной? Целую тебя и люблю.
Твоя Аля.
Ты мне ничего не ответил о романе: переписывается ли, переписан ли, когда и как можно прочесть?
Пастернак – Эфрон
15 окт<ября> 1955
<…> Я, конечно, знаю о разговоре О.[494]494
О. В. Ивинская.
[Закрыть] с тобой. Зачем тебе ездить сюда, это вовсе не способ меня увидеть. Да ты, кажется, и не собираешься. Еще менее желательно, чтобы ты или кто-ниб<удь> из твоих близких, в том числе Д. Н., прочли роман в том получерновом виде, в каком он был в руках Марины Казимировны и какой представляет ее перепечатка. Зачем это тебе? В результате моих и, немного спустя, ее стараний, роман выйдет к концу года в готовом и окончательном виде с первой до последней страницы, в каковом состоянии одним из первых будет дан на прочтение Вашему Мерзляковско-Вахтанговскому объединению.
Прости меня за грубости, содержащиеся в этом письме.
Крепко тебя целую. Елизавете Яковлевне, Зинаиде Митрофановне и Журавлевым[495]495
Д. Н. Журавлев, чтец и актер Вахтанговского театра, его жена и Зинаида Митрофановна – друзья Е. Я. Эфрон, собиравшиеся у нее в квартире в Мерзляковском переулке (Мерзляковско-Вахтанговское объединение).
[Закрыть] сердечный привет.
Твой Б.
Эфрон – Пастернаку
26 октября 1955
Дорогой мой Борис! Прости, что я такая свинья и не отозвалась сразу на твое письмо. Лиля очень заболела, и я все ездила туда и что-то возила, и ездила к Егорову и заказывала лекарства и отвозила их ночью, и для чего-то ночью же и возвращалась в Москву, и т. д. Мне сказали, что ты звонил и что ты должен был быть на Лаврушинском до половины второго (во вторник), я звонила тебе около часу, но тебя уже не было.
Егоров все говорит, чтобы я не беспокоилась, но Лилю-то он не видел, а только меня, и вряд ли по моему состоянию можно определить ее!
Боренька, твой роман мы все будем читать в таком виде, в каком ты захочешь, все это зависит только от твоего желания, мы-то, читатели, давно готовы. И в то время, которое тебе будет удобно, и в любую очередь. Это Оля[496]496
Оля – О. Ивинская.
[Закрыть] меня смутила, сказав, что уже можно взять у М<арины> К<азимировны>.[497]497
М. К. Баранович – знакомая Б. Пастернака, перепечатывавшая роман.
[Закрыть] Ко мне приходила одна очень милая окололитературная девушка, мамина почитательница и подражательница, она, кстати, говорила мне, что у ее знакомых «ребят» (тоже почитателей и подражателей) уже есть экземпляры твоего романа, что они у кого-то достали и перепечатали – не знаю, что это может быть? Возможно, это начало, то, что давно уже «ходило в списках»? Или они в самом деле успели где-то подхватить уже почти готовый вариант?
Нет, я совершенно не стремлюсь тебя видеть «насильно», ни приезжать к тебе, я очень хорошо знаю и понимаю, что в часы работы ты занят, а в часы отдыха – отдыхаешь, и что каждый лишний и нелишний человек тебе вроде кошки через дорогу, я очень люблю тебя и за это, м<ожет> б<ыть> не так бы – именно за это! – любила, если бы не» нала, что я у тебя всегда близко, под рукой – и что ты меня любишь больше, и помнишь больше именно оттого, что между нами всегда пропасти и расстояния километров и обстоятельств, и что иначе и быть не должно. Это уже традиция.
На болшевской даче ужасный холод, я там простудилась и сейчас больная и злая.
Заканчиваю подготовку предполагаемого маминого сборника, это очень трудно, и ты знаешь, почему. С неожиданной горячностью предлагает свою помощь Тарасенков, и просто по-хорошему – Казакевич, а больше никому и дела нет. Тарасенков, тот видно думает, что если выйдет, так, мол, его заслуга, а нет, так он в стороне и ничего плохого не делал. Со мною же он мил потому, что знает о том, что у меня есть много маминого, недостающего в его знаменитой «коллекции». Есть у него даже перепечатанные на машинке какие-то мамины к тебе письма, купленные конечно у Крученых. Подлецы они все, и покупающие, и продающие. У меня в маминых рукописях лежит большая пачка твоих к маме писем, и никогда, скажем, Лиле или Зине, у к<ото>рых все хранилось все эти годы, и в голову не пришло прочесть хоть одно из них. И я никогда в жизни к ним не притронусь, ни к тем, остальным, от других людей, которые она берегла. И после моей смерти еще 50 лет никто их не прочтет. Тебе бы я, конечно, их отдала, но ты же все теряешь и выбрасываешь и вообще ужасный растяпа, ты только подумай, что она, мертвая, сберегла твои письма, а ты, живой, ее писем не уберег и отдал каким-то милым людям. Лучше бы ты их сжег своей рукой! Боже мой – мама вечная моя рана, я за нее обижена и оскорблена на всех и всеми и навсегда. Ты-то на меня не сердись, ты ведь все понимаешь.
Целую тебя и люблю.
Твоя Аля.
Б. Л. Пастернак и В. Т. Шаламов
Переписка началась в 1952 году, когда В. Т. Шаламов освободился из заключения, но жил в маленьком поселке в Якутии около Оймякона. Он работал фельдшером в больнице. Со случайной оказией ему удалось отправить в Москву две тетради своих колымских стихов. Его жена Галина Игнатьевна Гудзь передала эти тетради Пастернаку. В них была вложена записка:
Борис Леонидович.
Примите эти две книжки, которые никогда не будут напечатаны и изданы. Это лишь скромное свидетельство моего бесконечного уважения и любви к поэту, стихами которого я жил в течение двадцати лет.
В. Шаламов
22. III.1952
Адрес мой, если захотите отвечать: Хабаровский край, поселок Дебин. Центральная больница – Шаламов Варлам Тихонович.
Еще лучше написать через мою жену: Москва, 34, Чистый пер., 8, кв. 7. Галина Игнатьевна Гудзь.
Пастернак – Шаламову
9 июля 1952
Дорогой Варлам Тихонович!
В середине июня Ваша жена передала мне две Ваши книжки и записку. Я тогда же по собственному побуждению пообещал ей, что напишу Вам. Это очень трудно сделать. Я склоняюсь перед нешуточностью и суровостью Вашей судьбы и перед свежестью Ваших задатков (острой наблюдательностью, даром музыкальности, восприимчивостью к осязательной, материальной стороне слова), доказательства которых во множестве рассыпаны в Ваших книжках. И я просто не знаю, как мне говорить о Ваших недостатках, потому что это не изъяны Вашей личной природы, а в них виноваты примеры, которым Вы следовали и считали творчески авторитетными, виноваты влияния и, в первую голову, – мое.
И, для того, чтобы Вам стало яснее дальнейшее (а совсем не из поглощенности собой), я скажу несколько слов о себе.
Если бы мне можно было сейчас переиздаться, я бы воспользовался этою возможностью для того, чтобы отобрать очень, очень немногое из своих ранних книг и в попутном предисловии показать несостоятельность остающегося в них и предать его забвению.
Я пришел в литературу со своими запросами живости и яркости, отчасти сказавшимися в первой редакции книги «Поверх барьеров» (1917 г.). Но и она претерпела уже некоторые искажения. Я был на Урале, а издатель, плативший этим дань футуризму, приветствовал опечатки и типографские погрешности как положительный вклад в издание и выпустил книгу, не послав мне корректуры.
Какие-то свежие ноты были в нескольких стихотворениях книги «Сестра моя жизнь». Но уже «Темы и вариации» были компромиссом, шагом против творческой совести, такой книги не существует. Ее не было в замыслах, в намерении. Ее составили отходы из «Сестры моей жизни», отброшенный брак, не вошедший в названную книгу при ее составлении.
Дальше дело пошло еще хуже. Наступили двадцатые годы с их фальшью для многих и перерождением живых душевных самобытностей в механические навыки и схемы, период для Маяковского еще более убийственный и обезличивающий, чем для меня, неблагополучный и для Есенина, период, в течение которого, например, Андрею Белому могло казаться, что он останется художником и спасет свое искусство, если будет писать противное тому, что он думает, сохранив особенности своей техники, а Леонов считал, что можно быть последователем Достоевского, ограничиваясь внешней цветистостью якобы от него пошедшего слога. Именно в те годы сложилась та чудовищная «советская» поэзия, эклектически украшательская, отчасти пошедшая от конструктивизма, по сравнению с которой пришедшие ей на смену Твардовский, Исаковский и Сурков, настоящие все же поэты, кажутся мне богами. В разбор всей этой, и моей собственной, ерунды я вхожу только потому, что потом буду говорить о Ваших тетрадках.
Из своего я признаю только лучшее из раннего (Февраль. Достать чернил и плакать… Был утренник, сводило челюсти) и самое позднее, начиная со стихотворений «На ранних поездах». Мне кажется, моей настоящей стихией были именно такие характеристики действительности или природы, гармонически развитые из какой-нибудь счастливо наблюденной и точно названной частности, как в поэзии Иннокентия Анненского и у Льва Толстого, и очень горько, что очень рано, при столкновении с литературным нигилизмом Маяковского, а потом с общественным нигилизмом революции, я стал стыдиться этой прирожденной своей тяги к мягкости и благозвучию и исковеркал столько хорошего, что, может быть, могло бы вылиться гораздо значительнее и лучше.
Но, повторяю, только Вы сами и мое уважение к Вам заставляют меня касаться материй, не заслуживающих упоминания, потому что, даже обладая даром Блока или Гете и кого бы то ни было, нельзя останавливаться на писании стихов (как нельзя не прийти к выводу, сделав ведущие к нему посылки), но от всех этих бесчисленных неудач и недомолвок, прощенных близкими и поддержанных дурным примером, надо рвануться вперед и шагнуть к какому-то миру, который служит объединяющею мыслью всем этим мелким попыткам; надо что-то сделать в жизни; надо написать повесть о жизни, заключающую какую-то новость о ней, действительную, как открытие и завоевание; надо построить дом, которому все эти плохо написанные стихи могли бы послужить плохо притесанными оконными рамами; надо после этих стихов, как после неисчислимо многих шагов пешком, оказаться на совсем другом конце жизни, чем до них.
Не думайте, что я сужу и осуждаю себя и Вас и столь многих в этом роде с официальных нынешних позиций. Не утешайтесь неправотою времени. Его нравственная неправота не делает еще Вас правым, его бесчеловечности недостаточно, чтобы, не соглашаясь с ним, тем уже и быть человеком. Но его расправа с эстетическими прихотями распущенного поколения благодетельна, даже если она случайна и является следствием нескольких, в отдельности ложно направленных толчков.
Видите, какого труда и потери времени Вы мне стоите. А Вы будете огорчаться, обижаться и чего доброго еще строго критиковать это длинное и проклятое письмо на такие кропотливые и невылазные темы, которое я пишу начисто и которого не буду переписывать.
Итак, что я хочу всего настоятельнее и прежде всего сказать Вам? Пусть все написанное послужит Вам ступенью к дальнейшему совершенствованью. Я говорю о Вашем внутреннем совершенствовании, о совершенствовании главной Вашей, наиболее Вашей мысли в жизни, о совершенствовании какого-то Вам ведомого (это Ваш секрет) излюбленного поворота воображения или сосредоточения сил, почти предопределенного и в котором Вы читаете свое предназначение. Но не о совершенствовании стихописания (избави боже), потому что никакие стихи, и написанные гораздо лучше, не самоцель и, сами по себе, яйца выеденного не стоят, – это Вы сами знаете, это знает проявленная Вами даровитость.
В заключение все же немного о Ваших стихах. Я, по-моему, уже достаточно расправился с самим собою и не буду осложнять разбора Ваших грехов постоянным сравнением со своими.
1) Удивительно, как я мог участвовать в общем разврате неполной, неточной, ассонирующей рифмы. Сейчас таким образом рифмованные стихи не кажутся мне стихами. Лишь в случае гениального по силе и ослепительного по сжатости содержания я, может быть, не заметил бы этой вихляющей, не держащейся на ногах и творчески порочной формы.
2) Ваша сильная сторона – «Волшебный мир всеобщих соответствий», строчки и строфы с образно хорошо воплощенными черточками природы и жизни: Перчаток скрюченный комок. – И безголовое пальто, Со стула руки опустив. – Гребенка прыгает в углу, Катаясь лодкой на полу. – В колючих листьях огуречных. – Тяжелый лебедь шлепается в лужу. – Хотели б ветки сбросить тяжесть, Какая им не по плечам. – И запах пригоревшей каши напоминает шоколад. – Огонь перелетает птицей, Как ветром сорванный орел. – Мне не забыть рябых озер, – Пузатых парусов. – Гравюру мороза в окне. – Ползет, как кошка по карнизу, – Изодранная в кровь заря. – В подсвечниках сирень… Волнистым льдом, оплывшим стеарином Беспомощного горного ключа. – Но разглядев мою подругу, Переглянулись зеркала.
3) Ваша слабая сторона, отрицательное начало, подтачивающее все Ваши удачи, все счастливые Ваши подступы и живые вступления к теме, это Ваши частые, почти постоянные переходы от фигур и метафор, основанных на действительно существующих ощущениях, к игре разнозначительными оттенками слова, к голой словесности, к откровенному каламбуру. Неужели и в этом виноват только я? Неужели Вы не замечаете разрушительного, обесценивающего действия того элемента, подрывающего, подтачивающего все Ваши добрые достижения тем вернее, что почти всегда Вы начинаете Ваши длинные, зачастую растянутые стихи с обрисовки действительно виденного или пережитого, а когда этот неподдельный запас истощится (тут бы и кончить стихотворение), приписываете к нему многословное и натянутое каламбурное дополнение, производящее впечатление рассудочной неподлинности. Или, м<ожет> б<ыть>, я чего-то не понимаю! Я ведь и «романтическую иронию» не очень-то жалую. Сейчас я приведу Вам примеры определенно отрицательные, чтобы Вы поняли мою мысль. Но иногда, когда эта игра не так оголенно упирается в общеупотребительные выражения и поговорки, т<о> е<сть> когда она не сведена так явно и сознательно только к речевому острословию, а сверх фразы заключает в себе и что-то иное, эта фигура не только приемлема, но бывает часто и хороша, чему тоже будут примеры, а) Вот эти (на мой взгляд) срывы (после хороших, часто, строф и страниц) – Бродил в изодранных лаптях, Ты лыко ставил мне в строку. – Толок речную воду в ступке, В уступах каменных толок. – И зайцы в том краю Не смели б показаться, Куда-нибудь на юг, Гнала бы их как зайцев. – Он фунта лиха знает цену И за ценой не постоит. – Снег чувствует себя Как ветеран войны на чтенье Воспоминаний для ребят. – И он нас здесь интересует Как прошлогодний снег. – Вся белая от страха, Нитка чуть жива. – А в строчке: «Река поэзии впадает в детство» налет этого приема топит и обесценивает живую и ценную мысль. в) Вот примеры, где по видимости такой же прием, но наполненный истинным содержанием или вовлеченный в поток настоящего поэтического движения и им разогнанный, производит совсем иное впечатление. Хорошо, удачно, допустимо: – Земля поставлена на карту // И перестала быть землей. – Мы живы не только хлебом // И утром на холодке // Кусочек живого неба // Размачиваем в реке (очень хорошо). – Рукой отломим слезы, // Такой уж тут мороз. – И кровь не бьет и кровь не льет – // До свадьбы заживет. – И надоевшее таежное творенье // Небрежно снегом закидав (хорошо), Ушел варить лимонное варенье.
4) Жалко, что эта умственная напряженность мешает Вам ввериться задаткам лирической цельности, которая Вам свойственна и прорывается отдельными строфами: Им гоже, может статься, Хотелось бы годок Не знать радиостанций И авиадорог. Где юности твоей условья, Восторженные города, Что пьют подряд твое здоровье, Всегда, всегда. – И в снежной синей пене Тонули бы подряд Олени и тюлени, Долины и моря. – Я писал о чем попало, Но свою имел я цель. В стекла била, завывала И куражилась метель.
Но этой легкости и стройности надо подчинять не отдельные четверостишия, а целые стихотворения.
Из них мне понравились многие: «Мне грустно тебе называть имена», «В нем едет Катя Трубецкая», «У облака высокопарный вид», «Поездка» (только нехорошо, где … ты взглядом узких карих глаз Показываешь вверх, то есть нехорош этот надуманный зенит и нехорошо то, что он ее оставляет), «Гусеница», «Приманка», «Платье короля», «Свадьба колдуна» (отчасти), начало «Кареты прошлого», в «Космическом»: все об Уране, «Ты верно снова замужем», «Сестре Маше», «Вечерний холодок». Но почти ни одно из них, несмотря на серьезность содержания стихотворения «Сестре Маше» и тонкость и вдохновенность многих других, не понравилось мне целиком, безоговорочно.
Итак, чтобы подвести итог этим разговорам о стихах, вот мое общее по ним заключение, мое мнение. Вы слишком много чувствуете и понимаете от природы и пережили слишком чувствительные удары, чтобы можно было замкнуться в одни суждения о Ваших данных, о Вашей одаренности. С другой стороны, слишком немолодо и немилостиво наше время, чтобы можно было прилагать к сделанному только эти облегченные мерила.
Пока Вы не расстанетесь совершенно с ложною неполною рифмовкой, неряшливостью рифмы, ведущей к неряшливости языка и неустойчивости, неопределенности целого, я, в строгом смысле, отказываюсь признать Ваши записи стихами, а пока Вы не научитесь отличать писанное с натуры (все равно с внешней или внутренней) от надуманного, я Ваш поэтический мир, художническую Вашу природу не могу признать поэзией. Все это я говорю «в строгом смысле», но в творчестве никакого смысла, кроме строгого, и не существует. И зачем мне щадить Вас? Вы не бездарны и с жизнью связаны очень тесною связью высокой художественной восприимчивости, явствующей из Ваших строк. Если бы даже двадцать Пастернаков, Маяковских и Цветаевых творили беззакония, расшатывая свои собственные устои и расковывая враждебные им силы дилетантизма, все равно, эта Ваша связь с жизнью, а не их пример, давно должны были подсказать Вам, что Вы себя и Ваши опыты должны подчинить дисциплине более даже суровой, чем школа жизни, такая строгая в наши дни.
Но довольно о стихах. Я бы о них не писал, и я не писал бы Вам, если бы мне не верилось, что атмосфера в будущем, м<ожет> б<ыть> уже недалеком, смягчится, что наваждение безвыходности развеется и снято будет с общего склада современных судеб, что у Вас будет простор и выбор, когда Вам понадобится более вольный и менее стесненный взгляд. И вот с этой целью, чтобы отвести Ваш взор, слишком прикованный к стихам (все равно своим и чужим), прикованный слишком колдовски, мелко и слепо, я и написал Вам это все. Будьте здоровы. Не сердитесь на меня. Я верю в Ваше будущее.
Ваш Б. Пастернак
P. S. Для проверки своего мнения я показал Ваши книжки и свое письмо жене, женщине из военной среды, человеку здравому, уравновешенному и скорее старого закала, не склонному к вольностям новаторства, левизне и декадентщине. Она бегло, поверхностно просмотрела несколько стихотворений и, прочтя письмо, сказала: «По-моему, очень талантливо, и ты отозвался слишком строго, пристрастно и субъективно. Я знаю твои взгляды, но нельзя их навязывать другим». Так что, может быть, я несправедлив.
Б. П.
И я упустил сделать главное, поблагодарить Вас за присланные книжки и за доброе Ваше отношение ко мне, незаслуженное.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































