Текст книги "Переписка Бориса Пастернака"
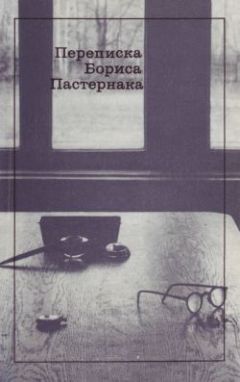
Автор книги: Борис Пастернак
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 47 страниц)
Пастернак – Фрейденберг
Москва, 7 августа 1949
Дорогая Олюшка, родная моя!
Как благодарить мне тебя за твое письмо! Я только не понял, когда в действительности умерла бедная тетя? Она всегда, правда (как я пишу Владимиру Ивановичу), стояла перед моими глазами молодою, красивою, в кормиличном кокошнике, как ее написал папа больше пятидесяти лет тому назад.[191]191
Неоконченный портрет Клары с маленьким Борей на руках работы Л. О. Пастернака был сделан в 1890 г.
[Закрыть] Он ведь не раз ее писал, не раз писал с нее видоизмененных героинь в первых своих жанровых картинах с сюжетом, поры передвижничества. И такою всю жизнь она оставалась, высокой, стройной, доверчиво-порывистой, сильной. Я очень надеялся ее еще когда-нибудь повидать и много радости обещал себе от этой встречи.
Потом я не понял твоих слов о твоем, будто бы, хамстве, что ты рукопись передала без записки благодарности (по-видимому, особе, изъявившей согласие привезти ее?). Потому что неужели ты могла забыть свое удивительное письмо ко мне после прочтения рукописи и разве не получила моего ответного?
Меня особенно поразило прибытие твоего письма в дни, когда меня с особенною силой стало одолевать желание написать тебе и беспокойство о тебе. Помнится, ты тогда ждала приезда своей невестки? Кто это, Оля, неужто жена бедного Саши? И где она? С тобой ли она теперь?[192]192
M. H. Филоненко выжила в лагере и вышла замуж за своего же охранника. Фрейденберг изо всех сил старалась ей помочь.
[Закрыть]
С моей потребностью выговориться с тобой я благоразумно борюсь, потому что эта мысль неисполнима. У меня была одна новая большая привязанность, но так как моя жизнь с Зиной настоящая, мне рано или поздно надо было первою пожертвовать, и, странное дело, пока все было полно терзаний, раздвоения, укорами больной совести и даже ужасами, я легко сносил, и даже мне казалось счастьем все то, что теперь, когда я целиком всею своею совестью безвыходно со своими, наводит на меня безутешное уныние: мое одиночество и хождение по острию ножа в литературе, конечная бесцельность моих писательских усилий, странная двойственность моей судьбы «здесь» и «там» и пр. и пр.
Тогда я писал первую книгу романа и переводил Фауста среди помех и препятствий, с отсутствующей головой, в вечной смене трагедий с самым беззаботным ликованием, и все мне было трын-трава и казалось, что все мне удается.
Сейчас мне пришлось запереться дома отчасти и вследствие истощившихся средств. Вышедшие теперь переводы «Генриха IV-го» и «Короля Лира» и два тома всех Шекспировских переводов в «Искусстве» давно прожиты вперед за последние три-четыре года. Месяца через два-три мне придется напроситься на какой-нибудь заказ вроде перевода второй части Фауста (я не люблю ее) ради рентабельности работы, а пока спешно я принялся за вторую книгу романа. Я хочу его дописать для самого себя, т<о> е<сть> и в этой части мне на темы жизни и времени хочется высказаться до конца и в ясности, так, как дано мне, и все глупее и противоречивее представляется задача, и все посредственнее и бездарнее мои силы, работа, моя позиция и положение.
Мне показывали Оксфордскую университетскую Антологию русской поэзии с русским текстом и Бауровскую переводную (второй выпуск) и Бауровскую книгу об Аполлинере, Маяковском, мне, Элиоте и испанце Лорка.[193]193
Heritage of Symbolism.
[Закрыть] В тамошних собраниях по периодам (я даже тебе стыжусь и не знаю, как это сказать) больше всего места отведено Пушкину, Блоку и мне. Из примечаний и предисловий явствует, что отдельные мои сборники в переводах (и в отдельности речь только о них), очевидно, выдержали испытание рублем, если новое издательство выпускает их в другом, новом переводе. При этом разговор не о «лучшем» или «первом» советском поэте или о чем-нибудь подобном, а без всяких эпитетов о Борисе Пастернаке, как будто это что-то значит, как когда, например, у нас просто издавали Верлена или Верхарна.
Лет пять тому назад, когда такие факты не опорочивались (даже субъективно для самого себя) совершенно новым их преломлением, эти сведения могли служить удовлетворением. Сейчас их действие (я опять говорю о себе самом) совершенно обратное. Они подчеркивают мне позор моего здешнего провала (и официального, и, очевидно, в самом обществе). Чего я, в последнем счете, значит, стою, если препятствие крови и происхождения осталось непреодоленным (единственное, что надо было преодолеть) и может что-то значить, хотя бы в оттенке, и какое я действительно притязательное ничтожество, если кончаю узкой негласной популярностью среди интеллигентов-евреев, из самых загнанных и несчастных? О, ведь если так, то тогда лучше ничего не надо, и какой я могу быть и какой обо мне может быть разговор, когда с такой легкостью и полнотой от меня отворачивается небо?
Однажды, во время войны, кажется, еще тетя Ася жива была, я тебе тоже жаловался в припадке отчаяния, и ты меня утешала. Я бы не позволил себе так «обнажаться» перед тобой, если бы наперед молчаливо не исключил твоих возражений. Но это письмо все безобразно по своему ничем не ограниченному эгоцентризму. Два слова в слабое его оправдание. 1) В искусстве надо быть победителем, а так как это мой вынужденный, неутомимый и неизбежный труд и заработок, мне надо простить, что я отравлен производственным эгоизмом этой области. 2) Говоря на сердечные темы, я писал о себе, а не о другом человеке не по случайной слепоте, а оттого что я в этой теме несвободен и даже тем немногим, в чем проговорился, наверное, нарушил долг молчания перед Зиною.
P. S. Я что-то вдруг не уверен в Лиговском адресе Владимира Ивановича. Будь добра, вложи в конверт и пошли ему эту записку городским.
Далее, если случится тебе что-нибудь мне ответить, не касайся, естественно, романической стороны письма.
Я очень люблю тебя, Оля. Мне что-то печально. Жизнь уже не принадлежит мне, а какая-то сказавшаяся, уже оформившаяся роль. Ее надо достойно доиграть до конца. Роман, с Божьей помощью, если буду жив, я допишу. Все доработаю. И надо, чтобы хорошо жилось близким. Все у меня, слава богу, здоровы. Опять на даче привольно, красиво и чудно, несмотря на дожди. Женя с Женичкой в Коктебеле, Стасик, Зинин сын – хороший пианист, и наверное поедет на конкурс имени Шопена в Варшаву. Крепко целую тебя.
Прости за бездушное письмо.
Стала я работать над Сафо. Как я ее ни грызла, как ни брала штурмом догадок, ничто не помогало. Я очень долго над ней работала без всяких результатов. Я не верила обывательски понятой Сафо. Это противоречило всем законам.
В песнях Сафо имеется мужская роль, выраженная в типично матриархальных формах, что помешало исследователям-модернизаторам распознать ее. Точно датировке песни Сафо не поддаются. Но можно сказать одно: Сафо подобно Гомеру принадлежит народному творчеству. Непосредственный фактор слома жанров – слом общественного сознания. Изменившийся социальный план, где главную роль играют не боги и внешняя природа, а человек и общество, создает лирику. Сафическая лирика стоит на меже образного и понятийного мышления. Мифическая картина мира вытеснена реалистической, социальной.
Из разновидности темы и персонажа возникает «автор» песни. Сафо выступает то в косвенной роли третьего лица, то (реже) в прямой роли первого. Она еще и объект и субъект темы. Подобно своему персонажу, Сафо фигурирует среди богов и тематически сливается с теми богинями, которые носят мифические имена.
Фрейденберг – Пастернаку
<Надпись на оттиске «Сафо». «Доклады и сообщения», вып. 1. Филологический ин-т ЛГУ, 1949>
Боре, дорогому брату
Оля.
27. XI. 1949
Фрейденберг – Пастернаку
Ленинград, 27.XI.1949
Дорогой мой Боря, посылаю тебе осадок вместо вина. Но и то надо бы сделать эпиграф: «Всюду жизнь». Пробилось хоть это. В оригинале ударение стоит на анализе текстов: под женскими образами нахожу мужские. Работа трудная по филологической тонкости, но первая во всей научной литературе. По-видимому, лебединая моя песня. Оскудеваю, каменею. С января собираюсь в отставку, на пенсию (новый закон).
Занималась много отцом. Ко мне приезжали из Москвы от Академии наук. Посылаю им уникальные документы для изученья. Архив отца уже взят тут Музеем Связи. Пристроила я его, неудачника трагического (как вся наша семья). Был крупнейший изобретатель. Вспоминаю, как ты один это почувствовал в молодости, в Петербурге – помнишь?
Роюсь в прошлом, в фотографиях. Тяжко! Пишу биографию отца. Это все трудно, сложно, трагично и величественно. Человек и история! Антиподы! Но есть момент, когда они сливаются. Я уж одурела от мыслей и миганий.
Письма уже не годятся для разговоров. Думала быть в Москве, и должна бы, но руки на ослабевшей резинке; висит голова, болтаются ноги.
Я понимаю тебя, но не спрягай ты себя в одном прошедшем, это грамматическая ошибка. Вздор, что заспанные евреи одни остались (твои ценители). Уж кто-кто, а ты-то хорошо знаешь историю, как она есть летопись не прошедшего, а бессмертного настоящего. Никакие годы не сделают тебя стариком, потому что то, что называется твоим именем, не стареет. Ты будешь прекрасно писать, твое сердце будет живо, и тобой гордятся и будут гордиться не заспанные и не евреи, а великий круг людей в твоей стране. Ты человек не потока, а перебоев. Греки были мудрецы; они учили, что без интервалов не было бы музыки и ритма. Ах, сколько хотелось бы тебе сказать! Но – обнимаю и крепко целую.
Твоя Оля.
Я сидела в глубокой депрессии. Думала о своей жизни. Ушли близкие. Ушла вера и совесть. Пришла зрелость. Отпало творчество. И вот миновало последнее, что было, – работа. Съежившись в отцовских дряхло-семейных креслах, я вдруг начинаю осязательно ощущать свой долг перед отцом. Надо написать о нем, ввести в историю техники. Ведь я – последняя. На мне оборван ряд.
Где-то, помнится, лежал ненужный и тяжелый сверток патентов на его изобретенья. Сашка, ожидая ареста, принес свой детский портрет, сберегательную книжку и этот пакет.
С сильным волненьем я нашла этот пыльный пакет, дрожащими руками развертываю его на подоконнике.
Патенты. Я увидела один, два, десять, английских, русских, на автоматический телефон, на буквоотливную машину!.. Есть документ о полетах 1881 года, старые афиши, статья из истории первого драматического театра в Евпатории.
И вдруг – огромная рукопись «Воспоминания изобретателя», самим отцом написанная на машинке.
Я сажусь с утра ее читать, читаю до позднего вечера, не смея прервать священного чтенья ни для еды, ни для роздыха.
Казалось, заговорило само время. Бедный страдалец, одинокий, ни от кого не ждавший спасенья, сам говорил с будущим. Горькая повесть задушенного гения. Беспредельная вера в историю. Провидение. Вера в самозащиту и неколебимая в своей наивности и чистоте сила духа. Надо оке было, чтоб столько лет эта рукопись не рождалась, и чтоб она возникла именно тогда, когда я созрела для ее глубочайшего пониманья; когда темная и ненавидящая человека Россия своекорыстно начала интересоваться всем, чем можно торговать, – в том числе мировыми открытиями, и русским приоритетом.
Я поняла значение «написанного». Написанное – создает. Там, где его нет, – хаос и обрыв.
Отцовские записки казались мне внезапным чудом. И я, единственная из всей семьи, обязана была найти эти рукописи и взять патент на отцовскую жизнь.
Пастернак – Фрейденберг
Москва, 9 декабря 1949
Дорогая Олюшка!
Пишу тебе страшно второпях (вечный припев). Но на этот раз, правда, не жди ничего от письма и не «льсти себя надеждами».
Как всегда очень острая статья, порывисто, немногословно изложенная, как надо.
Больше всего остановила старая твоя мысль о возникновении лирики вместе с образованием социально расчлененного общества, о том, что «душа лирики – реальный план». И распространяться о Сафо я не буду только из торопливости.
Все, что ты пишешь и писала в предыдущем письме о дяде Мише – поразительно, поразительно интересно и ошеломляет со стороны твоей роли и твоего мужества: очень высоко, и мне, например, недоступно, что обезнадеживание и изнеможение, исходящее от прошлого, от переворашивания ушедших вдаль памятников жизни, к которой ты причастна, не затмевает ясности твоего взора, что память даже не отца, а просто победителя, не дожившего до раскрытия своей победы, все время перед тобой, и подымает тебя и настраивает героически; что ты ее не упускаешь из виду. Это поразительно!
Новы были, конечно, и приковали к себе частности, которых я не знал, разнообразие открытий, пророчески-исчерпывающий их, так сказать, состав, угадавший имевшее последовать техническое будущее. И о Томсоне, конечно. Но ты права, я это все чувствовал в нем, и как удивительно, что ты это запомнила.
Теперь о «заспанных…» (неужели я так тогда написал? Странное определение).[194]194
Неправильно прочитанное слово «загнанных» в письме от 7 августа 1949 г.
[Закрыть] Наверное под тем письмом был приступ действительного непритворного отчаяния, может быть продолжавшегося несколько часов.
Но вообще скорее наоборот, я слишком уверен в себе, и то, что я тебя, тебя, чистую, талантливую, умницу мою родную смел натолкнуть на этот тяжелый путь ободряющих возражений, в надежде услышать что-нибудь еще такое приятное и объективное, чего бы я не мог предугадать, – последняя низость, не имеющая имени.
Но в те дни я был вообще свиньей. Меня пробудило от спячки и немного призвало к порядку большое огорчение. Моя знакомая и тезка твоя, о которой я тебе писал, попала в беду и переместилась в пространстве подобно, когда-то, Сашке.[195]195
Арест О. В. Ивинской.
[Закрыть] Я страшно много работаю, причем все сразу, свое и переводное в стихах и прозе, и, лучше сказать, глушу себя работой.
Целую тебя. Твой Б.
Какая жалость, что ты не едешь.
Это главное.
Пастернак – Фрейденберг
Москва, 1 августа 1950
Дорогая Олюша!
О тебе чудно, подробно и приятно рассказывает Ирина: как Вы встретились на улице, как ты к ней приехала на вокзал с пирожками и припасами, об угощенье, о том, как ты одета, о твоей приятельнице, о том, как тебя любят, о твоей популярности в доме. Я точно побывал у тебя и погрузился в облагораживающую атмосферу чистоты, прохлады, душевной высоты и ясности.
Жалко, что ты не собралась с Ириной. Возможность была очень удобная, подходящая и в смысле переезда, и въезда к нам и совместного пребывания у нас. Но этот упущенный случай легко восстановим. Телеграфируй Феде, он в городе, и встретит тебя и водворит к нам.
Собственно, ты, может быть, этой верностью домоседству ничего не потеряла, кроме одного: ты бы каждую минуту видела, какую радость ты мне доставляешь своим присутствием, а сознание этого всегда ведь приятно.
Вот и все. Мне хотелось сказать тебе, что я тебя вижу, и поцеловать тебя. The rest is silence.[196]196
Остальное – молчание (англ.). Последние слова Гамлета.
[Закрыть]
Твой Б.
Дорогая Олюшка!
После Бориного такого письма трудно что-либо сказать. Я могу только повторить то, что писал тебе в последней открытке. А приезд Ирины и ее рассказы о тебе – еще более усиляют желание тебя увидеть здесь.
Крепко тебя целую и надеюсь на твой к нам приезд.
Твой Шура. Переделкино, 1.VIII (уже!).
Пастернак – Фрейденберг
Москва, 11 октября 1951
Оля, где ты и что с тобой, т. е. как твое здоровье? Прошлой зимой ты так жаловалась на кишечник, что напугала меня и сама была в страхе (или наоборот: в полном бесстрашии готова была к самому ужасному). Как теперь? Поправилась ли ты, как мне все время верилось?
Последний год самый процесс писания вызывает у меня сильные боли в левом плече и прилегающих частях спины и шеи. Вот отчего я не писал даже и тебе, ограничиваясь писаньем для заработка, по долгу службы.
Жив ли Владимир Иванович и как Машура, ее муж и семья? Кланяйся им всем и напиши о них и о себе самой. Растолкуй Машуре, что это не слова и не отписка, ты же в таких увереньях не нуждаешься.
Крепко целую тебя.
Твой Боря.
Поклон от всех: от Зины, Лени, Жени (а Женя – он в Черкассах), Шуры, Ирины (Федя на работе в Новороссийске, у него маленькая дочь), Розы (Фединой жены) и т. д. Все здоровы и благополучны.
Фрейденберг – Пастернаку
Ленинград, 17.X.1951
Дорогой Боря!
Я тебе очень благодарна за письмо – и за память, и за незлобивость. В последнее время так много о тебе думала, что ты не мог этого не чувствовать.
Зина наверняка ставила мое молчанье в связь с нашей последней встречей и ее тематикой. Но, вообрази, как раз навыворот, не себя я жалела, а тебя. У меня были огорченья, которыми я не хотела тебя заражать.
Что сказать о своем здоровьи? К весне мне стало так плохо, что пришлось уехать на два месяца под Ленинград, где я затратила огромные деньги, чтоб создать себе санаторные условия. Только что я стала выходить из прострации, как неприятности отыскали меня и вызвали в город, на факультет. Два тяжких месяца спутали во мне грани между леченьем и страданьем.
Сейчас я на пенсии, в отставке. Не откликайся на это лирикой, ни в стихах, ни в прозе.
С Машурой мы весной этого года вдруг подружились. Это очень нас обеих поддерживает. У нее живой ум, прямая и преданная душа, темперамент ее матери, и она всесторонне – культурна. Сейчас у них беда: Павел, ее муж, заболел серьезной сосудистой болезнью.
– Спасибо всем за приветы, а особенно тебе за целительную имажинарность этой ласки. Я храбрюсь, не даю себе падать, работаю, живу, много бываю в театре. С желудком опять не хорошо, да и не с ним одним. Но центр тяжести не в этом.
Сердечно Вас всех обнимаю и я и Машура.
Твоя Оля.
Пастернак – Фрейденберг
Москва, 16 июля 1952
Дорогая Оля!
Как странно, что именно в эти дни пришло твое письмо. Удивительное стечение обстоятельств! Как раз Ливанов[197]197
Ливанов Б. Н. – актер Художественного театра.
[Закрыть] с женою очень уговаривали меня с Зиной поехать с ними в Ленинград на время Мхатовских гастролей, убеждали, посылали за нами художницу театра В. М. Ходасевич, имелась готовность административной части театра на устройство комнаты в гостинице и в предоставленном артистам доме в Териоках и прочая и прочая, а я отказался.
Но то, что Ленинград был некоторое время предметом обсуждения, осталось в воздухе, и на днях Зина и Леня все же поехали в Ленинград с женой и дочерью грузинского писателя Леонидзе. Они уезжали из города в то время, как я безвыездно живу на даче.
Вчера, пятнадцатого, я был в городе и подумал, попадет ли Зина с Леней на «Ромео» в эту поездку (об этом не было речи при отъезде, я их не провожал, а в Переделкине забыл ей об этом напомнить).
Кажется, в пятницу восемнадцатого они вернутся. Может быть, я от них узнаю, что они столкнулись с тобой где-нибудь на улице, или что какая-нибудь другая случайность свела вас вместе. Она, я знаю, и в случае каких-нибудь формальных затруднений в гостинице (вследствие отсутствия командировки) не будет обращаться ни в издательства, ни в Союз писателей, никуда, а выпутываться сама, как сама она предприняла эту поездку на естественных основаниях. Она не взяла, сколько я знаю, с собой ни одного Ленинградского адреса и не собиралась разыскивать даже Ливанову, так нас именно звавшую в Ленинград, которая на нее так же верно обидится, как теперь и ты, если только, по какой-нибудь непредвиденности, вы не встретитесь.
Как молодо и с какой отчетливостью мысли ты рассуждаешь о перемене художественных форм и их назначении, о театре, о кино, как по-философски талантливо и с какой безошибочностью судишь о строении разных творческих явлений и их подобии!
Я разметил несколько таких мест твоего письма, удививших меня близостью к тому, на чем стою и как думаю и я, и превосходством твоей немногословной ясности над моей манерой прикасаться к тем же предметам. Это все очень хорошо, и для того чтобы не превратить письмо в трактат, я воздерживаюсь от ссылок и примечаний по их поводу.
И если ты даже выделила Ливанова, потому что знаешь, что это мой лучший друг, то и в таком случае меня радует, что наше отношение к нему сходится. Его нельзя назвать неудачником, нельзя сказать, что он не понят, недооценен, но широта его мира, разносторонность, образованность и то, что он не замкнулся в рамки характерного актера, позволяет его собратьям коситься на него под многими предлогами: под тем, что он недисциплинирован, что он страдает манией величия, что он недостаточно профессионален и не вполне отгородился от стихии дилетантизма, что он пьяница и буян и пр. и пр.
19<июля 1952 г.>
Вчера приехала Зина. Все, конечно, получилось так, как я предполагал. У них были затруднения с номером, и они с трудом остановились в Октябрьской гостинице. Среди объезда окрестностей они даже были в Териоках и не удосужились узнать адрес Ливановой, ее и не искали.
Еще раз спасибо тебе за яркое письмо, распираемое теснящимся, набегающим содержанием. В конце письма у тебя есть фраза: (ты ею объясняешь отсутствие упоминаний о быте, здоровье и пр.): «Но я давно потеряла тебя и Шуру как братьев» и пр. Если это упрек и написано в тоне сожаления, то это горе очень легко поправимо. В ту самую минуту, как тебе под каким-либо видом потребуются эти братья, ты убедишься, что ты их не теряла.
Если же эти слова сказаны в совсем другом смысле и определяют род существования, протекающий вне начала семейственности, то я очень хорошо знаю этот мир, и в таком случае все тоже в порядке.
Крепко целую тебя.
Твой Б.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































