Текст книги "Переписка Бориса Пастернака"
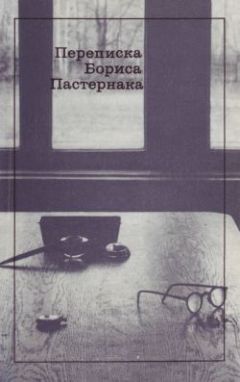
Автор книги: Борис Пастернак
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 47 страниц)
Пастернак – Фрейденберг
Москва 20.V.1947
Дорогая Олюшка! Самое главное, что ты пришла к этому радостному решению, а приезжать – приезжай хоть завтра. Твое утешительное намерение в такой же степени приятно Зине, как и мне, но т<ак> к<ак> она нас перевозит на этой неделе и все время в хлопотах, то она просила меня от ее имени выразить тебе ее радость по этому поводу и благодарность за твои приветы ей. В том же смысле, в каком ты спрашиваешь о времени приезда, для тебя всего лучше будет приехать в июле, когда и Шура с Ириной будут на даче. А о твоих двух-трех днях, т. е. о сроке пребывания, мы поговорим на месте. На всякий случай адрес дачи: Киевский вокзал (метро Киевский вокз.), Киевская жел. дор., станция Переделкино (18-й километр), Городок писателей, дача 3, Пастернака. Если я не успею встретить тебя, пусть это сделает Шура.
Это продолжение открытки. Спишись с Шурой, который до июля будет в городе, чтобы он тебя встретил и отвез к нам. Его адрес: Москва, Гоголевский бульвар, 8, квартира 52, тел. К-4-31-50.
Наш городской адрес ты знаешь, телефон В-1-77-45. Но от нас в город будут наезжать редко и только на несколько часов.
Я из переводческого возраста давно вышел, но т. к. обстоятельства в последнее время складывались неблагополучно, я с отвращением должен был вернуться к нескольким предположениям этого характера, да и тех на первых порах не принимали, отчего я одно предложенье и заменял другим, пока вдруг не приняли все. Таким образом оказалось, что за лето я должен перевести Фауста, Короля Лира и одну поэму Петефи «Рыцарь Януш». Но писать-то я буду в двадцать пятые часы суток свой роман. Но в общем все налаживается. Обыкновенно в июле и Жени (она и он) попадают в Переделкино.
Пастернак – Фрейденберг
<Телеграмма 15.VII.47>
ОТЧЕГО МОЛЧИШЬ НЕ ЕДЕШЬ. ЖДЕМ ЕЖЕДНЕВНО. ИЗВЕСТИ ОТКРЫТКОЙ О ЗДОРОВЬЕ, О ПЛАНАХ, ЦЕЛУЮ. БОРЯ
Пастернак – Фрейденберг
Москва, 8 сентября 1947
Дорогая Оля!
Что ты и как твое здоровье? Я тебе буркнул что-то нелюбезное и черствое на твой отказ приехать. Виной всему этому собачья спешка. Такая работа даже не столько утомляет, сколько портит характер. Разучаешься отдыхать, радоваться, перестаешь понимать, что такое удовольствие. Мне все время чего-то страшно хочется, но я собственно не знаю чего, и потому не знаю, чем себя премировать, хочется ли мне сыру к чаю, или поехать в Москву, или кого-то увидеть, или быть уверенным, что я не увижу никого. Вероятно, это скрытое желание того, чтобы получить назад молодость без запродажи за это своей души.
Жаль, что ты не приехала. Жили Шура с Ириной, Зинин сын с женой, приезжал Женя, гостила Нина Табидзе, много было народа, тебе было бы хорошо и не скучно. Леничка и Зина научили бы тебя азартным играм, в карты, в маджонг.
А я бог знает что выделывал, нечто варварское, непозволительное. Две с половиной тысячи рифмованных строк лирики Петефи (среди них одна поэма в 1500 строк) в месяц с неделей, Короля Лира в полтора месяца. Но когда-то я переводил очень хорошо и ничего не добился. Единственный способ отомстить, это делать теперь то же самое плохо и до недобросовестности быстро. Роман, или, вернее, мир, к которому я повернулся в последнюю зиму, то, что я себе позволяю и (выходит!) могу позволить, это так далеко, так несоизмеримо, что какое мне дело до Лира и до того, плохо или хорошо я переведу его, т. е. насколько плохо. Ах, это теперь решительно все равно.
Мне весной писал Смирнов, по поводу их Ленинградского Шекспира,[183]183
Ленинградский Шекспир – издание Шекспира в Ленинграде.
[Закрыть] и соглашусь ли я что-то переделывать в Ромео и Джульетте. Я ему ответил очень легко и хорошо, чтобы он знал, с кем имеет дело, очень sans façon,[184]184
Напрямик (фр.).
[Закрыть] но с очень добродушным концом, что, дескать, хотя он своим непониманием погубил моего Шекспира, но я по прирожденной глупости неспособен переживать ничего неприятного и его в своей жизни не заметил, как человек избалованный и толстокожий. Беда только, что я письмо отправил простым, а у меня бывали случаи, когда простые письма пропадали.
Я тебе мараю это письмо, дострочив до конца беловик Лира, завтра повезу переписчице в город, это для Детгиза, для школьных библиотек. Зина с Ленечкой уже в городе, у него начались занятия в школе.
Это лето (в смысле работы) – это первые шаги на моем новом пути (это очень трудно, и это первая вещь, которою я бы стал гордиться в жизни): жить и работать в двух планах: часть года (очень спешно) для обеспечения всего года, а другую часть по-настоящему, для себя. И это при большой семье, которую я приучил жить хорошо, при необходимости выколачивать текущею новою и кровною работой от 10 до 15 тысяч ежемесячно. Ты не ахай и не бросай отраженных чувствований в сторону Зины. Она тоже трудится не покладая рук. А одни ее летние огороды чего стоят!
Вот я опять ничего не написал тебе. Сообщи, как твое здоровье. Оправдались ли также и твои трудовые расчеты? Как твоя задуманная работа?
Тут хорошо. Наверное, я тоже скоро перееду. Выкопаем картошку, и перееду. Я еще ведь портить Фауста обязался. Но до этого допишу первую книгу (?) или часть (?) романа. Осталось главу о первой империалистической (1914 г.) войне.
Целую тебя.
Твой Б.
Пастернак – Фрейденберг
Москва, 14 октября 1947
Дорогая Оля! Вчера через Москву проезжала Машура и рассказывала очень тревожные вещи © твоем здоровьи, о том, как утомляются от работы твои глаза. Жива ли ты еще вообще? Отчего ты ни звуком не откликаешься на мои запросы? Не обиделась ли ты на меня, что я так огрызнулся в ответ на твой отказ или на выраженную тобою невозможность приехать к нам и не разорвала ли со мной отношений? У меня все по-прежнему, т<о> е<сть> внешне более или менее хорошо. Летний заработочный период был слишком долгим перерывом в писании романа, и теперь трудно сдвинуть работу с места («Лиха беда начало»), собраться с мыслями и восстановить настроение. Как фамилия Машуры? У меня есть ее адрес, но неловко было спросить ее об этом.
Крепко целую тебя.
Твой Б.
Пастернак – Фрейденберг
Москва, 29 июня 1948
Дорогая Олюшка! Как это горько, что родовые драмы так повторяются! Теперь ты меня наказываешь своим молчанием или даже полным исключением из твоего сердца за мой эгоизм, за то, что мои чувства – «слова, слова, слова», «литература», что если бы все было по-настоящему, я бы свою любовь доказал делами, а не вздохами, изображенными на бумаге.
1-го октября. Олюшка моя, вот начало весеннего моего письма к тебе, прерванного на втором слове из-за сознания его вероятной безрезультатности, к тому же усугубленного вечной спешкой. Тогда я задержался один в городе (Зина жила уже на даче), как сейчас по такой же причине застрял в одиночестве на огромной и холодной даче. Тогда я дописывал первую книгу романа в прозе и в то же время кроил и перекраивал семь переведенных своих Шекспировских драм, поступавших из разных издательств, согласно разноречивым пожеланиям бесчисленных редакторов, сидящих там.
А теперь я с такой же бешеной торопливостью перевожу первую часть Гетевского Фауста, чтобы этой гонкой заработать возможность и право продолжать и, может быть, закончить зимою роман, начинание совершенно бескорыстное и убыточное, потому что он для текущей современной печати не предназначен. И даже больше, я совсем его не пишу, как произведение искусства, хотя это в большем смысле беллетристика, чем то, что я делал раньше. Но я не знаю, осталось ли на свете искусство, и что оно значит еще. Есть люди, которые очень любят меня (их очень немного), и мое сердце перед ними в долгу. Для них я пишу этот роман, пишу как длинное большое свое письмо им, в двух книгах. Я рад, что довел первую до конца. Хочешь, я пришлю тебе экземпляр рукописи недели на две, на месяц? Там только тяжело будет тебе читать (с целью более рельефного и разительного выделения существа христианства) до шаржа доведенные, упрощенные формулировки античности.
Будь милостива, прости меня, если я чем-нибудь виноват перед тобой, и что-нибудь напиши мне о себе или попроси кого-нибудь, может быть, Машуру. Я ее люблю ничуть не меньше тебя, то, что я пишу тебе, а не ей, ничего не значит, как из разнообразных сторон и случайностей моего поведения вообще не следует ничего фактического и разумного. Пусть меня кто-нибудь известит о тебе, жива ли ты, как твое здоровье и не нужно ли тебе денег. Я год за годом тружусь как каторжный и всегда мне всех: Зину, тебя, Леничку, нескольких твоих тезок и не тезок до слез жаль, словно все кругом несчастные и только я один позволяю себе быть счастливым и, значит, у всех перечисленных как бы на шее. И действительно, я до безумия, неизобразимо счастлив открытою, широкою свободой отношений с жизнью, таким мне следовало или таким лучше бы мне было быть в восемнадцать или двадцать лет, но тогда я был скован, тогда я еще не сравнялся в чем-то, главном со всем на свете и не знал так хорошо языка жизни, языка неба, языка земли, как их знаю сейчас.
Все мы живы и здоровы, и Женя с Женечкой, и Шурина семья, все у нас в порядке.
Удостой меня, пожалуйста, хоть строчки-другой от себя (не трать времени, не надо писать много). Я охвачен почему-то страшной тревогой о тебе, и хочу, чтобы кто-нибудь вывел меня из неизвестности (в университете ли ты?), и наперед боюсь этого.
Твой Боря.
И кланяйся тете Кларе, Владимиру Ивановичу, Машуре и всем близким.
Фрейденберг – Пастернаку
Ленинград, 9.X.1948
Дорогой Боря!
Ты увидишь Машуру до этого письма: возвращаясь снова из Кисловодска, она позвонит тебе. От нее ты, наверно, узнаешь о моем житье-бытье, хотя то, что она знает, относится только к окаменелым, тектоническим частям моей жизни.
В истекшем феврале, сразу после отъезда Феди, я тяжело заболела горловой болезнью, приведшей меня к так называемому хрониосепсису. Весь второй семестр я совсем не работала. В начале мая я встречала свежую, сияющую весну в Териоках. Крепкий морской воздух, финская сосна и целительное благоуханье молодых почек вернули меня к жизни.
Моя болезнь совпала с известными событиями на литературоведческом фронте. Пришлось сразу перенести много встрясок.[185]185
Так называемая «борьба с космополитизмом» вылилась в открытые политические проработки университетских ученых.
[Закрыть] Выйдя из них с честью, но и с полным срывом сил, я подала, по болезни, в отставку. Меня не отпустили, хотя логика, казалось, требовала этого.
Летом мне был предписан покой и воздух, но я так была счастлива отдыху, что пришла в себя от одних прогулок по островам.
С начала учебного года я возобновила свое ходатайство. Сейчас я нахожусь в периоде, когда эти дела стоят ребром. Мне созданы возмутительные условия, от которых я освобожусь во что бы то ни стало, ценой уступки кафедры, мной созданной впервые в СССР, 16 лет руководимой мною, – большого дела моей жизни.
Однако, наш новый ректор – невиданное существо, прекрасный человек, отказавшийся дать меня на поруганье. Мои ученики были у него, и он отставки не принимает.[186]186
Ректор Домнин.
[Закрыть]
Сейчас это все уже на глазах отходит в даль. Мысль занята иным: ко мне едет из другой части света моя belle-sœur,[187]187
Жена брата, вернувшаяся из лагеря, M. H. Филоненко.
[Закрыть] и что придется поднять из душевной памяти! Я вижу каждую ночь во сне Сашку и маму; В Москву собирается моя ученица, и тогда она привезет твой роман. Это твое счастье, о как я его знаю! Незабываемое счастье пишущей руки и не поспевающего за ней сердца.
Теперь я стала умна и искусна, – признак старости.
С Лапшовыми[188]188
К. И. Лапшова, сестра Р. И. Пастернак, ее муж.
[Закрыть] мы ближе, чем они с Машуркой или она с ними. Я люблю и ценю этот обломок нашей семьи, я, одинокая. Ты этого, к счастью, понять не можешь. Я восхищаюсь вечной молодостью (тьфу-тьфу-тьфу) Клары и живучестью ее чувств.
Вот я тебе и написала. А все думаю о едущей где-то вдалеке невестке…
Обнимаю тебя.
Твоя Оля.
Пастернак – К. И. и В. И. Лапшовым и О. Фрейденберг
Москва <середина октября 1948>
Дорогие тетя Клара, Оля, Владимир Иванович! Оля, ты так чудно написала о тете Кларе и Владимире Ивановиче, что я вдруг увидел ее, молодую, вне возраста, как она всегда живет в моей душе, и меня потянуло так написать ей, как когда бывает роман с кем-нибудь. И тут утром позвонила Машура. Я посылаю эту рукопись вам всем. Читайте в каком угодно порядке, но, может быть, очередь чтения начнете с Оли, она скорее потом напишет мне. Читайте, если можно, не очень подолгу каждый, может быть, рукопись мне потом понадобится.
Наверное, эта, первая книга написана для и ради второй, которая охватит время от 1917 г. до 1945-го. Останутся живы Дудоров и Гордон. Юра умрет в 1929-м году, и после его смерти в бумагах, которые будет разбирать его сводный брат Евграф, будет найдена тетрадь стихотворений, уже написанная, часть которых тут приложена. Все эти стихотворения, одно за другим подряд, составят одну из глав будущей второй книги.
Сюжетно и по мысли эта вторая книга более готова в моем сознании, чем при своем зарождении была первая, но для того, чтобы существовать (а ведь эта проза не предназначена пока для напечатанья), я должен заниматься переводами и, следовательно, работу над романом мне надо было прервать. Сейчас я спешно, в расчете на то, что справлюсь с этим до Рождества, перевожу Гетевского Фауста (1-ую часть) и одного венгерского классика. Меня так и распирает от разных мыслей и предположений, и хочется работать как никогда.
Мы все-таки, помимо революции, жили еще во время общего распада основных форм сознания, поколеблены были все полезные навыки и понятия, все виды целесообразного умения.
Так поздно приходишь к нужному, только теперь я овладел тем, в чем всю жизнь нуждался, – но что делать, спасибо и на том.
Но, если Вам интересно, я счастлив действительно, не в экзальтации какой-нибудь или в парадоксальном каком-нибудь преломлении, а по-настоящему, потому что внутренне свободен и пока, благодарение Создателю, здоров. Крепко вас всех целую и очень люблю.
Ваш Боря.
Жалко, что я такое пугало, если бы я был так красив, как тетя, я только бы снимался, но так как мы давно не видались, то вот две-три фотографии для осведомления.
Фрейденберг – Пастернаку
31. Х.48
Дорогой Боря! Не прими моего молчания за хамство. Я знаю, какой драгоценный подарок ты мне прислал. Но он попал, естественно, к Машуре, от нее к тете Кларе, а я получу не раньше, чем через неделю. Правда, я утопала в делах. Но я немедленно тебе напишу.
Обнимаю тебя за «уже» и за «потом»!
Твоя Оля.
Пастернак – Фрейденберг
Москва, 6 нояб<ря> 1948
Дорогая Оля!
Спасибо за открыточку и еще раньше за письмо. Не делай себе муки из чтения, можешь ничего не писать мне, если тебе будет некогда или трудно, но по прошествии некоторого времени мне надо будет знать, где и у кого рукопись, для возвращения ее или передачи кому-нибудь дальше. Когда у тебя минует надобность в ней, можешь дать ее прочесть, кому захочешь. Я тебя предупредил о невежественных обмолвках в отношении античности (Рима). Что сказали Лапшовы и Машура? Помнит ли еще меня кто-нибудь? Кто эта твоя belle-sœur, – Сашкина жена? Приехала ли она? Перевожу первую часть Гетевского Фауста, это для денег, – заказ.
Выходит, представь себе, и это естественно, пот<ому> что подготовлено всем предшествующим: многое из сильнейшего у Лермонтова, Тютчева и Блока пошло именно отсюда. Меня удивляет, как могла Брюсова и Фета (в их переводах Фауста) миновать эта преемственность, Фауст по-русски может удаваться невольно, импульсивно.
Целую тебя.
Твой Б.
Фрейденберг – Пастернаку
Ленинград, 29.XI.1948
Дорогой мой Боря!
Наконец-то я достигла чтения твоего романа. Какое мое суждение о нем? Я в затрудненьи: какое мое суждение о жизни? Это жизнь – в самом широком и великом значеньи. Твоя книга выше сужденья. К ней применимо то, что ты говоришь об истории, как о второй вселенной. То, что дышит из нее – огромно. Ее особенность какая-то особая (тавтология нечаянная), и она не в жанре и не в сюжетоведении, тем менее в характерах. Мне недоступно ее определенье, и я хотела бы услышать, что скажут о ней люди. Это особый вариант книги Бытия. Твоя гениальность в ней очень глубока. Меня мороз по коже подирал в ее философских местах, я просто пугалась, что вот-вот откроется конечная тайна, которую носишь внутри себя, всю жизнь хочешь выразить ее, ждешь ее выраженья в искусстве или науке – и боишься этого до смерти, т. к. она должна жить вечной загадкой. Ты не можешь себе представить, что я за читатель: я читаю книгу и тебя, и нашу с тобой кровь, и поэтому мое сужденье не похоже на человеческое, доступное. Этим нужно всем обладать, а не просто читать, как не читают женщину, а обладают ею. Поэтому такое чтение напрокат почти бессмысленно.
Как реализм жанра и языка меня это не интересует. Не это я ценю. В романе есть грандиозность иного сорта, почти непереносимая по масштабам, больше, чем идейная. Но, знаешь, последнее впечатление, когда закрываешь книгу, страшное для меня. Мне представляется, что ты боишься смерти, и что этим все объясняется – твоя страстная бессмертность, которую ты строишь, как кровное свое дело. Я всецело с тобой в этом; но мне горестно, как человеку одной с тобой семьи – одних уж нет, а те далече – и тютчевского «на роковой стою очереди». Это такое чувство, словно при спуске в метро: стоишь на месте, а уж не вверху, а внизу…
Много близкого, родного, совершенно своего, от семейной потребности в большом и главном, до формулировок и разрешений частных проблем. Но я под родным и семейным (так и под боязнью смерти) разумею великое, транспонированное в частное (а не конкретные малости). Но не говори глупостей, что все до этого было пустяком, что только теперь…
Ты – един, и весь твой путь лежит тут, вроде картины с перспективной далью дороги, которую видишь всю вглубь. Стихи, тобой приложенные, едины с прозой и с твоей всегдашней поэзией. И очень хороши.
Но все, что я пишу, не то, что я воспринимаю. Следовало бы ответить не письмом, а долгим поцелуем. Как я понимаю тебя в твоем главном!
За карточку спасибо, хотя мне досталась не очень удачная, с челюстью и выгнутой шеей.
Работы у меня – ужасть! Да, как быть с книгой? Жду оказии, почтой боюсь. Скоро представится случай передать из рук в руки. С благодарностью обнимаю тебя.
Твоя Оля.
Пастернак – Фрейденберг
Москва, 30 ноября 1948
Дорогая моя Олюшка!
Как поразительно ты мне написала!
Твое письмо в тысячу раз лучше и больше моей рукописи. Так это дошло до тебя?! Это не страх смерти, а сознание безрезультатности наилучших намерений и достижений, и наилучших ручательств, и вытекающее из этого стремление избегать наивности и идти по правильной дороге, с тем, чтобы если уже чему-нибудь пропадать, то чтоб погибало безошибочное, чтобы оно гибло не по вине твоей ошибки. Не ломай себе головы над этими словами. Если они непонятны, то это только к лучшему.
Ты часто говоришь о крови, о семье. Представь себе, это было только авансценой в виденном, только местом наибольшего сосредоточенья всей драмы, в основном очень однородной. Главное мое потрясенье, – папа, его блеск, его фантастическое владенье формой, его глаз, как почти ни у кого из современников, легкость его мастерства, его способность играючи охватывать по несколько работ в день и несоответственная малость его признания, потом вдруг повторилось (потрясение) в судьбе Цветаевой, необычайно талантливой, смелой, образованной, прошедшей все перипетии нашей «эпики», близкой мне и дорогой, и приехавшей из очень большого далека затем, чтобы в начале войны повеситься в совершенной неизвестности в глухом захолустье.
Часто жизнь рядом со мной бывала революционизирующе, возмущающе – мрачна и несправедлива, это делало меня чем-то вроде мстителя за нее или защитником ее чести, воинствующе усердным и проницательным, и приносило мне имя и делало меня счастливым, хотя, в сущности говоря, я только страдал за них, расплачивался за них.
Так умер Рильке через несколько месяцев после того, как я списался с ним, так потерял я своих грузинских друзей,[189]189
Пастернак обменялся письмами с Р.-М. Рильке в апреле – мае 1926 г. Рильке скончался 29 декабря 1926 г. Паоло Яшвили и Тициан Табидзе погибли в 1937 г.
[Закрыть] и что-то в этом роде – ты, наше возвращение из Меррекюля летом 1911 года[190]190
В действительности – летом 1910-го.
[Закрыть] (Вруда, Пудость, Тикопись), и что-то в твоей жизни, стоящее мне вечною уликой.
И перед всеми я виноват. Но что же мне делать? Так вот, роман – часть этого моего долга, доказательство, что хоть я старался.
Прости, что я наспех навалял тебе столько глупостей, только в этой приблизительности и реальных. Из-за них собственно надо было бы начать новое письмо, разорвавши это, но когда я его напишу?
Поразительна близость твоего понимания, мгновенного, вырастающего совсем рядом, уверенно распоряжающегося; так понимала только та же Марина Цветаева и редко, со свойственными ему нарушениями действительности и смысла, – Маяковский, – удивительно даже, что я его назвал.
Можешь дать рукопись посмотреть, кому захочешь. Когда у тебя минует надобность в ней, пришлешь именно так, как предлагаешь.
Спасибо, что, несмотря на степень своей занятости, ты прочла ее. В этих условиях, если бы даже рукопись фосфоресцировала в темноте и обладала тепловым лучеиспусканием, ты была вправе рассматривать ее как вторгшееся лишнее и не хотеть ее существования.
В такой обстановке и таких чувствах я занят сейчас Фаустом.
Всего тебе лучшего. Крепко обнимаю и целую тебя. Всегда помню твою поразительную теорию сравнения, это из таких именно вещей.
Будь здорова.
Твой Б.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































