Текст книги "Переписка Бориса Пастернака"
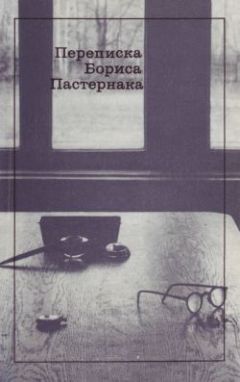
Автор книги: Борис Пастернак
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 47 страниц)
Пастернак – Цветаевой
14. VI. 1922. Москва.
Дорогая Марина Ивановна!
Сейчас я с дрожью в голосе стал читать брату Ваше – «Знаю, умру на заре, на которой из двух» – и был, как чужим, перебит волною подкатывавшего рыдания, наконец прорвавшегося, и когда я перевел свои попытки с этого стихотворения на «Я расскажу тебе про великий обман», я был так же точно Вами отброшен, и когда я перенес их на «Версты, и версты и версты и черствый хлеб», – случилось то же самое.
Вы – не ребенок, дорогой, золотой, несравненный мой поэт, и, надеюсь, понимаете, что это в наши дни означает, при обилии поэтов и поэтесс не только тех, о которых ведомо лишь профсоюзу, при обилии не имажинистов только, но при обилии даже неопороченных дарований, подобных Маяковскому, Ахматовой.
Простите, простите, простите!
Как могло случится, что, плетясь вместе с Вами следом за гробом Татьяны Федоровны,[211]211
Скрябина (Шлёцер) Т. Ф. – жена Скрябина.
[Закрыть] я не знал, с кем рядом иду?
Как могло случиться, что, слушав и слышав Вас неоднократно, я оплошал и разминулся с Вашей верстовой Суинберниадой (и если Вы даже его не знаете, моего кумира, – он дошел до Вас через побочные влиянья, и ему вольно в Вас, родная Марина Ивановна, как когда-то Байрону было вольно в Лермонтове, как – России вольно в Рильке).
Как странно и глупо кроится жизнь! Месяц назад я мог достать Вас со ста шагов, и существовали уже «Версты», и была на свете та книжная лавка в уровень с панелью, без порога, куда сдала меня ленивая волна теплого плоившегося асфальта! И мне не стыдно признаться в этой своей приверженности самым скверным порокам обывательства: книги не покупаешь потому, что ее можно купить!!!
Итак – простите, простите! <…>
Цветаева – Пастернаку
Берлин, 29 нов<ого> июня 1922 г.
Дорогой Борис Леонидович!
Пишу Вам среди трезвого белого дня, переборов соблазн ночного часа и первого разбега.
Я дала Вашему письму остыть в себе, погрестись в щебне двух дней – что уцелеет?
И вот, из-под щебня:
Первое, что я почувствовала – пробегом взгляда: спор. Кто-то спорит, кто-то сердится, кто-то призывает к ответу: кому-то не заплатила. – Сердце сжалось от безнадежности, от ненужности. – (Я тогда не прочла еще ни одного слова).
Читаю (все еще не понимая – кто) и первое, что сквозь незнакомый разгон руки доходит: отброшен. (И – мое: несносное: Ну да, кто-то недоволен, возмущен! О Господи! Чем я виновата, что он прочел мои стихи!) – Только к концу второй страницы, при имени Татьяны Федоровны Скрябиной – как удар: Пастернак!
Теперь слушайте:
Когда-то (в 1918 г., весной) мы с Вами сидели рядом за ужином у Цетлинов. Вы сказали: «Я хочу написать большой роман: с любовью, с героиней – как Бальзак». И я подумала: «Как хорошо. Как точно. Как вне самолюбия. – Поэт».
Потом я Вас пригласила: «Буду рада, если» – Вы не пришли, потому что ничего нового в жизни не хочется.
–
Зимой 1919 г. встреча на Моховой. Вы несли продавать Соловьева – «потому что в доме совсем нет хлеба». – А сколько у Вас выходит хлеба в день?» – «5 фунтов». – «А у меня 3». – «Пишете?» – «Да (или нет, не важно)».
– «Прощайте», – «Прощайте».
(Книги. – Хлеб. – Человек.)
–
Зимой 1920 г., перед отъездом Эренбурга, в Союзе Писателей читаю «Царь-Девицу» со всей робостью: 1. рваных валенок, 2. русской своей речи, 3. явно – большой рукописи. Недоуменный вопрос на круговую: «Господа, фабула ясна?» и ободряющее хоровое: «Совсем нет. Доходят отдельные строчки».
Потом – уже ухожу – Ваш оклик: «М<арина> И<вановна>!» – «Ах, Вы здесь? Как я рада!» – «Фабула ясна, дело в том, что Вы даете ее разъединенно, отдельными взрывами, в прерванности».
И мое молчаливое: Зорок. – Поэт.
–
Осень 1921 г. Моя трущоба в Борисоглебском переулке. Вы в дверях. Письмо от И<льи> Г<ригорьевича>. Перебарывая первую жадность, заглушая радость ропотом слов (письмо так и лежит нераспечатанным) – расспросы: «Как живете? Пишете ли? Что – сейчас – Москва?» и Ваше – как глухо! – «Река… Паром… Берега ли ко мне, я ли к берегу… А может быть и берегов нет… А может быть и» —
И я, мысленно: Косноязычие большого. – Темноты.
–
11-го (по-старому) апреля 1922 г. – Похороны Т. Ф. Скрябиной. Я была с ней в дружбе два года подряд, – ее единственным женским другом за жизнь. Дружба суровая: вся на деле и беседе, мужская, вне нежности земных примет.
И вот провожаю ее большие глаза в землю.
Иду с Коганом, потом еще с каким-то, и вдруг – рука на рукав – как лапа: Вы. – Я об этом тогда писала Эренбургу. Говорили о нем, я просила Вас писать ему, говорила о его безмерной любви к Вам, Вы принимали недоуменно, даже с тяжестью: «Совсем не понимаю за что… Как трудно…» (Мне было бол!но за PÏ. Г., и этого я ему не писала.) – «Я прочла Ваши стихи про голод…» – «Не говорите. Это позор. Я совсем другого хотел. Но знаете – бывает так: над головой сонмами, а посмотришь: белая бумага. Проплыло. Не коснулось стола. А это я написал в последнюю минуту: пристают, звонят, номер не выйдет…»
Потом рассказывали об Ахматовой. Я спросила об основной ее земной примете. И Вы, вглядываясь: – Чистота внимания. Она напоминает мне сестру. Потом Вы меня хвалили («хотя этого говорить в лицо не нужно») за то, что я эти годы все-таки писала, – ах, главное я и забыла! – «Знаете, кому очень понравилась Ваша книга? – Маяковскому».
Это была большая радость: дар всей чужести, побежденные пространства (времена?).
Я – правда – просияла внутри.
–
И гроб: белый, без венков. И – уже вблизи – успокаивающая арка Девичьего монастыря: благость.
И Вы… «Я не с ними, это ошибка, знаете: отдаете стихи в какие-то сборники…»
Теперь самое главное: стоим у могилы. Руки на рукаве уже нет. Чувствую – как всегда в первую секундочку после расставания – плечом, что Вы рядом, отступив на шаг.
Задумываюсь о Т<атьяне> Ф<едоровне>. – Ее последний земной воздух. И – толчком: чувство прерванности, не додумываю, ибо занята Т. Ф. – допроводить ее.
И, когда оглядываюсь, Вас уже нет: исчезновенье.
Это мое последнее видение Вас. Ровно через месяц – день в день – я уехала. Хотела зайти, чтобы обрадовать Э<ренбур>га живым рассказом о Вас, но чувство, что: чужой дом – наверно не застану и т. д.
Мне даже и стыдно было потом перед Эренбургом за такое слабое рвение по дружбе.
–
Вот, дорогой Борис Леонидович, моя «история с Вами» – тоже в прерванности.
Стихи Ваши я знаю мало: раз слышала Вас с эстрады, Вы тогда сплошь забывали, книги Вашей не видела.
То, что мне говорил Эренбург – ударяло сразу, захлестывало: дребезгом, щебетом, всем сразу: как Жизнь.
Бег по кругу, но круг – мир (вселенная!) и Вы – в самом начале, и никогда не кончите, ибо смертны.
Все только намечено – остриями! – и не дав опомниться – дальше. Поэзия умыслов, – согласны?
Это я говорю по тем пяти-шести стихотворениям, которые знаю.
Скоро выйдет моя книга «Ремесло», – стихи за последние полтора года. Пришлю вам с радостью. А пока посылаю две крохотные книжечки, вышедшие здесь без меня – просто чтобы окупить дорогу: «Стихи к Блоку» и «Разлука».
Я в Берлине надолго, хотела ехать в Прагу, но там очень трудна внешняя жизнь.
Здесь ни с кем не дружу, кроме Эренбургов, Белого и моего издателя Геликона.
Напишите, как дела с отъездом: по-настоящему (во внешнем ли мире: виз, анкет, миллиардов) – едете. Здесь очень хорошо жить, не город (тог или иной) – безымянность – просторы! Можно совсем без людей. Немножко как на том свете.
Жму Вашу руку. – Жду Вашей книги и Вас.
М. Ц.
Мой адрес: Berlin – Wilmersdorf, Frautenaustrasse 9, «Frautenau-Haus».
Пастернак – Цветаевой
12 ноября 1922. Берлин.
<…> Я знаю – Вы с не меньшей страстью, чем я, любите – скажем для короткости – поэзию. Вот что я под этим разумею.
Я больше всего на свете (и, может быть, это – единственная моя любовь) – люблю правду жизни в том ее виде, какой она на одно мгновенье естественно принимает у самого жерла художественных форм, чтобы в следующее же в них исчезнуть. Телодвижение это жизни не навязано со стороны. Бирманский лес по собственной своей охоте лезет в эту топку. Не надо обманываться: вероятно, мы односторонни. Весьма возможно, что жизнь разбредается по сторонам и что поток образует дельту.
Нам, с доскональной болью знающим одно из ее колен, позволительно представить себе устье именно в этом ее изгибе. И на любом ее верховье, ничего не знающем о море, можно, закрыв глаза, при крайней сверхчеловеческой внимательности к тону ее тока и пластике ее плеска, представить себе, что с ней когда-нибудь будет, и, следовательно, какова ее сущность и сейчас. <…>
Я был очень огорчен и обескуражен, не застав Вас в Берлине. Расставаясь с Маяковским, Асеевым, Кузминым и некоторыми другими, я в той же линии и в том же духе рассчитывал на встречу с Вами и с Белым.
Однако разочарование на Ваш счет – истинное еще счастье против разочарования Белым. Здесь все перессорились, найдя в пересечении произвольно полемических и театрально приподнятых копий фикцию, заменяющую отсутствующий предмет. Казалось бы, надо уважать друг друга всем членам этой артели, довольствуясь взаимным недовольством, – без которого фикции бы не было. Последовательности этой я не встретил даже в Белом. <…>
В начале января 1923 года в Берлине, в издательстве «Геликон» вышла четвертая книга стихов Пастернака «Темы и вариации». Пастернак, выполняя просьбу Цветаевой, послал ее в Прагу.
«Несравненному поэту Марине Цветаевой, „донецкой, горючей и адской“ (стр. 76) от поклонника ее дара, отважившегося издать эти высевки и опилки, и теперь кающегося.
Б. Пастернак
29. I.23
Берлин».
В надписи на книге Пастернак включал Цветаеву в число настоящих поэтов, которым он посвятил свое стихотворение, написанное два года тому назад. Указанная в скобках страница относит к нему:
Нас мало, нас может быть трое
Донецких, горючих и адских
Под серой бегущей корою
Дождей, облаков и солдатских
Советов, стихов и дискуссий
О транспорте и об искусстве.
В 1921 году, когда писалось это стихотворение, еще до знакомства с «Верстами» Цветаевой, в эти «трое» входили Маяковский, Асеев и Пастернак.
Цветаева – Пастернаку
Мокропсы, 11-го нов<ого> февраля 1923 г.
Дорогой Пастернак,
Это письмо будет о Ваших писаниях, и – если хватит места и охота не пропадет! – немножко и о своих. Ваша книга – ожог. Та ливень, а эта – ожог: мне больно было, и я не дула. (Другие – кольдкремом мажут, картофельной мукой присыпают! – Под-ле-цы!) – Ну, вот, обожглась, обожглась и загорелась, – и сна нет, и дня нет. Только Вы. Вы один. Я сама – собиратель, сама не от себя, сама всю жизнь от себя (рвусь!) и успокаиваюсь только, когда уж ни одной зги моей – во мне. Милый Пастернак – разрешите перескок: Вы – явление природы. – Сейчас объясню, почему. Проверяю на себе: никогда ничего не беру из вторых рук, а люди – это вторые руки, поэты – третьи. Стало быть, Вы не человек и не поэт, а явление природы. Чистейшие первые руки. Бог по ошибке создал Вас человеком, оттого Вы так и не вжились – ни во что! И – конечно – Ваши стихи не человеческие: ни приметы. Бог задумал Вас дубом, – сделал человеком, и в Вас ударяют все молнии (есть – такие дубы!), а Вы должны жить. (– На дубе не настаиваю: сама сейчас в роли дуба, и сама должна жить, но – мимо!)
Пастернак, чтобы не было ни ошибки, ни лжи: люди – вторые руки, но: народы, некоторые, в очень раннем детстве, дети и поэты – без стихов, это первые руки Вы – поэт без стихов, т<о> е<сть> так любят, так горят и так жгут – только не пишущие, пишущие раз, – восьмистишие за жизнь, не ремесленники (пусть гении) пера.
– Почему каждые Ваши стихи звучат, как последние?
«После этого он больше ничего не писал».
Начинаю догадываться о какой-то Вашей тайне. Тайнах. Первая: Ваша страсть к словам – только доказательство, насколько они для Вас средство. Страсть эта – отчаяние сказа. Звук Вы любите больше слова, и шум (пустой) больше звука, – потому что в нем все. А Вы обречены на слова, и как каторжник изнемогая… Вы хотите невозможного, из области слов выходящего. То, что Вы поэт – промах. (Божий – и божественный!)
Вторая: Вы не созерцатель, а вершитель, – только дел таких нет здесь. Не мыслю Вас: ни воином, ни царем. И оттого, что дел нет – вся бешеная действенность в стихи: ничто на месте не стоит.
А знаете, Пастернак, Вам нужно писать большую вещь. Это будет Ваша вторая жизнь, первая жизнь, единственная жизнь. Вам никого и ничего станет не нужно. Вы ни одного человека не заметите. Вы будете страшно свободны. Ведь Ваше «тяжело» – только оттого, что Вы пытаетесь: вместить в людей, втиснуть в стихи. Разве Вы не понимаете, что это безнадежно, что Вы не протратитесь. (Ваша тайная страсть: протратиться до нитки!) – Слушайте, Пастернак, здраво и трезво: в этом веке Вам дана только одна жизнь, столько-то лет, – хоть восемьдесят, но мало. (Не для накопления, а для протраты.) Вы не израсходуетесь, но Вы задохнетесь. Пена вдохновения превратится в пену бешенства, Вам надо отвод: ежедневный, чуть ли не ежечасный. И очень простой: тетрадь.
Лирические стихи (то, что называют) – отдельные мгновения одного движения: движение в прерывности. Помните, в детстве вертящиеся калейдоскопы? Или у Вас такого не было? Тот же жест, но чуть продвинутый: скажем – рука. Вправо, чуть правей, еще чуть и т. д. Когда вертишь – движется. Лирика – это линия пунктиром, издалека – целая, черная, а вглядись: сплошь прерывности между… точками – безвоздушное пространство: смерть. И Вы от стиха до стиха умираете. (Оттого «последнесть» – каждого стиха!)
В книге (роман ли, поэма, даже статья!) этого нет, там свои законы. Книга пишущего не бросает, люди – судьбы – души, о которых пишешь, хотят жить, хотят дальше жить, с каждым днем пуще, кончать не хотят! (Расставание с героем – всегда разрыв!) А ведь у Вас есть книга прозы, и я ее не знаю. Чье-то детство. Не приснилось же? Но глазами ее не видела. Не Вы ли сами обмолвились в Москве? Вроде Лилит. Кажется, и Геликон говорил.
Не забудьте написать.
Теперь о книге вплотную. Сначала наилюбимейшие цельные стихи.
До страсти: Маргарита. «Облако. Звезды. И сбоку…» «Я их мог позабыть» (сплошь), – и последнее.
Жар (ожог) – от них.
Вы вторую часть книги называете «второразрядной». – Дружочек, в людях я загораюсь, и от шестого сорта, здесь я не судья, но – стихи! «Я их мог позабыть» – ведь это вторая часть!
Я знаю, что можно не любить, ненавидеть книгу – неповинно, как человека. За то, что написано тогда-то, среди тех-то, там-то. За то, что это написано, а не то.~В полной чистоте сердца, не осмеливаясь оспаривать, не могу принять. В этой книге несколько вечных стихов, она на глазах выписывается, как змея выпрастывается из всех семи кож. Может быть, за это Вы ее и не любите. Какую книгу свою Вы считаете первой и – сколько – считаете написали?
–
14-го нов. февраля.
Письмо залежалось. Мне его трудно писать. Все, что я хочу сказать Вам – так непомерно! Возвращаясь к первой его части, верней к тому, уже отделанному (письма мои к Вам – перерывы в том непрерывном письме моем к Вам, коим являются все мои дни после получения книги. Как Вы долго звучите, – пробив!)… Возвращаясь к «единственному поэту за жизнь» и страстнейше поверив: да! Один раз только, когда я встретилась с Т. Чурилиным («Весна после смерти»), у меня было это чувство: ручаюсь за завтра, – сорвалось! Безнадежно! Он замучил своего гения, выщипал ему перья из крыл. (А Вы – бережны?) Ни от кого: ни от Ахматовой, ни от Мандельштама, ни от Белого, ни от Кузмина я не жду иного, чем сам. (Ничего, кроме него.) – Любя, может быть, страстно! – (Завершение, довершение: до, за – предел!) Я же знаю, что Ваш предел – Ваша физическая смерть.
Ваша книга. Большой соблазн написать о ней. И знаете, есть что-то у Вас от Lenau. Вы его когда-нибудь читали?
Dunkle Cypressen!
Die Welt ist gar zu lustig, —
Es wird doch alles vergessen!
–
– Не Ваши? – Особенно вторая строка. – И Вы сами похожи на кипарис.
Но мешаете писать – Вы же. Это прорвалось как плотина – стихи к Вам. И я такие странные вещи в них узнаю. Швыряет, как волна. Вы утомительны в моей жизни, голова устает, сколько раз на дню ложусь, валюсь на кровать, опрокинутая всей этой черепной, междуреберной разноголосицей: строк, чувств, озарений, – да и просто шумов! Прочтете – проверьте. Что-то встало, и расплылось, и кончать не хочет, – а я унять не могу. Разве от человека такое бывает?! Я с человеком в себе, как с псом: надоел – на цепь. С ангелом (аггелами!) играть труднее.
Вы сейчас (в феврале этого года) вошли в мою жизнь после большого моего опустошения: только что кончила большую поэму (надо же как-нибудь назвать!), не поэму, а наваждение, и не я ее кончила, а она меня, – расстались, как разорвались! – и я, освобожденная, уже радовалась: вот буду писать самодержавные стихи и переписывать книгу записей, – исподволь – и все так хорошо пойдет.
И вдруг – Вы: «дикий, скользящий, растущий»… (олень? тростник?) с Вашими вопросами Пушкину, с Вашим чертовым соловьем, с Вашими чертовыми корпусами и конвоирами! —
(И вот уже стих: С аггелами – не игрывала!)
– Смеюсь, это никогда не перейдет в ненависть. Только трудно, трудно и трудно мне будет встретиться с Вами в живых, при моем безукоризненном голосе, столь рыцарски-ревнивом к моему всяческому достоинству.
Пастернак, я в жизни – волей стиха – пропустила большую встречу с Блоком (встретились бы – не умер), сама – 20-ти лет – легкомысленно наколдовала: «И руками не потянусь». И была же секунда, Пастернак, когда я стояла с ним рядом, в толпе, плечо с плечом (семь лет спустя!) глядела на впалый висок, на чуть рыжеватые, такие некрасивые (стриженый, больной) – бедные волосы, на пыльный воротник заношенного пиджака. – Стихи в кармане – руку протянуть – не дрогнула. (Передала через Алю, без адреса, накануне его отъезда.) Ах, я должна Вам все это рассказать, возьмите и мой жизненный (?) опыт: опыт опасных – чуть ли не смертных – игр.
Сумейте, наконец, быть тем, кому это нужно слышать, тем бездонным чаном, ничего не задерживающим (читайте внимательно!!!), чтобы сквозь Вас – как сквозь Бога – ПРОРВОЙ!
Ведь знаете: искоса – все очень просто, мое «в упор» всегда встречало искоса, робкую людскую кось. Когда нужно было слушать – приглядывались, сбивая меня с голосу.
– Устала. – И лист кончается. – Стихи пришлю, только не сейчас.
М. Ц.
Цветаева – Пастернаку
Прага, 8 марта 1923 г.
Дорогой Пастернак.
Со всех сторон слышу, что Вы уезжаете в Россию (сообщают наряду с отъездом Шкапской). Но я это знала давно, – еще до Вашего выезда!
Письмо Ваше получила, Вы добры и заботливы.
Оставьте адрес, чтобы я могла переслать Вам стихи. «Ремесло» пришлю тотчас же, как получу. Уже писала Геликону. Может быть, застанет Вас еще в Берлине.
– Что еще? – Поклонитесь Москве.
Еще раз спасибо за внимание и память, и – от всей души – добрый путь!
М. Ц.
Пастернак – Цветаевой
14. VI.1924
Марина, золотой мой друг, изумительное, сверхъестественно родное предназначенье, утренняя дымящаяся моя душа, Марина. <…>
За что я ненавижу их <письма>. Ах, Марина, они невнимательны к главному. Того, что утомляет, утомительной долготы любованья они не передают. А это – самое поразительное.
Сквозь обиход пропускается ток, словно как сквозь воду. И все поляризуется <…> И когда сжимается сердце, Марина!.. И насколько наша она, эта сжатость, – ведь она насквозь стилистическая!
Это – электричество, как основной стиль вселенной, стиль творенья на минуту проносится перед человеческой душой, готовый ее принять в свою волну <…> ассимилировать, уподобить!
И вот она, заряженная с самого рождения и нейтрализующаяся почти всегда в отрочестве, и только в редких случаях большого дара (таланта) еще сохраняющаяся в зрелости, но и то действующая с перерывами, и часто по инерции, перебиваемая риторическим треском самостоятельных маховых движений (неутомляющих мыслей, порывов, «любящих» писем, вторичных поз) – вот она заряжается вновь, насвежо, и опять мир превращается в поляризованную баню, где на одном конце – питающий приток <…> времен и мест, восходящих и заходящих солнц, воспоминаний и полаганий, – на другом – бесконечно – малая, как оттиск пальца в сердце, когда оно покалывает, щемящая прелесть искры, ушедшей в воду. <…>
Какие удивительные стихи Вы пишете! Как больно, что сейчас Вы больше меня! Вообще – Вы – возмутительно большой поэт. Говоря о щемяще-малой, неуловимой прелести, об искре, о любви – я говорил об этом. Я точно это знаю.
Но в одном слове этого не выразить, выражать при помощи многих – мерзость.
Вот скверное стихотворение 1915 года из «Барьеров»:
Я люблю тебя черной от сажи
Сожиганья пассажей, в золе
Отпылавших андант и адажий
С белым пеплом баллад на челе,
С заскорузлой от музыки коркой
На поденной душе, вдалеке
Неумелой толпы, как шахтерку,
Проводящую день в руднике.
О письмо, письмо, добалтывайся! Сейчас тебя отправят. Но вот еще несколько слов от себя:
– Любить Вас так, как надо, мне не дадут, и всех прежде, конечно, – Вы. О, как я Вас люблю, Марина! Так вольно, так прирожденно, так обогащающе ясно. Так с руки это душе, ничего нет лучше, легче! <…>
Вы видите, как часто я зачеркиваю? Это оттого, что я стараюсь писать с подлинника. О, как меня на подлинник тянет! Как хочется жизни с Вами! И, прежде всего, той ее части, которая называется работой, ростом, вдохновеньем, познаньем. Пора, давно пора за нее. Я черт знает сколько уже ничего не писал, и стихи писать наверное разучился.
Между прочим я Ваши тут читал. «Цветаеву, Цветаеву!» – кричала аудитория, требуя продолжения.
А потом будет лето нашей встречи. Я люблю его за то, что это будет встреча со знающей силой, то есть то, что мне ближе всего, и что я только в музыке встречал, в жизни же не встречал никогда. <…> И вот опять письмо ничего не говорит, А может быть, даже оно Ваши стихи рассказывает своими словами. – Какие они превосходные! <…>
В начале 20-х годов Пастернак бедствовал, не имея средств прокормить семью. К этому же времени трагически сгустилось сознание незначительности всего написанного им после книг «Сестра моя жизнь» и «Темы и варьяции» (1917–1918). Это чувство перерастало в мысль о том, что профессиональное занятие лирической поэзией не оправдано временем. Эпоха войн и революций нуждается в историке или создателе эпоса. Своими сомнениями Пастернак делился с Цветаевой как с. первым читателем и критиком. Летом 1925 года он принялся за поэму «Девятьсот пятый год». В постоянном общении с Цветаевой как с первым читателем и критиком писалось начало поэмы «Лейтенант Шмидт». Пастернаку казалось, что Цветаева может до конца понять те задачи, которые он ставил перед собой, то, как он их решал, и оценить, насколько это ему удалось.
В начале августа 1925 года Цветаева передала Пастернаку слухи о том, что умер их любимый немецкий поэт Райнер Мария Рильке. В ответном письме от 16 августа Пастернак просил ее проверить эти сведения и уточнить обстоятельства. Тогда же он в тоске писал своей сестре Жозефине в Мюнхен, что его томит предчувствие собственной близкой смерти.
Весной 1926 года преодолевая чувство безысходности и душевного кризиса, Пастернак закончил поэму «Девятьсот пятый год». Главными событиями, определившими для него возможность дальнейшей работы и существования, было чтение цветаевской «Поэмы Конца» и полученное из Германии от отца известие, что Рильке жив и прислал ему письмо. В нем Рильке писал, что зимой в Париже он услышал о «ранней славе» Бориса Пастернака и читал его «очень хорошие стихи» в маленькой русской антологии, изданной И. Эренбургом, и по-французски – в журнале «Коммерс».
Письмо отца пришло в тот же день, когда Пастернак прочел «Поэму Конца» Цветаевой и весь был под властью этого впечатления. Это совпадение было одним из сильнейших переживаний его жизни. Он вспоминал о нем в послесловии к «Охранной грамоте», написанном в виде посмертного письма к Рильке:
«Как я помню тот день. Моей жены не было дома. Она ушла до вечера в Высшие художественные мастерские. В передней стоял с утра неприбранный стол, я сидел за ним и задумчиво подбирал жареную картошку со сковородки, и, задерживаясь в паденьи и как бы в чем-то сомневаясь, за окном редкими считанными снежинками нерешительно шел снег. Но заметно удлинившийся день весной в зиме, как вставленный, стоял в блуждающей серо-бахромчатой раме.
В это время позвонили с улицы, я отпер, подали заграничное письмо. Оно было от отца, я углубился в его чтенье.
Утром того дня я прочел в первый раз «Поэму Конца». Мне случайно передали ее в одном из ручных московских списков, не подозревая, как много значит для меня автор и сколько вестей пришло и ушло от нас друг к другу и находится в дороге. Но поэмы, как и позднее полученного «Крысолова», я до того дня еще не знал. Итак, прочитав ее утром, я был еще как в тумане от ее захватывающей драматической силы. Теперь с волненьем читая отцово сообщение о Вашем пятидесятилетьи и о радости, с какой Вы приняли его поздравленье и ответили, я вдруг наткнулся на темную для меня тогда еще приписку, что я каким-то образом известен Вам. Я отодвинулся от стола и встал. Это было вторым потрясением дня. Я отошел к окну и заплакал.
Я не больше удивился бы, если бы мне сказали, что меня читают на небе. Я не только не представлял себе такой возможности за двадцать с лишним лет моего Вам поклоненья, но она наперед была исключена, и теперь нарушала мои представленья о моей жизни и ее ходе. Дуга, концы которой расходились с каждым годом все больше и никогда не должны были сойтись, вдруг сомкнулась на моих глазах в одно мгновенье ока. И когда! В самый неподходящий час самого неподходящего дня!
На дворе собирались нетемные говорливые сумерки конца февраля. В первый раз в жизни мне пришло в голову, что Вы – человек, и я мог бы написать Вам, какую нечеловечески огромную роль Вы сыграли в моем существованьи. До этого такая мысль ни разу не являлась мне. Теперь она вдруг уместилась в моем сознаньи. Я вскоре написал Вам».
В ожидании точного текста письма Рильке Пастернак обрушил на Цветаеву поток восторженных писем.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































