Текст книги "Художник и время"
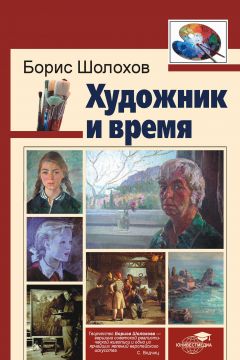
Автор книги: Борис Шолохов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
Дашка
Снова рядом фронт. Мы уже считаем дни, когда будем дома, но судьба распоряжается иначе. В то время, как в одной из хат наскоро дохлебывается борщ, за окнами начинается снегопад. Путь отрезан – снег ложится всерьез и надолго. Мы раздеты. Нужно заработать какую-нибудь одежонку и тогда двигать вперед. Но деревня так бедна, что в ней и хлеб достать трудно.
Прыгая, как журавли, от хаты к хате, останавливаемся на краю деревни у Дашки – вдовы с тремя маленькими девчонками. Почему мы выбрали именно ее? Скорее всего потому, что она нас выбрала. Тоскуя по мужскому обществу, она встретила нас с радостью и обещала в случае нужды спрятать от немцев – а это главное. Она уверяла, что у нее не раз прятались бойцы. Показала наше будущее убежище: ящик вроде сундука без крышки, опрокинутый вверх дном. На ее девчонок, скорее волчат, можно положиться: их бей не бей – не скажут ни слова.
Дашка и сама как волчица: худа, высока ростом, с мужицкой силой и мужицкими ухватками. Поверх тела, лишенного соблазнительных округлостей, грубое драное платье. Сивая – когда-то черная – коса, растрепана. Мужицкие крупные черты удлиненного лица, мужицкий густой голос и сочный забористый мат через каждые несколько слов. Единственное цензурное слово, затесавшееся во всю эту трехэтажщину, – «гребут» – придает своеобразный неповторимый колорит соленой речи.
Соленая речь и ни крошки соли, жидкий пресный свекольник без хлеба – вот и все. Но и скудные запасы свеклы с прибавлением таких ртов, как наши, таят быстро. Зато как тепло на русской печи, где три волчонка давно поделили наши спины. «Чего моево чесучишь?» – пищит самый маленький, когда чужие руки забираются в его владения. Нам не приходится жалеть, что наши спины стали чужой вотчиной – удивительно приятно лежать на теплых кирпичах, горланить песни и чувствовать две пары маленьких ручонок под своей драной рубахой. Даже зуд в пустом желудке умолкает на время.
Дашка держала нас вполне бескорыстно, не задумываясь над тем, что будет со всем ее выводком, когда исчезнет последняя свекла. Не даром ведь она считалась на селе полоумной. Слава богу, свет не без глупых людей.
Иногда мы с хозяйкой затевали бешенную возню. Это давало выход накопившейся энергии. А по ночам отправлялись втроем за дровами в запретную рощу. При лунном свете четко рисовались на снегу три странные фигуры: простоволосой женщины в длинной драной юбке с топором за поясом и двух голоштанных оборванцев с пилой и веревкой.
Ждала ли эта стареющая вдова от нас чего-либо большего, как знать? Чужая душа – потемки. Но и то, что она получала, было для нее счастьем. Может быть, и мученьем? Может быть. Тогда я был слишком глуп, чтобы понять это. А теперь? Не задавай ненужных вопросов, радость моя.
Пока человек жив, у него не бывает безвыходных положений. Когда закончился злополучный свекольник, у меня неожиданно нашлась работа. Каким образом попали мне в руки черная краска, кисть и бумага, точно не помню. Знаю только, что первый же мой опыт в области портрета принес известность и продукты. В деревне слава растет быстро и скоро она распространилась на весь район. Запасы сыпались, а вместе с ними появились у нас хлеб, картошка и даже соль.
Кажется, первым начал работать Колька. Он брался за любое дело и всегда с честью выходил из испытания. У старосты он умудрился даже починить швейную машинку, хотя никогда раньше не имел дела с ее механизмом.
«Все могем, и часы чинить могем, только там с кувалдой не развернешься», – любил приговаривать он. Кажется, после этой починки и нашлись для меня краски и бумага. При расчете нам довелось услышать забавный разговор. Все деревенское начальство было в сборе. Староста и оба полицая рассматривали шикарный немецкий журнал. Один из блюстителей порядка, рябой, краснолицый, раскормленный, восторгался чудной жизнью за границей. Другой, худой, молчаливый, нервный, криво усмехаясь, нехотя буркнул: «У нас тоже красиво все рисовали…»
Хотя Колька мог делать много всякой всячины, заказы к нему вскоре перестали поступать. В деревнях предпочитают все делать сами. Я же, хоть и умел только одно, не знал куда деваться от работы. Каждому хотелось видеть своих пропавших или погибших родственников. На запах славы, как пчелы на распустившийся цветок, летят женщины. Вокруг нашей хаты стали увиваться две молодайки. Та, что приглянулась мне, или, вернее, та, которой я приглянулся, была чернобровая, небольшого роста хохлушка, добродушная, тихая. Муж ее пропал где-то без вести, а она с грудным ребенком, видимо, не желала больше пребывать без хозяина. Ее подружка, некрасивая, высокая и по-видимому с презлющим характером, сразу облюбовала Кольку. Не знаю, сколько бы продолжались наши романтические встречи, если бы жизнь не ускорила развязку.
В нашу хату поселили троих беженцев из разрушенного Воронежа. Старуху, похожую на ведьму, и ее дочь лет двадцати с грудным малюткой. Семья эта еще в пути истратила все запасы, что могла захватить с собой из дома. Бабы, сердобольные деревенские бабы, по-матерински встречавшие бойцов, не желали дать сухой корки городским. Не спешите из обвинять. Сколько лет подряд, тяжким трудом выращивая урожаи, ездили они в город покупать хлеб? Все горожане представлялись им дармоедами.
Беженцы променяли на еду все до последней тряпки и теперь пребывали в самом плачевном состоянии. Старуха сидела в углу, завернувшись в дерюжку из пестрых лоскутов, и что-то ворчала, посылая дочь побираться. Та среди зимы прикрывала кое-как наготу дырявым мешком, сквозь который сверкало розовое грязное тело. Малышка непрерывно просила есть. Даже обувь приходилось занимать у хозяйки, если надо было на улицу. Деревенские смеялись над жалкими побирушками и иногда бросали какую-нибудь подачку, но это было так редко. Ведь воронежские были размещены буквально во всех хатах села.
В нашей семейке прибавилось еще три голодных рта. Колька мрачнел. Дашка ворчала. Я выбивался из сил, так как не мог прокормить один девять душ.
Переселенцы обратились за помощью к местному начальству. Пришел жирный полицай. Скинув тулуп, полез на печь вместе с просительницей в драном мешке. Уходя обещал помочь. Пот крупными сальными каплями стекал с его красного лица и вылезшей из воротника шеи. Добродетель, чистота – сколько вы стоите, если человеку нечего есть!
Колька взбунтовался, он не хотел больше голодать. Как я должен был поступить? Вы знаете. Как поступил? Спрятался за чужую совесть и чужую мораль. Он, не я, перестал отрывать куски он нашей семьи, чтобы дать их чужой. Он, не я, когда не мог вынести детского крика, ушел в другую хату. Он распоряжался, он взял туда и меня, ведь я зарабатывал. Мы увидели свет. Те, которых мы бросили, пережили трудное время, нашли выход, но все равно это меня не оправдывает.
Раньше, тогда, успокаивал себя тем, что был вынужден подчиниться, чтобы не потерять товарища. Теперь мне ясен подлинный смысл этих убаюкиваний. Другие, другие – как мы любим ссылаться на других, на время, на нравы. Уж если ровняться то с той, что не может забыть тридцати копеек!
Конечно, прошлого не вернуть, но ведь столько еще впереди. Гляжу вперед: высоко, высоко, прямо передо мной мерцает звездочка. Самая неуклюжая и самая светлая из всех, что когда-либо манили меня. Она похожа на миллионы своих блестящих сестер, и все же ее невозможно с ними спутать. На душе становится от этого светло, и я говорю кому-то: «Спасибо за неуклюжую. Мне не надо никакой другой».
Вы, надеюсь, поняли, что мы с Колькой женились. По счастью невесты жили недалеко и под одной крышей, так что мы, как прежде, оставались вместе. Свадьбу сыграли у Дашки, последняя была настроена мирно и по-матерински отдавала нас в другой дом. Сварили самогон, выпили, погорланили напоследок песни и разошлись. Но на следующий день, когда хмель у нашей названной матери вышел из головы, а дурь заняла свое место, нас стали спрягать и склонять на все тяжкие: «Партизанты такие разэтакие», и через каждые три слова – любимое «гребут». Начальство осталось глухо: «Баба с бусырью, что ее слушать».
Мы же, хоть и стали на якорь, помнили, что нужно прикрыть свою голь и вновь поднимать паруса. Тем более что бои на фронте с наступлением морозом обострились. Поговаривали, правда тихо, что фронт может качнуться.
Кольке в приданое досталась хитрая теща и сундук добра убитого на войне мужа. Товарищ приоделся, ходил теперь гоголем и, кажется, не роптал на жену. «Ничего, баба с опытом, целоваться взасос умеет». Теща охаживала нового зятька, однако глаз с него не спускала, понимая, что это за птица.
Моя чернобровая красавица жила в той же хате. Втайне она, видимо, торжествовала, что одержала столь легкую победу и заполучила себе такое сокровище: тих, скромен, силен, молод да еще и руки золотые имеет – кормить может. Только торжество это оказалось преждевременным.
Право, бесовское лукавство не хуже святой наивности. Господь Бог был несправедлив к нашим злополучным предкам. Воспитав Адама в святом неведении и положив ему под бок Еву, он решил отдохнуть, считая, что больше от него ничего не требуется. Он воображал себя лучшим из отцов, но каково бы пришлось бедняжке Еве, не окажись поблизости мудрого змея.
Если от нас закрывают чистые колодцы, приходится пить из грязной лужи – ибо не пить нельзя. К двадцати трем годам, скопив изрядный запас энергии, я имел весьма смутное представление о том, как им пользоваться. Поскольку под руками не было лучших источников, изучал теорию по скабрезным армейским анекдотам. Боязнь показаться слабым не давала мне всю ночь покоя. Удовлетворив любопытство и не испытав обещанного в романах блаженства, я тем не менее сохранил спортивный интерес до утра.
При свете дня бледный вид моей бедной жертвы вызвал целый поток глупейших острот, которые мне казались в высшей степени невинными и веселыми. Представляю себе, каково ей было смотреть на мою, сиявшую довольством физиономию!
Чернобровой уточке ничего другого не оставалось, как взять на себя функции змея. Правда, впоследствии у нее вырвалось признанье, что она предпочла бы бегство из Рая, будь на дворе лето. Тем временем шумливая Дашка не сидела сложа руки. Ей удалось куда-то спровадить голодных воронежцев и отпраздновать свадьбу с восьмидесятилетним дедом. Последнего не хотели кормить собственные дети, но он, покидая дом, прихватил с собой корову и ушел в другую деревню. Когда делегация жадных родичей настигла свою жертву и стала требовать возвращения (конечно, их интересовала только корова), было уже поздно. Бракосочетание состоялось. Прошло некоторое время и деда схоронили. Сам ли он поспешил убраться подальше от рассвирепевшего потомства или ему в этом помогла Дашка, неизвестно. Но, как бы оно не произошло, это спасло троих малюток: староста распорядился оставить корову, как законное наследство, и Дашкины птенцы были теперь с молоком.
События между тем развивались быстро. Немцы, предвидя отступление, решили согнать все мужское население района на станцию, погрузить в теплушки и эвакуировать в Германию. Нам нечего было рассчитывать на особую милость и мы знали, чем это пахнет. Собрали «военный совет». Что делать? Колька, правда, теперь был одет, а вот у меня дело было все еще плоховато. Продержаться в морозы где-нибудь в лесу было невозможно. В соседних же селах действовал тот же приказ. Оставался единственный путь – воспользоваться Дашкиным рункдуком. Но как-то нас там встретят? Ведь проклятых партизантов все еще костерили.
Ночью, не говоря ни слова своим молодухам, тихо покидаем хату и выходим из деревни. Сделав большой крюк оврагом идем назад к знакомой избе. Дашка и весь ее выводок встречают нас с распростертыми объятиями. Старые обиды забыты.
Неделю длятся облавы. Всех мужиков погружают и увозят. Тайну нашего исчезновения не могут понять. Обе молодайки и особенно теща искренне огорчены. Еще бы – ведь Колька постарался тепло одеться! Полицаи перерыли в хате все, но поиски оказались тщетными.
Целый день сидим тихо на печи, готовые по малейшей тревоге исчезнуть в ящике. Дед, Царство ему Небесное, не только оставил нам корову, чтобы мы не голодали, но позаботился и обо мне лично, завещав свой тулуп. Ночью мы были смелее, делали вылазки за дровами и даже потихоньку пели.
Но покой длился не долго. Немец и два полицая, вооруженные винтовками, постучали в Дашкину берлогу. На пороге их встретила сама хозяйка, в драном платье поверх голого тела, простоволосая. Трехэтажная брань полилась на головы непрошенных гостей. Босые волчата сидели рядком на сундуке, в котором мы кусали руки, чтобы не прыснуть со смеху. Ведь это именно нас разэдаких партизантов отчитывала разошедшаяся баба. Обороты речи были настолько забористы, что мы, несмотря на опасность, беззвучно тряслись от смеха. Полицаи знали, что у Дашки все основания нас так аттестовать, но русский человек предпочитает во всем удостовериться, поэтому поиски и вопросы: «Где» – продолжались. «Где, где?» – далее следовала сногсшибательная рифма, подкрепленная живой картиной, которую нам, правда, не довелось увидеть, но которую мы представили себе по оглушительному ржанию троих видавших виды мужчин. Удостоверившись, что мы не прячемся под бабьей юбкой, хохоча и отплевываясь, полицаи, а с ними и опешивший немец отправились разыскивать партизан в более цензурных местах. А после их ухода старый ящик дребезжал от нашего, так долго сдерживаемого, хохота.
В любимых глазах должно счастье сиять,
А мне иль не мне – пусть решает.
И право за ним бесполезно стоять
С толпою других попрошаек!
Не можешь зажечь, так проси не проси,
Тебе не увидеть их света.
Нет дружбы без друга, без дела нет сил
И нету любви без ответа.
Путь труден, но вера творит чудеса.
Бей сердцем по сердцу до боли!
Ведь искорки счастья, что высек ты сам,
Чтоб жизнь засверкала довольно.
Кто умеет чинить часы?
В полутемный барак входит боец: «Кто умеет чинить часы?» «Я мастер с первого госчасового завода», – не задумываясь басит Николай. И, лукаво ухмыляясь, шепчет мне: «Все могем, и часы чинить могем, только там с кувалдой не развернешься!»
Товарищ уходит, остаюсь один. Рушатся планы. Медленно тянется время. Выкликивают мою фамилию. Встаю, шагаю на выход. Чтобы это могло быть? Оказывается, мой дружок уже свой человек в действующей роте. Перед ним груда трофейных часов и очередь командиров. Меня он отрекомендовал художником, и вот, пожалуйста, я уже тут как тут.
Никаких проверок – они для простых смертных. А мы? О, мы еще повоюем. «Все могем…» – улыбается Колька. «Что, эти часы? – он трясет перед носом легковерного командира роты изящные часики. – Можно запулить в окошко. Нечего и браться чинить. Разве сами не видите?» И лукаво подмаргивает мне глазом. «А вот эти?» – «Поправлю вам в один момент. Давайте сюда». Командир, облегченно вздохнув, отходит, а новоявленный мастер, показывая мне чуть не выброшенные часы, шепчет: «Настоящие швейцарские и починка пустяк. Хочешь?» – «Зачем?» – «Ну, как знаешь, тогда загоним. А то возьми, а?»
Только что отошедший старший лейтенант москвич и потому покровительствует землякам. Молодой, холеный, с чувственными, чуть вывернутыми наружу губами, он держится ухарски, без конца повторяя: «Аллюра, три креста». Молодость, задор, желание себя показать так и просятся наружу. Благо учбат, в котором теперь и мы, от фронта далеко и удаль нужно демонстрировать, охраняя пленных.
Время от времени несем караульную службу и мы. Нас переодели без стеснения, стянув с пленных сапоги, меховушки, рукавицы. Им все равно в тыл, а если замерзнут, не мы к ним шли в гости.
Завоеватели совсем скисли от голода и мороза. Из носов течет. Обмундирование сидит мешком, штаны сползают. Охрану несут бывшие военнопленные и потому объясняют все только прикладами в спину и выстрелами вверх. Один из бойцов умудряется даже сломать пополам винтовку, ударив ей по спине провинившегося, а может быть, и ни в чем неповинного.
Завоеватели. В пилотках, надвинутых на уши, в ботинках без шнурков, засунув обмороженные руки в рукава шинели или поддерживая ими широкие штаны, стоят они в очереди за супом из конины.
«Я юда, юда, коммунист», – тыча себя в грудь пальцем, кричит маленький юркий чернявый пленный, норовя попасть в очередь второй раз. «Цюрюк», – и приклад напоминает ему, что здесь нет никому дела до идеографий. Когда правители заняты пирогом славы, народ платит по счету.
Ночь. Даже огоньки звезд чуть вздрагивают от холода. Стою на часах у барака и слушаю, как в зловещей полутьме его стонут и завывают сбившиеся в кучу фигуры. Открываю двери, стреляю вверх. Снова тишина. Мерный скрип собственных сапог да неслышный бег времени. И вдруг… нечеловеческий хриплый стон: «Пан карабина… пан карабина!» Из двери выползает на четвереньках подобие человека и знаками просит, чтобы его пристрелили. Зеленое лицо, большие страдальческие глубоко запавшие глаза, хриплый жуткий голос. По спине бегут мурашки. Загоняю это существо назад в барак, закрываю дверь, но оно выползает снова и вновь просит о смерти. И я не хочу, не могу ее дать. Странно, что в океане можно погибнуть от жажды, а среди миллионов смертей задыхаться от невыносимой обязанности жить.
Невыносимая обязанность жить! Но разве знаем мы зачем пришли в мир? Терпение – вот чему нужно завидовать у других. Но не будем судить слишком строго тех, у кого не хватает спокойствия, – им и так достается!
III
Зарисовки разных лет
Милые камни
А светлячка то я так и не нашел перед отъездом. Говорят, что они бывают в июле.
Тот огонек зеленый
До будущего лета
Не будут в чаще сонной
Сиять мне из под веток.
Если бы только до лета. Только? Где Вы были вчера? Этот город создан для влюбленных. Все окутано мягкой, влажной дымкой, все прекрасно. Силуэты стройных зданий и столетние деревья помнят о прошедших здесь, великих и славных. Ведь тут буквально шагаешь по их стопам. Пропитанные серебристо голубой влагой дали на том берегу Невы. Мягкое, плавленое, розовое пятно Петропавловки с золотым шпилем, чуть озарено утренним солнцем. Вода застыла в немом покое.
Все какое-то нынче волшебное
От того, что ты где-то рядом.
Можно ль больше от жизни требовать?
Тосковать так о встрече надо ль?
Сердце встречи может не вынести,
Задохнувшись от волнения.
Может, встретив, захочешь выместить
Ты дурное на мне настроение.
И жалеть меня нечего, стало быть
Сколько б я на судьбу не сетовал.
Только тех, кто не пережил этого
Только их пожалеть не мешало бы!
Каждый раз, когда среди этой сказки мелькнет платье похожее на Ваше, вспыхивает надежда.
Если мелькнет мимо стройная,
Звонко стуча каблучками,
Сердце в ответ неспокойное
Глухо повторит камень.
Как он глупо, это сердце! Оно не устает вечно ждать и вечно обманываться. Не позвонить и не прийти. Что ж, бесполезно сожалеть, лучше поговорим о Пергамском алтаре, я ведь обещал сопровождать Вас в Эрмитаже.
Большинство приходит в музеи отдыхать и любоваться. Они сыты и счастливы. Слишком сыты, чтобы почувствовать, сколько страдания заключено в каждом настоящем произведении искусства. А Вам было когда-нибудь больно при взгляде на эти проникающие друг в друга в краски, сплетающиеся линии, пожирающие друг друга пятна света и тени? Вы обратили внимание на глаза, просящего у Вас милостыню, апостола Павла Эль Греко? Сколько боли и доброты, сколько скрытой мольбы! Если да, Вы поймете, о чем беззвучно стонут камни Пергама.
Я ждал теплый, чуть розовый мрамор антиков, а увидел серый, грубый, неприветливый, похожий на гранит. Как он идет к этим страдающим титанам!
Смотрите, вот Афродита, вся такая мягкая и нежная, наступила ногой на лицо поверженного гиганта, сначала вынув его трепещущее сердце. А он, умирая, не может отвести восторженного взгляда от теплых обнаженных плеч и, разделенных перевязью ножен, трепещущих капель юной груди. Другой, упавший гигант, закрылся рукой и прижался к земле, чтобы не видеть мучительной красоты. Глупец, – умирать от рук богини любви и побояться взглянуть ей в глаза!
Сердце все еще ждет Вас. Оглядываюсь, Вы под руку с каким-то нарядным молодым человеком, идете прямо на меня. Ваши прическа, платье, очки. Ноги тяжелеют, становятся каменными. Медленно иду на встречу, и, вдруг, какая-то легкость во всем теле – не Вы! Но от этого ведь не легче.
Если бы эти камни кричали, было бы легче. В их беззвучном стоне боль растоптанного народа. Какие памятники останутся от нас? Средние века создали химер, бледных святых и уходящих ввысь своды соборов.
Человеческому духу всегда было тесно в этом бескрайном мире, или, может быть, слишком одиноко, слишком просторно, среди миллионов себе подобных. И он звал и стремился и теперь продолжает звать. Только эхо вторит ему.
А все-таки, как это странно. Те, кто вложил частицу своего я в эти корчащиеся глыбы, давно ушли и все же продолжают говорить с нами на родном, понятном языке. Заставляют страдать и восторгаться, думать и мечтать. Они говорят с нами, но им никогда не услышать ответа.
Вот женская голова. Губы тысячелетия открыты для поцелуя, крыло носа чуть трепещет, а грустные глаза смотрят на вас, как бы говоря: «Тот, кого я жду, еще не пришел». Какой волшебник упрятал живую душу в камень? Или в этот мрамор спрятались, наконец, воссоединившись, две души? Художника и его любимой!
Колеса снова стучат на этот раз: «Встречу, встречу, встречу». Ну, конечно же, встречу, там в Москве.
В вагоне сонное царство. Не ожил ли Пергамский алтарь? Смотрите, вот они эти куски божественного, дышащего обнаженного тела. Вот голова юной: пышные волосы разметались по подушке, ресницы прикрыли что-то таинственное, манящее. Голова запрокинута на руку, округлые формы подбородка и шеи волнуют. Вон на второй полке скульптор, смело отдернув покрывало, открыл стройную девичью ногу. А вот поверженный юноша: рот полуоткрыт. Как хороши его грудь, подмышки и плотные, упругие руки.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































