Текст книги "Художник и время"
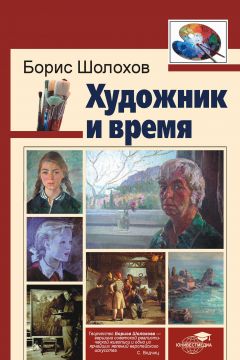
Автор книги: Борис Шолохов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
Первая любовь
Уютный дворик с небольшим садом, в глубине покосившийся дом. Под окнами большой тополь, весь в пуху, словно на него вытряхнули подушки облаков. Комната с низкими притолоками. Как часто потом они напоминают мне об этом! Но тогда, тогда я, кажется, не цеплял даже стол. Этот стол, с новой, пахнущей, чуть липкой клеенкой, был моим любимым убежищем. В три года лучшего нам не нужно! На стульях, под сиденьем, каракули, выведенные от правой руки к левой, – летопись игры в дурачка.
Вечерами собирается молодежь. Поют, играют, читают вслух. Помнится даже, что именно: Пушкин «Руслан и Людмила», то место, где Ратмир попал в царство прелестных дев.
Из под стола мне видна маленькая, полненькая блондинка. Глаза ее искрятся. Я тоже хазарский хан в царстве красавиц, но вижу только одну. Как же она все-таки хороша! Глаза не устают смотреть. Надо мной, откуда-то сверху, льются, сплетаясь, сказочные созвучия, наполняя комнату трепетным светом поэзии.
Но вот злой волшебник-отец вытаскивает меня из убежища. Отбиваюсь, плачу, увы, пора спать. А тут продолжается сказка.
Тридцать пять лет спустя, под Москвой, я случайно встретил землячку. Разговорившись, узнал, что она все еще помнит и любит моего погибшего на фронте дядю. Ни семья, ни годы не могли уничтожить, расцветшего в юности чувства. Девушка, полюбившая так, не могла не быть прекрасной. Трехлетний ребенок увидел эту красоту, а тот, для кого она цвела, видел ли он, понял ли? Впрочем, не все ли равно ему теперь?
Я глядел и глядел, воскрешая милый образ, уходя о чем-то жалел: толи о неповторимом прошлом, толи о том, что никто не вспоминает так обо мне. Но может быть, я тоже этого не заметил?
Если Вы одиноки, если Вам не с кем разделит нахлынувшую тоску, не сидите, сложа руки. Вставайте и отправляйтесь гулять в заросшие сады прошлого. Там на запущенных дорожках встретите Вы любящих и близких; тех, кто давно ждет этой встречи. Идите же к ним. Они заждались Вас.
Детская вера
Из серой перины на голый тополь снова падает пух. Холодный ветер кружит его за окнами, а на только что вытопленной печи тепло и уютно. Русская печь, как хорошо на ней слушать чтение. Бабушка сдвигает со лба на нос очки и по складам, не торопясь, шепчет таинственные малопонятные фразы. Не все запоминается одинаково хорошо. «Войну и мир», например, мне со временем все же приходится перечитывать, но «Трехсотлетие дома Романовых» осваиваю в совершенстве со всеми красочными картинками.
Помните дядю, да, того самого, о котором так нежно вздыхали. Он, приходя с комсомольских собраний, гнал из дома попов и выбрасывал из окон иконы. Я подбирал опальных святых и тихонько приносил назад. Показывал язык, прячась за бабушкину спину, а она грозила супостату устрашающим полотенцем. Однажды на моих глазах, оружие это было пущено в ход под аккомпанемент без конца повторяемых слов: «Ах ты домовой любезный». Юный борец с невежеством так опешил, что проглотил безропотно всех доставшихся на его долю домовых, а я с тех пор уверовал в чудодейственную силу грозного полотенца. Дядя безбожник не оставался в долгу. Он не помогал мне снять рукавичек, чтобы перекреститься на церковь. Дразнил.
Впрочем, он был не одинок в стремлении искоренять веру у темной массы. Следы этой борьбы хранит наш городок и по сей день. На месте большой, красной Сретенской церкви у базарной площади теперь простирается пустырь, а вместо белоснежного Нового собора – торчит несуразный коробок, который не нашел еще своего применения, хотя строится вот уже двадцать пять лет. Казанская стоит настоящей сиротой – покосившаяся и облупившаяся, а исторический Старый собор, где Петр I сделал собственноручно люстру, без колокольни и купола, представляет груду камней. Помню, как привязавши трос к кресту, машинами валяли колокольню. Старики крестились и ждали чуда. Но, проплясав целый день, крест, наконец, рухнул грудой жалких обломков.
Да разве только у нас, по всей стране. Борясь за торжество безверия, разрушили столько памятников культуры и старины, что и не перечесть. Все, как в гимне: «До основанья, а за тем…» Ох, уж это мне затем, красуется бесконечным временным забором в самом центре Москвы на месте Храма Христа. Временный забор, видимо, решил доказать, что у нас умеют строить всерьез и надолго и готовится встречать полувековой юбилей. Взору любопытного, который не удовольствуется лицезрением столь похвальной прочности и поищет щелку, чтобы увидеть содержимое, открывается изумительная панорама болота – картина поистине символическая.
С памятниками, как непрочно они устроились, справляться легче. По-прежнему у уцелевших церквей, толпятся вереницы верующих. Насилие никогда не сослужило хорошей службы идеям, которые стремилось утвердить, скорее наоборот. Но обращать в свою веру присуще нам с детства. Я, подражая в этом священнику, сделал себе кадило из половой щетки и привязал к отдушнику колокольчик. С важным видом, расхаживая по комнатам и повторяя: «Господи помилуй», всерьез собирался стать попом. Дело оставалось за немногим: нужно было найти православных. Этот путь, как и у великих мира сего, оказался довольно тернист. Сначала я обращал в христианство мух. Ловил их и рассаживал по спичечным коробкам. Все радовались, что малыш так усердно занялся общественно полезным делом, но нет добра без худа. Однажды в деревне мать взяла меня в гости к своей скупой тетке. Про таких обычно говорится, что у них «зимой снега не выпросишь». Бывало чудом, если она из своего громадного сада угощала кого-нибудь упавшим яблоком.
В тот день был престольный праздник и на лавке во всю стену, прикрытые полотенцем, отдувались горячие пироги. Взрослые занялись разговорами, оставив меня с пирогами и мухами. Довольно легко удалось обратить в христианство население трех стен. Но самые упорные язычницы перебрались на четвертую за пироги. Никакие ухищрения не помогали. Тогда я решился на крайние меры. Подошел и нажал рукой на один из пирогов, и, о чудо, он снова выпрямился, как ни в чем не бывало. С величайшей осторожностью, едва ступая, прошелся по всей лавке, преследую безбожниц. Кто упрекнет меняв том, что в пылу благочестия, я стал бегать и прыгать, как одержимый пока не очистил от скверны последнюю стену. Торжественно неслось: «Господи помилуй», верующие гудели в коробках свои молитвы, и только на забытой лавке, пироги почему-то не принимали свой прежний вид. Хозяйка, войдя и увидев эту картину, лишилась дара речи. Мама, пытаясь меня выгородить, объясняла всем, что я еще мал и не знал, что скрывается под полотенцами. «Нет, мама, знал» – как всегда невпопад ответил я. Когда к хозяйке вернулось красноречие, она весь этот день и каждый раз до самой смерти, при встрече со мной, могла говорить только о злополучных пирогах, так что они стали притчей во языцах.
Если бы не те, кто волею судеб или своею собственной, поставлены у кормила власти, в стремлении распространять на других свою веру, ограничивались при этом только двумя экспериментами, скольких бы бед избежало человечество! Но, увы, только в детстве мы хорошо запоминаем уроки.
Так вот, я носил маленький серебряный крестик, который моя милая бабушка, сняв с себя, одела на мою шею. Однажды, в порыве самых благородных чувств, я повесил эту фамильную реликвию на нашего кота. Как это раньше не пришло мне в голову! Тут ни какие-нибудь мухи, на тех ничего не оденешь. Придя в дикий восторг, бегу сообщить об успехах бабушке, так как привык делить с ней все свои радости. Но вместо ожидаемых похвал, в ход пускается историческое полотенце и мне приходиться получить изрядное количество «любезных домовых». – Не могу простить такой несправедливости. Забившись в угол, рисую котов с крестами и даже иконами на хвосте.
Может быть, с тех пор у меня появилась неясная мысль, в минуту жизни трудную искать спасения в чудодейственной силе искусства. Ведь пьяницами и художниками становятся отнюдь не от хорошей жизни. Наивную чистую веру унесло без следа.
Если одна несправедливость способна убить веру ребенка, то не будем удивляться безверию людей, – они ли в том виноваты?
Не будем удивляться, но сами все-таки будем верить, что на свете есть и добро и красота и даже любовь, такая, о которой пишется в сказках и мечтается в юности.
II
Армейские годы
Ожидание
А знаете, ведь я нашел Ваш дом. У Ваших одноклассниц, по выпускной фотографии, узнал фамилию и, наконец, в справочном бюро – адрес. Разыскать было трудно, но нашел, видел родных, – теперь известно, сколько осталось дней. Дни бывают разной длины, – это знает каждый, кому приходилось ждать. Как же убить время? Простите меня, если я нагоню на Вас скуку, но, что же мне делать теперь, как не разматывать самые длинные в моей жизни – армейские годы.
Сокровища Эрмитажа, органные концерты, болезненные образы Достоевского, остались по ту сторону вокзала. В солдатских теплушках трехэтажная брань и дым махорки приподнимали низкие потолки. На полустанках орда новобранцев разносила винные палатки, опрокидывала корзины лотошников и все тащила в вагоны. Призывников все рано не будут судить! Сквозь брань еще звучала Седьмая симфония Бетховена и в клубах дыма возникали причудливые фигуры Тинторетто. Но с каждым часом между тем, что покинул и приближающейся казармой, ложилось все больше и больше шпал. Пока крутятся безостановочно колеса, вернемся опять в покинутый город и, отсчитав несколько месяцев назад, встретим этот злополучный год. Впрочем, я оговорился – этот знаменательный год, – ведь именно тогда, неведомо для меня, вспыхнул огонек Вашей жизни!
Стриженные
Солдатская масса со стороны кажется серой и безликой. На ее фоне поблескивают только новенькие погоны командиров. Военная машина ведь за тем и придумана, чтобы всех нас разных и своевольных превратить в роты, взводы, полки – бессловесные, одинаковые, послушные. Да так смотрится солдатская масса со стороны, с тротуара. Но тот, кто сам шагает в этом сером потоке, видит все по-иному. Стараюсь вспомнить своих командиров и не могу. Рисуется диковинное чудовище, у которого птичий, плоский затылок и непроходимая тупость Едгошева. У него маленькая мордочка мартышки, сморщенная, как печеное яблоко, и пискливый, гнусавый голос Дорошенко. «Безобрааазия в канале ствалааа», «Выходи на постраееения» – нудно тянет оно каждое утро. Ремни и висюльки, где только можно, как у Земчикова, который, говорят, не снимает их даже ночью. У него… впрочем, стоит ли описывать дальше это беззлобное животное, которое с утра до ночи заставляет, нет, не себе подобных, а людей умных и сильных, тянуть гусиный шаг, ползать по-пластунски и зазубривать слово в слово военный уставы. Которое в виде самого страшного ругательства кричит: «Что, грамотный стал?!» Которое чувствует свою власть и свое неизмеримое превосходство над вами на том основании, что ему за десять лет собачьей службы прилепили к плечам по одному блестящему кубику и потому еще, что ему – полуграмотному невежде, удается иногда, глядя в устав, находить неточности в вашем ответе.
А вот рота, о! Рота – это совсем другое! Рота – это 250–300 человек, готовых за друг друга в огонь и в воду. Рота – это Степка-балбес или просто ласково – Степус (мы всем дали прозвища, так как по фамилиям нас звали командиры). Высокий и нескладный, с лицом вытянутым медно-красным и чуть вогнутым ото лба к подбородку, он удивительно напоминал удлиненные отражения в медном самоваре. Его любимое выражение – «В харю мать…», как нельзя более кстати дорисовывало портрет. При встрече с ним невозможно не улыбнуться, но улыбка эта не сменяется потом кислым выражением, а так и остается сиять, будто вы и в самом деле попали в общество горячего, доброго, шумящего самовара.
Это Бурик – милый скромный мальчик. Круглые, нежные щечки с легким пушком, задумчивый, поэтический взгляд, еще не видевший изнанки жизни. Нос… Впрочем что ж, нос – действительно, не нарушая общего благородства лица, обращал на себя внимание. В армии не в моде поэтические сравнения и, гоголевский нос там очевидно величали бы паяльником или буруном. Однако в данном случае, было сделано исключение, грубое Бурун превратилось в ласковое Бурик.
Это Расторопин (производное от Торопова), он же Губан. Наш сердцеед и ловелас. О своих многочисленных похождениях он говорит только в таком духе: «А я ее за сесетки, за сисетки, хе, хе, хе, хе…», при этом рот расплывается в широкую улыбку и брызжет слюной, а белая, мягкая щетина, на выступающем подбородке, чуть шевелится, напоминая поросячью. Он маленького роста широкоплеч, с головой Мефистофеля на провинциальных копилках, но и он не подведет и не выдаст товарища.
Это мой милый Гришенька-Водянка. Опухшее лицо, вечно расстегнутый ворот распоясанной гимнастерки. Мягкое, покачивающееся, чуть согнутое тело, с безвольно болтающимися руками, похожими на пустые рукава. «А бля» – говорит он и вся фигура и все движения его, как бы добавляют: «Нате режьте меня, ешьте – мне все равно, я на все махнул рукой». На бледном опухшем лице Гришеньки изюминками вкраплены темные, монгольские глазки, добрые и грустные. Губы напоминают деревенское коромысло, так как их уголки всегда приподняты в виноватой улыбке. «Гришенька, мой хороший, дай я тебя оближу» – обычно встречает мой второй дружок Валька. Он, как и я почти без прозвища. Нас либо звали ласкательно по именам, либо верзилами, так как мы всегда ходили направляющими.
Валька, как и Гришенька, с первого курса Ленинградского университета. Лицо его имеет особенность бесить командиров. Он обычно только молчит и улыбается, но совершенно особым способом: небольшие, апельсиновыми дольками губы, чуть дрогнув самыми краешками, прячут едва уловимую, насмешливую улыбку, а глаза, при этом округляются и не то, что едят, а прямо пожирают начальство. Мне всегда казалось, что глаза эти имеют способность крутиться.
Вот он шагает впереди роты, напевая им же самим сочиненную песенку на мотив: «А убьют, так позабудь – наша жизнь такая». Вид его невозмутим. «На морозе день и ночь, протираем пузо…» Пауза, четкий строевой шаг… и снова: «Никому не отдадим… своего Союза!»
Или про Машу – патриотку, которая по очереди гуляла с солдатом, краснофлотцем, летчиком и т. д. и т. п. Песню, неизменно кончающуюся припевом: «К лету сына родила, командиром назвала…» И снова, и снова, как «У попа была собака». Если Бурика мы называли Лириком, то, конечно, был у нас в роте и Циник, который, как это ему и положено, во всем видел только грязную сторону и сквернословил. Впрочем, последнее у него получалось, как-то особенно пошло и грубо (совсем как у некоторых профессоров желающих показать, что и они видали виды). Что греха таить, – сочный мат, как и новая шляпа, украшает не всякого! Вам нужен портрет, пожалуйста: мелкие черты лица, тонкие губы, носик, как бы созданный для пенсне, глаза чуть на выкате – словом, ни дать ни взять – министр иностранных дел.
Только два человека были у нас с законченным высшим образованием. Оба математики, оба шахматисты, оба евреи. Но на этом их сходство кончалось. Персюк – (от фамилии Персиц) – запевала и заводила. Маленький, большеголовый, лысый (впрочем, все мы стриженные), с острым носом и громадной глоткой, он страшно напоминал граммофон, когда растягивал рот до ушей. Мощный баритон гремел при том, покрывая всю роту, переходя в бас на концах фраз:
Джим под… шкипер с английской шхуны
Плавал двенадцать лееет
Знал проливы, моря, лагуны,
Странный и новый свееет.
Рота дружно вторила ему:
Есть Со…юз, Советская страна
Всем примером служит онааа.
Когда Персюк запевал «Гоп со смыком», казалось, что он поет про себя. Милявский не имел прозвища. Своей стриженой головой он удивительно напоминал пресмыкающихся, пожалуй, больше всего ящерицу. Среди нас, ползающих по земле и несущих караульную службу на аэродроме, был только один сокол, курсант-летчик, отчисленный за безрассудную дерзость – Колька, с простым русским лицом, хорошим голосом и веснушчатым носом. Он запевал самые неподходящие для строя песни: «Ой, вставала я ранешенько, умывалась я белешенько», «Катюшу» – на мотив «Сулико», «Ножик, вилка, два подпилка, серп и молот, молотилка» и еще в этом же роде, впрочем, не всегда столь безобидное.
А теперь пора представиться и самому. Когда шла рота, мерный, чеканный стук сапог заставлял дрожать стекла. Но в этом мощном гуле всегда выделялась сольная партия. Одну пару сапог было всегда слышно, как бы не грохотали по мостовой остальные. Это были мои сапоги. Как я добился этого? Очень просто: на мою лапку не нашлось 44-го размера. Я получил единственный 46-ой и в какие-нибудь два дня освоил технику шлепанья ими в таком совершенстве, как некоторые хлопальщики в театре. Когда все шли с песней, то кроме этого мерного аккомпанемента, из всех голосов, опять-таки выделялся один трубный глас, правда часто невпопад, но ведь в строю все сойдет для шума. Голос тоже принадлежал мне, но, увы, был пригоден только в строю. Вот почему теперь я пою лишь мысленно или под грохот колес, вспоминая дни былой славы. Было еще одно поприще, где я неизменно пожинал лавры. Нет, не бранное поле, а злачное. На родине до сих пор сохранились предания о моем зверском аппетите. Но тут в армии недюжинный талант окреп и получил всеобщее признание. Товарищи, помня об этом, ублажали меня, когда предоставлялась возможность, бачком мяса с кашей на восьмерых. Если к этому добавить красную образину с зелеными бровями, желтыми большими зубами и сверкающими белками, то портрет будет полностью дорисован.
Теперь, когда все представлены, нарисую Вам несколько картинок из нашей жизни.
Огни пожарищ
Звездный дворец заволокли тучи войны. Ты была крошкой, когда злой волшебник огненным ураганом прошел по стонущей земле, пожирая все живое.
Теплушки, теплушки… эшелоны теплушек полились в ненасытную пасть. Безрукие черные деревья, и сиротливые, обгорелые трубы на грудах развалин провожали их. Изрытая земля содрогалась от рыданий в терновом венце колючек, а в двери теплушек широко улыбались или грозно хмурились Гришенька и Степус, Расторопин и Персюк и тысячи тысяч таких, как они – молодых, бесстрашных, не видевших еще жизни. В одной из теплушек мои белки и в улыбке открываются желтые зубы. Пояс затянут в рюмочку. С боку болтается, как меч, штык от СВТ. Хочется, чтобы чьи-то красивые глаза остановились на минуту на мне, и маленькая ручка махнула на прощанье в воздухе. Ведь у меня такой грозный вид. Зеленые брови хмурятся. Берегись, дракон!
Но ты не бойся. Нет, я не подбил десятка вражеских танков, не уничтожил один батальона противника, не прикрыл грудью амбразуру дзота, не сделал ничего такого, о чем не стоило бы рассказывать. Пусть героические описания войны останутся на совести тех, кто их сочиняет. Сознательно, целясь, я не убил ни одного человека и благодарю проведение за это в такой же мере, как и то, что сам уцелел.
Где-то далеко звучат трубы. Музыка вальса ввинчивается в сердце.
Слова прощанья шепчут губы
Тоска до боли давит грудь.
А на ветру рыдают трубы
Рыдают трубы на ветру.
Сколько безвременных кончин оплакали они? Сколько смелых проводили в последний путь? Знаете, что такое походы? Никакая изнурительная работа не может сравниться с ними. В полной выкладке, в тридцатиградусную жару, серая вереница тонет в облаках пыли. Железные каски раскалены, пот щиплет глаза, жажда жжет все внутренности, но пить нельзя. Ноги изъедены потом. И так день и ночь, день и ночь, без конца, а по бокам лишь бездушные хмурые сосны.
Потные лица горели,
Ноги усталые ныли.
Сбоку колючие ели
Таяли в поднятой пыли.
Елки, мохнатые елки,
Нет ни зимы вам, ни лета.
Вечно вы хмуры и колки,
Вечно зеленого цвета.
Влагу песков вы попили,
Чтобы от сырости дрогнуть
И, задыхаясь от пыли,
Душите ленту дороги.
Елки, колючие елки,
Слезы людские попейте.
В сердце вонзите иголки,
Прошлое пылью развейте.
Чтобы сердца не болели,
Чтобы мечты позабыли,
Чтобы и люди, как ели,
Вечно зелеными были.
Кто из нас, прошедших этой страшной дорогой к фронту, не помнит деревенских баб с крынками молока в руках. В жару и дождь, с утра до вечера, льют они в наши котелки и каски спасительное молоко и крестят на прощанье. Серая вереница тянется нескончаемым потоком не одну неделю, жадно пьет и не может выпить до дна эту чашу беспредельной материнской любви.
Вот мы сидим за столом, приканчивая последнего зарезанного барашка. Не оставлять же скотину немцам. Хозяйка, утирая слезы, угощает и гонит от стола своих семерых бледных, худеньких ребятишек. Быть может и ее мужу кто-нибудь не откажет в куске хлеба. Как знать? – Добрые дела всегда вознаграждаются в дешевых романах. Но истинная доброта не рассчитывает на вознаграждение. Добрая память, унесенная с собой в сердце в долгий жизненный путь, вот единственная плата, про которую мы не забываем и на которую не скупимся. В те далекие годы еще верилось, что вернусь в эти места и всех отблагодарю, но постепенно число тех, кому становился должен, все росло. Юношеские мечты, я забыл свои обещания, как только стал сыт.
Что же заставляет теперь меня вспоминать о них? Не потому ли я готов платить старые долги, что снова стою с потянутой рукой и жду подаяния? Не хлеба, о нет! Но, может быть, чего-то гораздо более дорогого? Тогда серая шинель открывала передо мной все сердца. Каким же тряпьем мне теперь прикрыть свою наготу, чтобы завоевать всего одно сердце?
Но довольно отступлений.
Куст орешника, с маленьким шалашом внутри, в двух километрах от врага. Внизу в овражке, осеннее картофельное поле бархатным платьем расстилается у ног. Тёмно-коричневые пятна листвы, прошитые золотом стеблей. Зеленобровый рыцарь Печального Образа и его верный маленький оруженосец заняли тут свой пост и твердо несут караульную службу. Ты начинала лопотать первые слова под надежной защитой.
На тлеющих углях пузатый солдатский котелок мятой картошки. Он по три раза в день опрокидывается в богатырские желудки вместе с солдатским приварком.
Мой Санчо-Горохов, проснувшись (ночи обычно дежурил я один) подходит ко мне со словами: «Давай картохи пекчи». Его розовое конопатое лицо с круглым, шелушащимся носом так напоминает молодой картофель, что невольно появляется аппетит. «Пекчи так пекчи» – говорю я: «Ведь звездами сыт не будешь».
В этих бранных тревогах шли дни. Ложки стучали о край котелка, на облупившемся носу выступали капельки пота. Иногда мины, почуяв дымок или завидев нас среди картофельной ботвы, шлепались поблизости, но видимо они боялись нас больше чем мы их. Нас ведь побаивались даже бесстрашные, оставшиеся несмотря на поголовное бегство в тыл, деревенские цыплята. Они смешно прятали голову в плечи и уносили под крыльцо свои длинные ноги, завидев грозные, серые шинели. Стоит ли удивляться тому, что и мины с воем проносились мимо, чтобы не угодить в грозные пасти.
Ночь. Со стороны неприятеля ползут черные тени. Глухо клацает затвор винтовки, чуть слышнее становятся толчки сердца. Окликаю спящего товарища. В ответ на голос, со стороны приближающихся врагов раздается протяжное блеяние. Стадо баранов, стадо баранов! Перст судьбы, Бог вспомнил о нас. Глупые животные лезут прямо на мины. Меткие выстрелы спасают охраняемое поле и заодно решают мясную проблему.
Утром, с двумя котелками появляюсь у линии фронта, (наш пост километра на полтора впереди). Товарищи разевают рты. Они слышали перестрелку, видели ползущего врага, то бишь баранов, и уже давно похоронили свои огородников. Узнав в чем дело, долго смеются.
Вскоре меня заменили на этом посту и именно этим, а не чем другим, объясняю я, что враг осмелился броситься вперед. Правда он все-таки предпочел обойти нас и не лезть на рожон. Светает. Небо озаряется яркими вспышками взрывов, едва доносится далекий, все нарастающий гул. Сменившись с ночного дежурства, я чувствую в теле ломоту и ложусь болеть. Температура прыгает до сорока, поэтому кружка патентованного лекарства тех же градусов оказывается весьма кстати.
Сквозь дремоту, слышу шум и суету в приближающемся грохоте. Наконец, пробуждение. Мне, как больному, предоставлено место на ящиках с боеприпасами. Отходим к деревне, где стоял штаб батальона. Без приказа на свой страх и риск. На другом конце села перебегают какие-то фигурки. Штаба след простыл, нас просто бросили. В воздухе первым большим комаром зазудела мина. Сухой треск взрыва, ящик с патронами летит с повозки. Соскакиваю его поднять, но лошади не останавливаясь, несутся вперед. К лесу, к лесу! Скорей, скорей!
Повозка с боеприпасами и, увы, присланной мне из дома копченой колбасой, достается врагу. Со мной только товарищи и винтовка. Голова гудит, ноги налиты свинцом, но останавливаться – гибель. Идем и идем. Вот они штабы разбитых дивизий и полков. Запыленные, пытающиеся острить командиры и бесконечная серая масса людей, ползущая как змея.
День и ночь. День и ночь. Привалы только из-за обозов. Лошади стали – значит ложись в кювет. Ноги вверх и ничего не отстегивай от себя. Отстегнул – забыл. Клюнул товарища в спину, тот выругался, обдавая тебя будто ушатом холодной воды, и снова идешь до новой брани. У лошадей четыре ноги, но они устают быстрее двух солдатских.
Дни и ночи. Дни и ночи. Лицо мое стало зеленее бровей, но болезнь прошла на ногах. Дивизий и полков больше нет. Воронежские есть? Есть! Каких районов? И вот с винтовками и без всего, в летнем обмундировании в конце октября, тянутся нескончаемой вереницей группы земляков. С бранью и шутками, песнями под стонущий баян. Бабы, вытирая слезы и прижимая испуганных ребятишек, крестят нас, провожая, а огни горящих деревень освещают путь.
Давно нечего есть, а там, в попавшей в плен посылке, копченая колбаса. Она снится мне, когда закрываю глаза. Ни у нас, ни в деревнях нет хлеба, а по сторонам месяцами горят элеваторы. Уходят дымом годы тяжелого людского труда.
За окнами брезжит рассвет, хлопья белого пара проплывают мимо. Колеса жадно отстукивают: «К тебе, к тебе, к тебе…». Где-то в серой мути вспыхивают огоньки. Сыплются красные искры. Колеса переходят на тихий шепот и, чтобы не мучить себя вопросами, вновь окунаюсь в прошлое.
Грозная осенняя ночь. Горит районный хлебзавод. На наших зеленых лицах красные отсветы огня. Впереди черные, копошащиеся фигурки растаскивают из пламени мешки с мукой. Вот здоровый верзила сидит на горе кулей. Ко мне тянет свои худые руки мать с кучей детей. Впалые глаза слезятся, у нее нет ничего в пустых салазках. Снимать винтовку, заставляю парня слезть с горы чувалов и погрузить своими руками два из них в пустую повозку. Меня крестят и благодарят.
Ведет ли кто счет нашим добрым делам кроме нашей собственной совести? Помогают ли нам в этом крестном пути чьи-то молитвы? О, моя юная, война это вовсе не то, о чем ты читала в книгах. Миллионы людей лишаются всего, чего только можно лишиться: коровы, куска хлеба, здоровья, близких, а тысячи, рядом, тут же, спокойно жуют, смеются, наживаются, рассуждая о патриотизме и кричат: «Бей». Красиво и грозно звучит голос Левитана. Эренбург пишет свои гневные строки, а тут, у колодца, пока я наполняю фляги товарищей, бабы кричат, что деревенские тузы, забрав колхозное добро, удирают в тыл. Правда эти не ушли от расплаты, настигли их за околицей лопаты и вилы, но обычно возмездие не торопится.
Рядом со мной в строю больные грыжей и куриной слепотой. Пожилые отцы семейства и желторотые подростки, не окончившие десятилеток. На месте тех, кто, надрываясь, кричит о всенародной войне, кто в качестве особой чести посылает в коммунистические батальоны слепых, беспартийных стариков.
Мой сосед, деревенский парень не верит, что я с образованием. Он убежден, что воюют только дураки. А умные люди?… Может быть, он прав? Нет, нет. Столько умных, талантливых скрутила безжалостно мясорубка войны. Но те из них, кто добровольно превращал себя в фарш во имя высших идеалов, все-таки ошибались. Они гибли из-за своей глупости.
Мир Вам, милые, преклоняюсь перед вашей светлой памятью. Ибо глупость, иногда, больше достойны преклонения, чем ум. Будем же хоть иногда способны глупить!
Бессмертный Сервантес думал осмеять героические рыцарские романы, которые доводят до безумия нормального человека. А на самом деле, прославил прекрасное безумие и осмеял пошлость здравого смысла. В каждом из нас живет частица этого неисправимого чудака Дон Кихота.
А рыцарские романы? Ах, писатели тоже неисправимы и прошлое доходит до нового поколения в виде красивых сказок. О благословенные годы революций, полные героизма и светлых идеалов, годы цельных характеров, настоящей дружбы и большой любви. Тщетно душа рвется ко всему этому в век практицизма, или и наше время станет для потомков недосягаемой сказкой? По делам или по мечтам нашим будут судить они?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































