Текст книги "Художник и время"
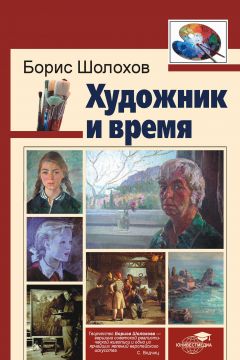
Автор книги: Борис Шолохов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
Красные брызги
Осень мешкала. И словно раскаивалась в совершенных безумствах, изо дня в день становилась спокойнее и яснее. Не видеться было просто немыслимо. ЛЮ позвала в Останкино.
Воскресенье сияло красным в численнике. Красным бросались клены. В красном пришла Золушка. Просторный карминный костюм и невообразимые музейные шлепанцы только подчеркивали хрупкую одухотворенность фигурки.
С портретов, в раззолоченных рамах, на святую простоту взирали с презреньем изысканные князья и чопорные расфранченные дамы. Кусты за балюстрадой горели киноварью, разрисовывая узором песок. А вблизи, заветным и неземным, цвело навстречу принцу лицо. Глаза вспархивали и распахивались бесхитростно, тих:
– Ты чувствуешь, что мы очаровательны и почти что приручены? Ну чего ты еще от нас хочешь?
– Чего? – добивался чуть вздернутый подбородок.
– Счастья неразлучности! – почти кричало сердце. – Прочности чувств!
– Ишь чего захотел! – издевались князья. – Взгляни на свою образину! Не забывай про болезнь и возраст! Вылез из грязи и вообразил, что везет?
– Из грязи, но через зарево взрывов, через горы смертей! Разве за счастье недостаточно плачевно?.. – надрывалось сердце.
– Левушка, ты чем-то огорчен? Поделись со мной грузом забот, не носи все в себе, – ласкалась ЛЮ.
– Но ведь это бестактно, в такой светлый день выкладывать беды. Дни, годы бед!
– Годы, когда ты был один, мы пройдем вдвоем, рядом. И выйдем к радости, славный. Сбрасывай с себя несносные воспоминания…
Тем временем смотрели дворец, побродили по парку, пересекли какие-то задворки и остановились в кустах боярышника. Спелые алые ягоды усыпали все. За изгородью колючих сучков исчезла столичная толчея. Опущенный плащ измял зелень, а над ним, оттесняя действительность, рос и рос рассказ:
– Ты была совсем маленькой, когда ураган огня кинулся на страну. Теплушки, теплушки, эшелоны теплушек полились в ненасытную пасть. Черные искалеченные деревья и сиротливо застывшие трубы на углях развалин провожали их. Изрытая земля содрогалась от взрывов в терновом венце ржавых заграждений. А в двери вагонов грозно хмурились Гришенька и Степус, Расторопин и Персюк и тысячи тысяч таких же беспечных, мужественных, рожденных для жизни. Рожденных для жизни и посланных на смерть.
Святая наивность! Мы не сомневались в своей силе. И в том, что война ненадолго. И зная сражения по книгам и фильмам, изнывали от желания побеждать.
Но ты не бойся. Нет, я не подбил десятка осатанелых танков. Не уничтожил одни батальон противника. Не прикрыл грудью амбразуру дзота. Словом не сделал ничего такого, о чем предпочтительнее молчать.
Пусть героические описания войн останутся на совести тех, кто их сочиняет. Сознательно, целясь, я не убил ни одного человека. И благодарю проведение за это в такой же мере, как и за то, что сам уцелел.
А по перронам гремели оркестры. Марши рождали мужество и мурашками бежали по коже:
Слова прощанья шепчут губы,
Тоска до боли давит грудь,
А на ветру… рыдают трубы,
Рыдают трубы на ветру.
– Тру-тру-тру… Сколько безвременных кончин оплакали они? Сколько смелых проводили в последний путь?
Фронт разрубал Белоруссию. Война только начиналась, а наш эшелон уже бомбили под Орлом. Дивизию разгрузили в Брянске. Дальше шли пешком. Следом взвивались предательские ракеты, и на головы рушился шквал. В воздух взлетали повозки, грузовики, взрывалась земля, развенчивались иллюзии.
Походы, походы! Никакая, самая изнурительная, работа не может сравниться с ними! В полной выкладке, в тридцатиградусную жару, серая вереница клацает бутсами. Стальные каски раскалены, пот щиплет лица, жажда жжет внутренности, но воды не положено на марше. Ноги стерты в кровь, а перематывать портянки не разрешается. Также как и курить, между прочим.
Так день за днем. Ночь за ночью. Бесконечное мученичество.
Потные лица горели,
Ноги усталые ныли,
Сбоку колючие ели
Таяли в поднятой пыли.
Елки, мохнатые елки,
Нет ни зимы вам ни лета.
Вечно вы хмуры и колки,
Вечно зеленого цвета.
Влагу песков вы попили,
Чтобы от сырости дрогнуть.
И, задыхаясь от пыли,
Душите ленту дороги.
Елки, колючие елки,
Слезы людские попейте,
В сердце вонзите иголки,
Прошлое пылью развейте.
Чтобы сердца не болели,
Чтобы мечты позабыли,
Чтобы и люди, как ели,
Вечно зелеными были.
Леса сменялись селами. По обочинам тракта, у изб, точно на часах, маячили заплаканные бабы. С крынками молока в руках. В жару. В ненастье. Лили они спасительную влагу по котелкам и каскам и крестили нас вслед.
Неделями тянулись от села к селу пыльная лента солдат. Отстегивала котелка. Черпала и не могла вычерпать чаши материнского сострадания.
– Ешьте, родимые, ешьте… – Хозяйка, всхлипывая, совала нам остатки мяса и оттаскивала от стола своих худеньких детишек. (Скотину не оставляли, резали последнюю. Резали последнюю и оделяли солдат!)
– Ешьте, ешьте… Ох, горюшко! Может, и нашего пожалеют…
Но война не знала снисхожденья. Красными искрами по стране рассыпалась смерть. Красными искрами за железной безжалостностью заграждений.
Для всех способных смотреть беспристрастно со стороны искры косили без разбора. Пристрастные благословляли судьбу всякий раз, если опасность проносило. Я не сомневался в предусмотренности всего на свете. Надеялся в случае чего на чудо и мысли о своей смерти просто не допускал. Согласитесь, что представить вселенную без собственной особы двадцатилетнему нелегко. Легче мечтать о личной исключительности и рассчитывать на Счастье.
Для достижения самого невозможного важнее всего мечтать! Разве не изумительна эта способность заветного – сбываться?! Разве не свыше внушается нам надежда? Ведь Ты та, которую я хотел, тут, рядом! Ты – есть! Я все-таки тебя отыскал!
– Левушка, родной мой, – ласкалась ЛЮ.
А над головой алел боярышник. За изгородью колючих сучков исчезала столичная толчея. Рассказ рос, вытесняя действительность:
– Я нисколько не сомневаюсь в особой симпатии Судьбы. Письма домой постоянно заканчивались непременным: «Вернусь!» Эта уверенность не покидала…
Дивизии, шедшие из Брянска, вскоре заняли оборону на Десне. Нас, роту с приданым ей пулеметным взводом, послали в Белоруссию вылавливать десанты. Не обнаруживая парашютистов, машины спешили все дальше, пока неожиданно не очутились в гуще бегущих. Вчерашние части, кучками почерневших, загораживали горизонт. За ними громыхал и вспыхивал фронт. У перекрестка высокий генерал с автоматом пытался остановить, завернуть обезумевших назад. Он задержал наши машины. Не слушая про маршрут, приказал занять позиции. Окопаться. Господи, какой это был ад! Черные тучи. Зарево близкой грозы. Взрывы снарядов. Мечущиеся машины и шинели. Ливень на головы. Слякоть в траншеях, грязь по самое горло. Всплывшие скатки. Вымокшие боеприпасы.
Бежавшие пробежали. Дальше шли, ползли, увязая в грязи. Раненые. Потом все опустело. Только мы да вода. Да безлюдное поле. И зловещий лязг гусениц за горизонтом…
Спасительные сумерки. Команда: «По машинам!» Прыгаю на повозку с пулеметом. Застреваю ступней в колесе. Успеваю выдернуть. Славлю Судьбу за спасение.
Мы благополучно примчались в часть. Посланные после нас сгинули без вести в Белоруссии. Фронт подступил к Десне. Меня с двумя солдатами направили за реку охранять минное поле. Рок проявил трогательную заботу и тут. В спешке сентябрьского контрнаступления про меня попросту забыли. Рота ушла в бой без своего художника. Ушла и больше не возвращалась. Издали видны были красные всплески взрывов, да мессершмитты, один за другим пикирующие вниз. Валька и Гришенька, Бурик и Персюк остались светлыми огоньками в памяти. Красными искрами в вечной черноте небытия.
Не потому, чтоб были лучше,
Нам можно безраздельно верить.
Нас выбирал счастливый случай,
Нас пропускала мимо смерть.
Так мы с мандатами от этих,
Кто ласк и счастья не изведал,
Которых беспощадно смерть
Взяла, как выкуп… за победу.
ЛЮ слушала. Ярко горели вспышки боярышника. Провожая прошлое. Маня в сегодня. И сердце перестукивалось с сердцем:
– Тук-тук… Тук-тук…
И руки тянулись за красным. Наполняли карманы. Набивали рты. Это был пир. Пир случайно уцелевшего. Прошедшего за Счастьем сквозь строй опасностей, чтобы убедиться, что оно – есть!
Есть… для тех, кто приходит вовремя…
В болотах Белоруссии, за Десной, застыли товарищи, в равной мере наделенные покоем. Тут, на земле, покалеченные, постаревшие, оставшиеся в живых торчали в бесконечные очереди, выклянчивая Счастье.
Счастье? – Оно для удачливых!
Радость? – Она для здоровых!
Любовь? – Только для молодых!
Остальных… посмевших обольщаться, дерзнувших переступить запретную черту – в шею! Окопному поколению тут не место!
Ты молчишь… ну и пусть
Ощипав боярышник, ЛЮ увлекла любимого в Ботанический сад. Укромные скамейки, созданные для уединения. Косогоры, на которых так приятно развиться. Ласковое солнце. Золото осени. Все звало к беззаботности. Но беззаботности не возникало. Вспоминали Симонова: «С тобой и без тебя».
– «Жди меня…» – это выражало надежды каждого, вынужденного сражаться! А «Ты помнишь, Алеша…» – так отвечало тогдашнему настроению! – расхваливал Лева. И тут же с сожалением: – Но все же автор не солдат, а корреспондент. Отсюда эти его призывы: «Убей!» Сам бы пострелял вместо науськивания! А писать статьи, и о нас писали. Дескать, продвинулись на столько-то… и ни гу-гу о потерях. Всё трофеи, трофеи, словно шествие было триумфальным. Культяпки и могилы оставляли нам – солдатам.
А я караулил минное поле. За линией фронта, на нейтральной земле. Километрах в двух от реки. Нашим убежищем был шалаш в овражке. Оба моих напарника, деревенские до мозга костей, разговаривали не бог знает сколько.
– Давай картохи напечем… – предлагал добродушный, с шелушащимся носом. И потел над котелком.
Второй, тощий, желчный, косясь в мою сторону, ворчал:
– Чего ученого корчишь. Ученые от передовой за версту. Тут одни дураки.
Разуверять зануду было бесполезно. Молодость, беспечность, вера в счастливую звезду помогали сохранять оптимизм и аппетит. Вылазки за картошкой – поле было между нами и немцами, – несмотря на обстрел, удавались. Ложки стучали о край котелка. На облупившемся носу напарника выступали капельки пота. Сытость тянула ко сну.
Я заступал на пост с наступлением темноты. И все-таки, сменяя неисправимого пессимиста, успел рассмотреть следы лошадиных подков по всему минному полю. Мины противопехотные, а у коня четыре ноги – и ни одной не зацепил! Дожидаюсь возвращения счастливого связного. Жму лапу. Объясняю, что ему крупно повезло, несмотря на дремоту дежурившего. Связной смеется:
– Мне всегда везет! В прошлом бою немцы сочли за убитого. Так к утру удалось до своих доползти.
Славный малый этот старший сержант! Помню лицо, улыбку, только фамилия вылетела из головы. Впрочем: «Товарищ командир!» Он был и тем и другим в полном смысле.
Как-то, около полночи, со стороны неприятеля поползли тени. Лязгаю затвором, досылаю патрон в патронник. Ложусь. Бужу товарищей. В ответ на голос, из темноты, несется протяжное блеяние. Стадо баранов! Глупые животные лезут прямо на мины. Открываем стрельбу. Стадо шарахается в сторону. В перестрелку включаются разведчики, решая мясную проблему.
Утром на командном пункте удивляются, что мы живы. Видели ползущих немцев, слышали выстрелы… и вдруг воскресшие караульщики! Командир роты – им за отвагу и смекалку стал «счастливый» старший сержант – рад, что не потерял художника. И представляете, забирает меня к себе. В связные. Всего за сутки до немецкого наступления на Западном! Судьба и на этот раз заботливо избавляла от гибели у минного поля.
– Вот славно, что ты такой везучий, Лева! И повыше, пожалуйста, нос!
Под розовым молоденьким кленом ЛЮ подняла лапчатый лист, проткнула гляделки и дырку для рта. По мальчишески высунула язык. Набирая пригоршни шелестящего золота, принялась осыпать поникшую косматую голову. Совать охапки за шиворот, тормошить:
– Левушка, славный, что с тобой?
Опечаленный молчал. Он чувствовал себя разбитым и по-стариковки усталым. Девять месяцев общения с женщиной, которую хочешь и не имеешь права сделать своей, истрепали вконец и без того расстроенные нервы. Но разве он мог об этом сказать. Разве мог рассказать, что избегался по врачам. И все безрезультатно. Ведь болезни выдуманные отличаются от настоящих только меньшей излечимостью. От них нет никаких лекарств, кроме покоя и веры, что совершенно здоров. Только где ее раздобыть, эту веру?
В мастерскую брели понуро. «Сени-сени», – поскрипывали стропила. «Сен-и-и-и», – неслось в разбитый иллюминатор с улицы. И художник шел, бежал в прошлое, вспоминая старые беды, чтобы не думать о грядущем…
– Второе октября я встретил на командном пункте роты. Ночное дежурство оканчивалось. Светало. Промозглая сырость ползла с Десны. Забиралась ознобом за гимнастерку. Вдруг горизонт прошило крошевом пушистых вспышек. Они казались совсем безобидными издали, эти розовые узоры… За ними чуть слышно что-то урчало. Разбудил ротного:
– Товарищ командир, наши бомбят…
– Наши? Нет… – Ротный застегнул шинель, прислушался и, помрачнев, пророчески заключил: – Началось…
Я спустился в землянку. Меня ломало. Смерил температуру – сорок. Предложили опорожнить кружку спиртного. Уложили. Накрыли шинелью. Нежность командира поражала. Надо же, ухаживает как за женщиной.
В голове кружилось, жужжало. По одолевшей дремоте что-то ухало сверху. Потом топот и суета, топот и суета… И желание лежать зажмурившись. И пот, пот, пот… Потом «там-там» по накатнику… и дребезг в землянке… и рука, которая теребит, теребит. Ласка. И в ласке – властное: «Встать!»
Отступление. Меня как больного уложили на повозку с боеприпасами. Рядом посылка из Москвы, от родителей, с копченой колбасой. Только мне не до еды. Поскрипывают колеса. Дрыгается колымага. Ящики ищут места почувствительнее и толкают углами в бока. Ротный принял решение отходить в тыл на свой страх и риск, без приказа свыше. За такое самоуправство – расстрел. Но он не боится ответственности. Вот и село, где стоял штаб батальона. Штаба след простыл. С той стороны сюда, от дома к дому, перебегают черные фигурки. Совсем игрушечные, с крошечными пушечками ручных минометов. Так кажется. Но вот…
– З-з-з-з… – Зуд прорезает воздух. Затихает, глохнет внизу у земли и… – Т-р-а-а-х! – С сухим треском сыплет смертоносные осколки.
Ящик с патронами падает. Соскакиваю с повозки его поднять. Лошади несутся не останавливаясь. Стою несколько секунд истуканом. Но вот новые завывания мин, и… «Тр-а-х! Тр-а-х!» – уже совсем близко. Падаю, распластываюсь. Вздрагиваю вместе с землей от взрывов. Затем вскакиваю, забыв про болезнь, и несусь вместе со всеми к лесу. А взрывается справа, слева, спереди, сзади – везде. Повозка с боеприпасами и присланной из дома колбасой достается фрицам. Со мной только винтовка и товарищи. Голова гудит. Ноги налиты свинцом. Но останавливаться – гибель.
Собираемся в лесу. Идем. Вот они – штабы беспризорных дивизий и перепутанных полков. Еще не отдышавшиеся, пытающиеся острить командиры. И несметная масса просоленных гимнастерок, ползущая под навесом сосен.
Сутки за сутками. Сутки за сутками. Заминки разве из-за обозов. Лошади стали, значит, ложись в кювет. Ноги вверх и ничего не отстегивай. Отстегнул – забыл. Спим даже на ходу. От брани до брани. Клюнешься носом в чью-то спасительную спину, получишь ушат отборной брани на голову и зашагаешь бодрее до очередной порции ругани.
У лошадей вдовое больше ног, но они устают быстрее наших. Сутки за сутками. Лицо мое зеленее бровей. Ротный верхом. Он уступает седло:
– Садись раз нездоров.
Отказываюсь. Но забота удесятеряет силы. Болезнь забывается. Болезнь проходит на ногах.
Еще встречаем в книгах слово «рыцарь».
Еще музеи носят тяжесть лат.
Но близок день, и люди будут рыться
В архивах, узнавая про солдат.
Тот день придет. И может быть тогда-то,
Когда шинели станут экспонатом,
Мечтать девицы будут о солдатах,
Что жили много лет тому назад.
– Точно! – произносит Золушка, задирая указательный палец. Затем громоздит косматую голову Левы к себе на колени и читает:
Неба остров в окне
Голубой-голубой…
– Может, скажешь ты мне,
Что случилось с тобой?
Что тревожит тебя?
От чего эта грусть?
Жить нельзя не любя…
Ты молчишь… Ну и пусть.
Ты молчишь, ты грустишь,
Не решаясь сказать…
А на улице тишь,
А в окне – благодать!
В облаках потонул
Цвет небес голубой…
Ты молчишь потому,
Что я рядом с тобой.
К горлу подкатывается комок. Строки касаются самых тонких струн души художника. Стараясь скрыть подступившую сентиментальность, он зарывается носом в спасительные складки платья. И молчит.
Без адреса
Еще вчера все было так хорошо. Я коротал время в ночном лесу. Луна большой разрезанной тыквой повисла на краю загородки. Под кустом орешника, совсем рядом, сказочным зеленым светом, горел светлячок. Один, совсем один. Нет, второй вспыхнул в глубине души, освещая что-то такое, чего я не знал. Ищу названия и не нахожу. Ношу молча этот свет, как свою тайну. Вечер надежд, ты уже позади. А сегодня, сегодня Вы не пришли…
Да, я лечусь житейской суетой. —
Затем ведь и даны заботы,
Чтоб не оставить в сердце позолоты,
Вечерних зорь фантазии пустой.
За час отмеришь сотни километров,
А между нами целых двадцать лет!
Зачем же ждать с тоской глядя во след,
С тобой умчавшемуся ветру.
Уходят дни, ложась по сторонам
Невидимым сплошным забором
И, чтобы не открылось взору,
Свернуть нельзя с дороги нам.
Живу, лечась житейской суетой.
Затем ведь и даны заботы,
Чтоб реже вспоминать о том,
Что не возможны повороты.
Сколько ждать еще? Увижу ли? Хочу верить, верю, ведь надежда всегда облегчает жизнь! И потом, потом, мы ведь не совсем расстались. Каждый день я делюсь с Вами всем, о чем думаю. Пока есть тоска в сердце, можно ли говорить, что мы не вместе? Тоска и боль вовсе не так плохи, как кажутся! Боль в руке или ноге только доказывает, что они наши. Когда перестаем чувствовать – мы их теряем. Не тоже ли и с тоской? Пока она есть, нити ее тянутся через любые расстояния и соединяют людей.
Небо медленно, большой серой рекой, течет над головой. Чуть колеблются опрокинувшиеся вершины деревьев. – Они похожи на отражения. Вся наша жизнь, – ни есть ли она, зыбкое отражение в этом вечном потоке?
Черные, усатые жуки гудят, задевая меня, падают и вновь шурша, поднимаются с земли. Быть может это свита идущей ночи? Милой ночи, которой оба мы склоним на колени свои усталые головы.
Не грусти о промелькнувшей встрече,
Не томи глаза, закрой их.
Ведь один и тот же теплый вечер,
Молчаливо обнял нас обоих.
И как бы ни были далеки Вы сейчас, мне тепло на душе от этой мысли. Река над головой плывет и плывет. Вот закачалась на волнах маленькая звездочка. Видите ли Вы ее? Спать, спать. Хороших снов.
Мне верилось, что есть на свете, такая вот, как я хочу.
Словами слишком поздно встретил,
Я радость встреч не омрачу.
И пусть цветешь не для меня ты,
Стеною лет отделена.
Пусть так, но не одна стена,
Не загородит аромата!
Жизнь такова, какой мы ее видим. И тем больше открывается нам, чем лучше мы умеем смотреть. Одни видят ее в мрачных тонах, другие в радужном сиянии. А Вы сами, разве не кажется она Вам вечно разной? Взгляните на нее ласково – и она улыбнется, нахмурьтесь – и она сдвинет брови. Сказочная избушка на курьих ножках всегда поворачивается лицом к тем, кто хочет видеть лицо.
Послушные мысли укладываются в слова. Чувства немы – они прячутся между строк, аукаются в созвучиях. Трудно услышать их еще труднее быть услышанным. Только рядом красноречиво молчание. Как же докричаться вдаль?
Если душа не спит – она стремиться к свету, как мотылек. Можно опалить крылья? Ну что ж – свет стоит того! А потерять крылья можно и в темноте.
Не правда ли странно, что люди вот уже сотни лет употребляют одни и те же слова, называя ими совершенно разные чувства? Называя, ставишь как бы знак равенства между новым и старым. Есть ли слова для вновь рожденного? Имя Ивана или Петра – разве определяет оно характер человека? Не тоже ли с нашими чувствами?…
Неведомое, разное, нас радует и мучает,
Покуда слов не сказано, столетьями заученных.
Чтоб не увяло нежное, незнаемое ранее,
Тому лишь, что заезжено, оставим все названия!
Пусть огоньки плескаются, в тени ресниц чуть сонных
И губы распускаются беззвучнее бутонов.
О радости и боли нам, о светлом и прекрасном,
Одним сердцам позволено стучаться ежечасно!
Хотите, я позабавлю Вас сверкающей цепочкой воспоминаний? Хотите? – Получайте!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































