Текст книги "Художник и время"
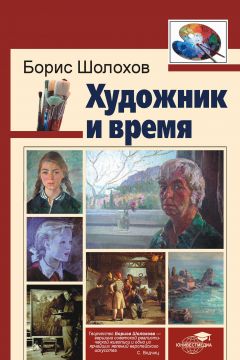
Автор книги: Борис Шолохов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
Плен
К тебе, к тебе. Стучат без конца колеса. Две сороки у мокрой дороги равнодушно глядят на проносящееся в облаках дыма чудо. Они привыкли ничему не удивляться.
В вагоне, как-то особенно остро ощущаешь бег жизни. Быстро мелькают шпалы, медленно проплывают телеграфные столбы, окутанные клубами серого дыма, а там, на горизонте, как бы силясь догнать убегающее окно, тянутся следом за ним поля и леса. Но и они, раскинувшись, останутся позади, как минуты, часы, годы нашей неповторимой жизни. Только память, на дне своих сундуков бережно хранить кучи ненужного хлама, время от времени перетряхивая это старье. Что хорошего могу я еще достать из запыленного прошлого? Вот разве этот темный ветхий отрез, смотри:
Небо печально и хмуро,
Движутся однообразно
Пленных немые фигуры
Жалких, оборванных, грязных
Пухлые ржавые лица
Вечно в щетине колючей.
Сколько еще будет длиться
День бесконечно тягучий?
День бесконечно тягучий
Жизнь и пуста и не нужна.
Скучные серые тучи
Смотрят в серые лужи.
Палка гуляет по спинам,
Грубая брань конвоира.
Иль суждено так идти нам
Вплоть до скончания мира?
Видеть лишь эти во лужи,
Это вот серое небо.
Ах, ничего мне не нужно.
Хлеба, немного бы хлеба!
Да плен. Как это случилось? Вот как:
Фронт быстро катился к столице, а в тылу в болотистых сосновых лесах осталось несколько беспризорных разбредающихся армий. Командиры спасались, забыв о своих подразделениях, а мы, мы брели от села к селу голодные и продрогшие. Война казалась проигранной. Один немец в белых перчатках взял большую, побросавшую винтовки группу. Если бы я стал стрелять, меня бы убили товарищи. Да и к чему было это делать, раз исход войны решен на ближайшие годы. Сохранить силы, уменьшить жертвы и потом позже взять реванш, так тогда думалось. Словно серое стадо гонят нас по осенним полям. Изредка попадаются на пути деревни с сердобольными бабами. Вот кто-то метнулся из строя за кустом. Протянутого хлеба. Треск выстрела… и у крыльца корчится в судорогах тело. Дверь хаты захлопывается. Мы молча идем вперед. А дождь льет и льет, на серые спины. На сухие глаза, на переставший биться комочек тела.
А в каком-то уголке нашей бескрайней земли ждут и по сей день отца и сына. И все же легче ждать, чем знать, что он никогда не вернется. Крестик над холмиком земли плохое утешение. Можно ли вместить в этот жалкий бугорок память о дорогом нам человеке?
И, вдыхая земли ароматы,
Вечерами оставшихся лет
Ну скажи, как поверить могла б ты,
Что любимые могут истлеть?
Нет на свете ни тлена, ни праха!
Пусть твои дорогие глаза
На грядущее смотрят без страха
И без горечи скрытой назад.
Сколько дней нас гнали? Я не считал их. Помню ночь, когда огромные, холодные корпуса вагоноремонтного завода открыли перед нами свои черные пасти. Зловещие костры далеко за колючую проволоку отбросили черные тени. Валюсь с ног от усталости прямо на цементный пол спиной к спине с неизвестным мне соседом и забываюсь. Утром место кажется менее зловещим. Всюду сгорбленные серые фигуры. Сколько их? Целый многотысячный город. Голод дает о себе знать, но перед тем, как пригнали нашу партию, несметная толпа озверевших разрушила маленькую, жалкую кухню, способную дать кружку жмыховой похлебки одному из десяти протянувших руки.
Сколько серых осталось в кипящих котлах? Сколько их уносят из лагеря ежедневно? Дни провожу в поисках пищи. Волка кормят ноги, но здесь, кажется, лучше лежать и умирать спокойно. За семь долгих дней, мне удалось получить всего два маленьких со спичечную коробку, кусочка хлеба от старика немца, в ответ на: «Ихь бин штудэнт Акадэми дэр Кунст». Может быть он вспомнил своего сына? А в это время, Геббельс, надрываясь, кричал: «Бей! Бей! Бей!» Почему не воюют сами те, кто натравливает народы друг на друга? В мечтах мы рисовали себе, как в тесных клетках грызутся из-за куска между собой, затеявшие эту бойню. (Если б могли слышать наши проклятья!)
А в действительности, в действительности… по лагерю недалеко от проволоки, шагал полный генерал с красными лампасами. Толпа повалилась в грязь, на колени. Тысячи протянутых рук и сверкающих глаз. Генерал исчез. Вот, прямо в толпу, въезжает машина. С нее разбрасывают куски крупно порубленной конины. Серые, рыча, бросаются к ним, топчут раненых, режут мясо и руки, рвут куски зубами. Я – сильный и большой – не могу получить ничего. Может еще не совсем потерял человеческий облик? Но ведь человеком здесь нельзя больше жить.
Все больше клонит в сон. Сны сказочные, полные галлюцинаций и необычайной красоты. Так бы вот и заснуть, но молодость не сдается. «Москвичи есть?» – пробуждает меня чей-то голос. «Есть, а что?» «Давай уходить!» Недоумеваю – «Куда?» Он с жаром объясняет, что в глухих деревнях нет врага и, что можно идти лесами. Он высокий, худой, губы в болезненных наростах, но лицо кажется мне хорошим. И вот я уже не одинок. На маленьком огоньке кипят на котелке, подобранные где-то капустные листья. За проволокой, в назидание остальным, лежит один серый. Его не убирают для острастки. Но это нас не остановит. Лучше сразу погибнуть там, чем дать уморить себя голодом. Скорей бы ночь. Через каждые пять минут нетерпеливо спрашиваю: «Пора?» Он старше, он говорит: «Нет». Нерешительные дают нам свои адреса. Они не верят, что отсюда есть выход.
От серых распахнутых шинелей у костров легли длинные, длинные тени. Часовой уходит. Пока он вернется нужно быть там, за проволокой. Не верится, что сейчас вот я сам, а не книжный герой, буду действующим лицом захватывающего рассказа. Один приподнимает проволоку, другой ныряет под нее, потом помогает товарищу отцепить от спины колючки. Холод колет сильнее стальных шипов, ведь мы уже за запретной чертой. Бегом до сараев и снова под проволоку. И, наконец, последнее заграждение самое густое. Расширяем одну из дырок и, помогая друг другу, протискиваемся. Собак, правда, нет. За проволокой кочки и болото с ледяной водой. Заморозки. Октябрь на исходе.
Милые звезды, вы не можете нас согреть, но зато указываете своим светом дорогу. Бесконечно долго тянется ночь. Ломят мокрые ноги, а сил так мало. Шесть километров за шесть часов – и вот деревня. Стучим под каждым окном, голоса дрожат и срываются, но ни одна дверь не раскрывается перед нами.
Последняя избушка. Хочется лечь у порога и не вставать. Но чудо! Двери ее открыты. Там уже сидят трое серых. Старушка не угощает ничем, все съедено. Не печи белобородый дед. Ему нечего бояться смерти, все равно она скоро постучится к ним. До рассвета сижу на лавке, обхватив колени руками, пока мой напарник узнает затерявшуюся в лесу дорогу. Пора. Сейчас будет облава. С трудом разгибаюсь. Благодарим и уходим в леса.
Сосны, сосны, сосны… только бездушные, гладкие сосны. Далекий собачий лай. Голод побеждает страх, идем прямо на запах деревни. Вон ребятишки пасут лошадей. Они сначала пугаются, потом отдают нам котелок своей похлебки. В деревне немцы. Малое Полнино – это все, что удержала память.
Забылось имя той, что нас накормила и передела в гражданскую дрань. Помню только, что, благодаря, отдал на память свою авторучку. Нет, плакать я, кажется, умел только в детстве. Открылась новая страница скитаний, лесов, теплых встреч и скрытых опасностей. Прощай смерть, мы еще увидимся с тобой – в другой раз.
Между жизнью и смертью
Серое бескрайнее море шинелей с поблескивающими на солнце штыками. Посреди этого моря островком возвышается помост и над ним два столба с перекладиной. Совсем как в старинных русских песнях. Из землянки выводят осужденного. Сколько ему лет? Восемнадцать-двадцать – не больше. Что видел он в жизни, что готовился совершить? Он спотыкается, его подхватывают под руки и ведут. Читают приговор. В чем же вина этого жалкого арестанта?
Он с товарищем испугался ужасов фронта, решил перебежать и сдаться в плен.
Товарищ оказался храбрее и осуществил задуманное, а он в последний момент струсил и остался. Кто-то слышал и донес. Допросили. С таким вряд ли пришлось долго мучиться. Он признался. Он признался во всем, ожидая снисхождения. Он и теперь еще, увидев столбы над помостом, продолжает надеяться, что помилуют. Кается и молит со слезами на глазах. Только бы тронуть сердца своих судей, купить жизнь любой ценой. Он ищет взглядом чьи-нибудь родные добрые глаза: мамы – она бы простила. Ведь он два года все-таки воевал, мучился, гнулся в окопах. Ну, хотел бежать, хотел спасти жизнь, послушался товарища. Разве нельзя все-таки простить?
Но мамы нет. А кто простит, кто? Те, кто под любыми предлогами не попали на фронт? Они не простят, ведь надо было до последней капли крови защищать их благополучие. Ведь они же выполняют свой долг в тылу. Те, кто сражался вместе с ним, сейчас стоят серой неподвижной массой. Они не винят его за то, что он хотел бежать и оставить товарищей одних тянуть солдатскую лямку. Не винят, но и не могут помочь, так как безгласны. Их затем и привели, чтобы не повадно было. Может быть, эти, кто должен сейчас произнести роковой приговор? Может быть, они? Нет, он не выполнил своего долга, нарушил присягу. А они – о, они выполнят свой! Не поддадутся чувству жалости. Ведь за это они и получают жалованье. С чувством выполненного долга будут сидеть они в семейном кругу, распивая чаи и нянча внучат, и никто не спросит у них: сколько сирот оставили они во имя этого самого долга, у скольких матерей отняли детей?
Бледное, худое, качающееся из стороны в сторону созданье уже на помосте. На перекладину, чтобы накинуть петлю, взбирается сам тучный подполковник (видимо, других не нашлось!). Сколько раз ему нужно будет еще вот так потрудиться, чтобы получить следующий чин?
Не знаю, о чем думали другие немые свидетели этой сцены, я же мысленно сам прошел этот путь от землянки до эшафота. Спокойно, твердо и улыбаясь. Можно всю жизнь гнуться и пресмыкаться, но тут, перед лицом смерти, тут-то, хоть на несколько минут, разве трудно быть смелым? Красиво умереть проще, чем красиво жить. Впрочем, что я, разве бывает смерть красивой?
Скамейка вышиблена из-под ног. Жалкое тело пляшет скомороший танец с высунутым языком и вытаращенными глазами. На помост с промокших брюк течет и течет.
Гордый Пестель и светлый Рылеев, вы шли на казнь смело, но неужели и вы не избежали этого танца и лужи под ногами? А ваш палач на очередном балу грациозно вальсировал с красавицей. Чувство выполненного долга и верность данной присяге делают людей чертовски красивыми. Только боже упаси вас допускать какие-нибудь свои произвольные толкования чувства долга. Долг – это то, за что платят жалованье и повышают в чинах.
Если бы наказание получали все, кто его заслужил, многие ли бы его избежали? Поройтесь в памяти, разве вы совершенно безгрешны? Сколько же вам в таком случае лет? Ну вот видите, значит, все еще впереди, успеете натворить бед.
Оставаться хорошим в хороших условиях совсем нетрудно. Только испытания показывают нашу настоящую цену. Будем же молить судьбу, чтобы на нашу долю их выпадало поменьше.
Сторонники правил незыблемых вечно,
Привыкшие к славе, кумиры отечеств,
Вы знаете точно, что так и что эдак.
Поступков порочных позор вам не ведом.
Пусть каждый из вас, кто карает и судит,
Все ж не забывает, что мы только люди.
Показываю руки с изуродованным пальцем и спрашиваю:
– Знаете ли вы, как это произошло?
Она наклоняет голову, слушает.
– Помните, тот день? Вой, ранение, лошадь без морды… Тогда я рассказал не все. Ни одной царапины в этом аду без своего на то согласия я не получил. И на эту решился сам, когда стало невмоготу провожать на тот свет товарищей.
– Я вас не понимаю, – говорит ЛЮ.
– Вот так. Мой связной, прошедший две войны, неожиданно предложил мне оказать друг другу эту услугу. Как он решился мне открыться, неужели понял по моему лицу, что мне невыносимо больно видеть гибель товарищей и считать себя невольным виновником их смерти?
Сказано, сделано: рука обмотана мокрой тряпкой, впереди поставлен диск автомата. Секунды ожидания… и будто тяжелая дубина опускается на пальцы. Плачу той же монетой услужившему мне. Вскакиваю и под огнем противника перебегаю в окоп одного из своих командиров отделения.
Молоденький сержант, видя, что я ранен, заботливо, с сыновней нежностью, перевязывает мою руку.
И вот снова повозки старшины. Пить. Пить. Пить! Кажется, я никогда не напьюсь. И какая боль, какая боль! До самого сердца. Ревел бы, как ребенок, не будь рядом товарищей. И не столько раздробленная кость руки, сколько срезанный пулей кончик среднего пальца не дает покоя. Бьюсь головой о бревна сарая, где приходится провести ночь, но не издаю не звука.
И вот дорога в тыл. Кроме боли в искалеченных пальцах где-то глубоко гнездится страх, что все может открыться. Но ведь приняты были все предосторожности: «Сойдет!» У первого же фронтового перевязочного пункта расстаюсь со своим связным, чтобы не возбуждать подозрений.
Вхожу: два врача – молодой, холеный, наглый, и пожилой с усталым осунувшимся лицом – встречают меня. Молодой, взглянув на рану, качает головой: «СС».
Что это такое, что за слово? Так называют некоторые гитлеровские дивизии. Но тут? Что должно означать это тут? Молодой эскулап объясняет мне: «Самострел». Глядя на него в упор, я предлагаю отправиться на передовую, спросить у моих товарищей. Быстро, быстро мелькают мысли. Виселица, ужасное сообщение родителям. Нет, нет! Не признавать ничего. Все отрицать!
Ну, а если связной попался, если он подтвердит, что врач прав? Все равно, даже тогда все отрицать. Твердо выслушать приговор и ни в чем не признаваться. Скорее откусить язык.
Пожилой врач сомневается, что диагноз молодого коллеги безупречен, а как знать, возможно просто жалеет меня? Старшие, старшие – они всегда человечнее нас! Будем ли мы таким же примером своим детям?
Молодой настаивает: «Давайте сделаем операцию, вскроем. Увидите сами. Разве не видно тут ожога, взгляните?» Все отрицаю горячо, страстно.
Меня запирают в сарай, отобрав предварительно карту передового района, где указано при каких обстоятельствах получено ранение. Значит, конец.
Опять бессонная ночь. Готовлюсь умереть смело. Утро. С группой легкораненых (тех, кто может передвигаться сам) направляюсь в медсанбат. Мне возвращают карточку с маленькой, чуть заметной припиской: «СС?» Стираю ее.
Как же это? Передумали? Забыли? Не до меня? Почему меня не повесили? Что угодно судьбе? Или и эту миссию мне когда-нибудь придется взять на себя?
Оправдан! Оправдан! Ура!
Из окружения
И вот только пять километров отделяют нас от Дона, от передовой. Смело входим в хутор (нас предупреждали, что там нет гарнизона), но из хаты выскакивает испуганная бабка и машет руками. Понимаем, да поворачивать поздно. На пороге две фигуры с винтовками: «Русь, цюрюк!» Делать нечего – подходим.
Два итальянца, заехавшие в хутор за провиантом, обыскивают нас. Куски жареной гусятины возвращаются обратно, как непонятная пища, а вот мои бедные тетради, исписанные виршами, кажутся подозрительными. Объясняемся на пальцах. Итальянцы отчаянно жестикулируют. «Мадонна, Рафаэль, Акадэми дер Кунст», – мы понимаем друг друга. Мне в руки дают карандаш и листок бумаги. Рисую. «Браво, браво! Талант». Теперь солдаты настроены дружелюбно и довольно беспечно, так как ружья поставлены. Можно ли так забываться: ведь нас тоже двое и мы гораздо сильнее. Однако, поскольку опасность не угрожает, предпочитаем не рисковать.
Повернув пальцы козой вниз, наподобие ног, завоеватели объясняют, как они тоже хотели бы домой. Спрашивают: «Не будут ли партизаны пук, пук?» Один помоложе рассказывает про свое увлечение в ближайшем селе, а рука при этом трепыхается – «такы, такы», имитируя сердце. Нас однако не отпускают, обещая, что в комендатуре выдадут пропуска. Знаем мы эти пропуска! Николай настаивает уходить, мне жаль отобранные вирши. В результате нас везут на подводе к коменданту. Конвоиры заходят к начальству, мы, воспользовавшись этим, предпочитаем скрыться за домами.
В окно летят какие-то бумаги. Узнаю свои тетради, выхожу из укрытия и дрожащими руками прячу за пазуху свое сокровище. Видно коменданту сейчас не до лирики! Поворачиваюсь и догоняю улепетывающего Кольку. Что ж, это приключение проходит без осложнений. Но переплыть Дон так и не удается. Устаем играть с огнем и принимаем другой план: идти вдоль реки, туда, где фронт проходит по суше. Правда, придется пройти несколько сот километров. Ну что ж – другого выхода нет.
Жаль покидать обильную Ростовскую область. Белые хатенки с земляным полом, садики, рощи, пруды, вытянувшиеся гуськом хутора. «Хлопцы, виткиля вы?», «Утри пыку, вот рушничок», – как все это было радостно слушать. Тут даже к животным относятся необычайно ласково. Трогательно это обращение к кошке или собаке в среднем роде: «оно ж маленькое», «котеня». А царственные вареники с блюдом сметаны и радушным: «Мочайте!» А ласковые, румяные хохлушки, которые, накормив досыта, бегут к соседке занять вам на дорогу продуктов и крестят, и плачут, расставаясь. Кто мы им? Кто они нам? Сколько же у нас матерей? Всего одна, с самым лучшим именем на свете. Родина – только бездомные дети знают всю глубину твоей материнской любви!
Но кто это тащится нам навстречу? Фигура напоминает вставшего египетского фараона-мумию. На тонкой шее старчески трясется голова. Глаза выходца с того света, жалкий дребезжащий голос. Бывший ленинградский студент. Отпущен из лагеря умирать. Полное истощение организма и никакой диетой не предотвратить неизбывного конца. Вот что ждало нас там, что ж – запомним урок.
Где-то удается найти винтовку – одну на двоих, и теперь смело шагаем ночами, а днем спим. Однажды пробуем у полицая с пасеки утащить улей. Но лает громадный пес. Хозяин стреляет вверх. Можно было бы ему ответить, но главное в том, чтобы довести начатое до конца. У Кольки правило, когда удача уходит из рук, добиваться ее любой ценой. Пока не получится. После трех попыток улей у нас в руках. Тяжелые рамки с медом, несколько пчелиных укусов и удовлетворенное чувство, что не отступили. Значит, впереди все будет хорошо!
В дороге все чаще попадаются попутчики. Иногда идем вчетвером, вшестером, но большие группы опасны. Да и надежных товарищей нелегко найти. Помню одну пару: молодой тщедушный паренек и его спутник – высокий пройдоха с глазами навыкате и крючковатым семитским носом. Зайдя в хату, высокий крестится, скинув шапку, и по-хозяйски усаживается за стол: «Мы – русские люди. Что Бог вам, то и нам. Вы отцы – мы дети», и поди откажи этому наглецу. Что ж, всяк по своему приспосабливается к условиям.
Между прочим, встреча с пройдохой не прошла без пользы для нас. Ночевать на улице становилось все труднее, а чтобы переспать в хате, требовалось разрешение полиции. Те двое совали в нос начальству пропуск, подписанный немцами. Мы, конечно, объявили, что у нас точно такие же, но в дырявых карманах было пусто. В компании на это не очень обращали внимание, но нам не хотелось долго идти вместе с такими типами. Как-то мы попросили взглянуть на их бумаженции и, не подавая виду, запомнили текст и печать пропусков. Я и теперь еще этого не забыл: «DerRusse… такой-то hingehendemErlubnisnachKurskwerrichten…», далее подпись: «Ortskommandant Nauptman» и печать с орлом. Раздобыв в деревне чернила, я воспроизвел полностью текст, вставив только свои фамилии. С печатью было сложнее. Николай посоветовал изобразить ее на отдельном листке, потом размочить в воде и приложить к новоявленным документам. Липа получилась отличная, только всесильный немецкий орел отпечатался головой в другую сторону. Но ведь немцам мы не собирались показывать свое искусство, а старостам и полицаям вряд ли заметить такую оплошность. Теперь мы шли одни и совершенно спокойно. Ночлег был обеспечен везде. Мало того, мы открыли контору по выдаче пропусков во всех направлениях и думаю, что многие бродячие пары военнопленных, оставшись в живых, с благодарностью вспоминали нас и нашу шарашкину фабрику.
Помню один бесконечный день, когда по дороге непрерывным потоком шли вражеские танки. То и дело приходилось ложиться в кювет и прятать головы. Бог миловал. К вечеру мы свернули в поле подальше от беспокойного шоссе и расположились спать в стогу. Вдруг прямо на нас, выделяясь на полыхающем от заката небе, двинулись развернутым строем проклятые машины. Что за наваждение! По спине прыгают мурашки. Зарываемся с головой в сено и… вместо скрежета гусениц певучее мычание. Ха, у страха глаза велики – это всего только стадо. Ну и дурни же мы!
Спокойно устроившись в середине стога, долго решаем вопрос, куда спрятать от крыс мешок с куском добытого сала и моим рифмоплетством. Только прицепив все это на высокий шест, успокоенные, что туда не долезет ни одна крыса, засыпаем.
На утро, продрав глаза, с удивлением обнаруживаем, что проклятые грызуны не только добрались до конца шеста, но и уперли весь мешок в неизвестном направлении. Трудно верится в чудеса, поэтому долго подозреваем и упрекаем друг друга. Однако мешка так и нет и приходится ограничиться тысячью проклятий на голову нечистой силы и наобещать ей всяческой всячины при встрече. Черти или крысы не оставили адреса и вполне справедливо решили не попадаться нам под горячую руку.
Меня не покидает уверенность, что нечистую силу привлекло только сало, но никак не поэзия. Будь иначе, сатана давно бы заинтересовался моей персоной и пригласил в гости. Что? Все там будем? Да, когда-нибудь. Другие, если это их устраивает, могут там жариться в собственном соку, но я припомню чертям их гнусные проделки и заставляю выложить на сковородку украденное. Впрочем, мне сдается, что в аду не слишком много поэтов. Слушать их вечно вряд ли вытерпит даже сатанинское племя.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































