Текст книги "Художник и время"
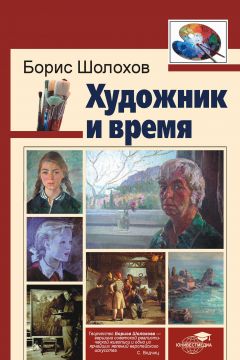
Автор книги: Борис Шолохов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
Ах, вы сени…
Чистотой и уютом светилась Голубая комната, а волшебник лежал на дощатом топчане и переживал. В душе, точно после крушения, чего-чего не торчало: и ревность к супругу Золушки, и жалость к собственной жене, и желание блаженства, и боязнь оказаться… Боязнь оказаться… Живописец избегал завершения фразы, но боязнь гнездилась в сознании особенно неотвязно. Что-то надорвалось в здоровом организме с самого рейса в Архангельское. С того момента, когда травы властно звали в свою густоту и остались стоять в смятении.
Ладони делались влажными, спина холодела. А в ушах лезвие песни косило, косило… по всему светлому:
Ах, вы сени, мои сени…
Этой истории двадцать с хвостиком лет, а вот не забылась, не изгладилась, засела занозой в мозгу. И прокуренная, до угара, комната, и пьяный приятель дядюшки-художника, и во всю ивановскую:
– Ах, вы сени, мои сени, сени… Бр-р-р-р… Правда, не хуже Шаляпина…
Затем слезы и рассказ о загубленной жизни:
– Ну что ты в этом смыслишь, малец? Тут – достоевщина! Тут… тут письма, – руки судорожно рылись в ворохе конвертов. – …письма – самые страстные на свете! Столько тоски и стремления встретиться. А свиделись… и меня словно подменили. Любовь около, любовь рядом, а тело точно в параличе. Плачь, не плачь, помочь нечем. Дважды, трижды… И женщина не выдержала, ушла… Ушла, понимаешь?..
Руки рылись в конвертах, слезы заливали глаза, и снова во всю ивановскую неслось:
– Сени, сени, сени…
А у мальца болела голова, тошнило от едкого дыма… На воздух и забыть бы глупейший случай. Выкорчевать. Но колючка торчит прочно, и песня все косит и косит:
– Сени, сени, сени…
Нет! Совсем не сени… Это просто поскрипывает настил под ступнями, взвизгивает радостью свиданья.
– Здравствуйте! – Золушка с удовлетворением оглядывает посветлевшую обитель.
Усаживается на топчан. Жаркой, сухой ладонью гладит влажную лапу поверженного. Прижимает гривастую образину на секунду к себе. Скользит ласковыми пальцами ото лба к подбородку:
– Лев мой! Львеныш… Левушка.
И поверженный оживает. Он забывает про все неприятности на свете. Веселеет:
– Ну, знаете, сие название обязывает…
– Обязывает само собой, но, главное, характеризует самую суть вашей физиономии!
– Саму суть? А я-то кис и не сознавал! Не догадывался заглянуть в зеркало. Но вы жаждете похождений, подтверждающих обнаруженное в наружности? Извольте, самые что ни на есть армейские! Без всяких прикрас.
Угораздило меня заделаться ездовым в хозвзвод. И совсем не из-за пристрастия к скакунам. Просто спасался от присвоения званий. Ну сказать, что знаком с конскими особенностями, просто. Попасть на дежурство в конюшню совсем пустяк. А вот оставаться спокойным по соседству с копытами искусство не из веселых.
– Стоять! – Реву я тенором погромче и погрубее.
Ухарски кручу бичом, сопровождая движение неизбежной трехэтажщиной. Зеркала нет, но тем легче вообразить себя дерзким наездником, не знающим сомнений.
Тусклый свет фонаря едва мерцает в притаившейся темноте. Мерное пофыркивание жующих морд изредка прерывается протяжным ржанием, стуком копыт и тенором, скандирующим очередную брань. Откровенно говоря, первое знакомство со скакунами грозит оказаться последним. Стараюсь не думать об этом, протискиваясь между предательскими задами лошадей и задаю корм. Конюшня нескончаема. В каждое стойло нужно всыпать овса. Поди угадай, какая пасть вздумает кусануть, какое копыто стукнет.
Бог милостив, залихватское «Стоять!» вместе с положенной трехэтажщиной действует на скотину успокоительно. Утро проходит без травм и траура. Но… час от часу не легче, начальству хочется срочно мчатся из части в часть.
Трудности запрягания превозмогаю: уздечки и прочие причиндалы конского туалета, по счастью, чисто случайно оказываются на установленных местах. Вскочить кучером на облучок задача почти пустячная. Приглашаю усаживаться широким жестом, заправского возницы. Едем. Полковничьи звездочки чуть покачиваются при толчках. Взмахиваю кнутом. Умные кони набирают рысь. Быстрее, быстрее… колеса тарахтят громче повздоривших баб. По булыжнику, по ухабам. Дрожки бросает из стороны в сторону. Догадываюсь, что рискую остаться без драгоценного груза. Гадаю, чем сдерживать вошедших в раж жеребцов. Кажется, в таких случаях полагается жать на вожжи? Жму… Скачка становится все стремительнее. Начальство молит ехать потише. Теперь уж и мне едва удается сидеть. Что делать? Опускаю поводья, закрываю глаза. Будь, что будет!
Смекалистая скотина, представленная самой себе, уясняет обстановку и быстро сбавляет рысь. Раскрасневшийся командир вытирает пот.
– Уф, ну и лихач! – В мой адрес сыплются комплименты.
Бойцу полагается не теряться. Принимаю похвалы, как должное. Знай наших!
Слава, слава. Сколько пыли поднято колесницей истерии! Несясь к прогрессу, деспоту остается усидеть в седле. Как бы не трясло народ на ухабах, он будет благодарен хотя бы за то, что остался цел.
– Вы всегда с философией! – смеялась Люся, и время мелькало незаметно, пока живописец не оказывался в единственном числе. В помещении вымощенном щемящим одиночеством.
– Сени, сени, сени, – стонали скрипучие стропила.
– Сени-и-и… – неслось в разбитые иллюминатор, и следом ознобом ползла болезнь.
Было так…
Загнутая закорючка гвоздя на заборе сигнализировала безотказно. За Золушкой позволялось забегать. В каморку на третьем этаже. Дожидаться пока отутюжится жакетка. Сопровождать, если не возражали. Разглагольствовать о серьезном и забавном.
– Что же, Левушка, судя по всему вы заделались заправским кавалеристом?
«Ты» и «Вы» Золушка перемежала в одном предложении.
– Собирался… если б не извлекли за «образование» назад в полковую школу. И закрутилось казарменное однообразие: «Подъ-ё-ё-ё-м! Выходи на посто-е-е-ния!»
Летишь пулей, на ходу закатывая обмотки. Опоздал – наряд. Затем зарядка, туалет, завтрак, строевой шаг до самого обеда.
– Раз!.. – Застываешь с поднятой ногой – носок оттянут.
Минуту, другую ждешь желанного: «Два!», чтобы наконец шагнуть.
Обед. Мертвый час. Так называемая «огневая»:
– Лежа. – Одно и то же. – Прицел вчерашний. Замерзай!
Потом уставы, почти как в «Поединке» Куприна. «Лишнее время» – минут пятнадцать для писем. Ужин. Прогулка с песней. Отбой. Час за часом. День за днем…
Гришенька, мой дружок, не выдержав, порывался бежать из жизни. Раздевался на морозе. Но заболеть не довелось. Оставалось виновато улыбаться:
– Нате, режьте меня, ешьте…
Вижу его шагающим, как по пружинам. Без пояса, в растерзанной гимнастерке. От «Академии имени Дорошенко», то бишь нашей школы, до «дома отдыха Земчикова».
История проста: кто-то из наряда стянул на складе сало и сунул не в свою шинель. Нашли у Гриши. Тот отпираться не стал. Вот и получил «строгач» десять суток. Ради товарищества. Отсидел и к себе. Рассказывает. Как дулись в двадцать одно, как пьянствовали, как пустую посуду под скамейку совали, чтоб старшина не нашел.
– Гришенька, мой хороший, дай я тебя оближу, – ласково басил Валька. Ведь взятие вины на себя доблесть не из последних! А вместе с покорностью обстоятельствам весьма смахивает на святость.
– То-то вы не противитесь путешествию. То-то жаждете угождать жене! – не выдержала Золушка. И тут же нежно: – Левушка, слушай, а что если казарменные обязанности сопровождающего не взваливать на себя?
– Поздно. Вещи уложены. Да и из-за здоровья…
– Из-за здоровья! – передразнила Люся. – Ну отправляйтесь и поправляйтесь, если больны… Не думайте только, что очень опечалите. Все же жалко. Повезут узника на привязи. И вообще… как мужчина вы воображения не поражаете. Вот. Возьмите на заметку сию истину. А теперь перестаньте киснуть. Теперь… в порт, смотреть пароход. Договорились?
Сопровождавшему оставалось соглашаться. Шагать. Держать жакетку. Ворошить прошлое и не касаться действительности.
– Напрягите воображение. Представьте подвал с тусклой коптилкой. Десять чувалов мелкого как фасоль картофеля. Всю ночь напролет, после строевых занятий, чистим, чистим, чистим… Девятеро чистят. Десятый читает вслух. «Поединок». Переживаем каждое выражение. Гора содранной кожуры неудержимо растет.
В дверях вырастает командир. Требует стружку потоньше. Колька, наш старшой, поднимается, выставляет спину со всеми выпуклостями с той стороны и, похлопывая округлое ладонью, деловито замечает:
– Ядренность не та… к сожалению.
Дружное ржание приказанья не ждет.
Злить начальство было Колькиным долгом. Коллектив подражал вожаку. Ротку расформировали. Заводил отделили от более покладистых с тем, чтобы отослать подальше.
В день проводов, несмотря на запрет выходить в город, Колька раздобыл спиртное, просватав за самогон сапоги самого старшины. Наполнил зельем бутылки из-под фруктовой воды, взятой в армейском буфете, за ужином удружил каждому по кружке. Захмелели сразу. Завели песни без скромной пресности. У выхода во в двор я угодил на командира. Покачивался и молчал, пока отчитывали. Козырнул и в казарму. Допивать, допевать.
Под утро у нар вырос раскрасневшийся Колька. Прибежал от эшелона, чтобы сообщить:
– Милявский следит за всеми… и выдает. Проболтался на станции такой же стукач…
Больше мы Кольку не видели. Заводил проводили, но традиции рота берегла. Посеянное не тускнело в сердцах. Веснушчатый, голубоглазый запевала не забылся и по сей день.
Да, было так… И казалось, нет повинности непосильнее воинской, а влюбился и понял.
– Поняли? Тогда давайте сюда дареный блокнот. Обновим.
Люся опустилась на скамейку, загнула листок:
У меня к судьбе претензий мало:
Наделила в шутку и всерьез
Понемногу всем… И вот я стала
Той, какую ты с собой унес.
Полуглупой, дерзкой недотрогой…
Надо же такую повстречать!
Обойти б окольною дорогой,
Пробежать, не слушать, промолчать.
Принц цвел неистощимым восхищением и машинально кружил жакетку:
– Это неподражаемо!
– Радуйтесь. Дарю. И помолчите чуть-чуть…
Было так: сыновья – мальчишки,
Ласки милой хорошей жены…
Было довольным…
Самописка на несколько секунд застыла, чтобы уточнить:
…примерным не слишком,
В общем, в меру, как все должны.
Было так…
Но однажды звонко
Сквозняком занесло к тебе.
В сердцевину души девчонку.
Он такой-то… и столько бед!
– Вот. И не особенно косите по сторонам на девиц во время поездки. Не забывайте про свой возраст.
Блокнот захлопнули. Вдали поблескивала игла речного вокзала. У причала маячил предназначенный разлучить пароход.
– В полдень отплытие, а мы тут… Скорее к троллейбусу!
Кросс к остановке. Тряская трасса. Кавалер предлагает даме руку и только тут обнаруживает пропажу жакетки.
– Вот тебе раз! Где же это я ухитрился ее посеять? На вокзале или…
– Не беда, найдется! Я вернусь, посмотрю, поспрашиваю… а вы торопитесь… – ЛЮ делает вид словно не опечалена, словно у нее пруд пруди нарядов, а не одна единственная бархатная куртка. – Не расстраивайтесь. До свиданья!
Левушка послушно зашагал к жене. Лучшее ушло, смешалось с прошлым. Лучшее выпотрошили. Только из блокнота в голову колотило Золушкино:
– Было так… было так…
Интермедия
Притча о происхождении человека все еще не очищена от чертовщины. Ученые предпочитают о чем-то умалчивать, что-то подчеркивать и выпячивать, чтобы получилось по Чарльзу. В результате безжалостного отбора исчезали бронтозавры, развивались змеи, вирусы, словом, все самое совершенное. Только люди, если доверять дотошным археологам, за сравнительно короткий период земного существования поспешили лишиться шерсти и спасительного арсенала естественных средств агрессии. Взамен обзавелись мозгом, и в непозволительном избытке и… заселили всю землю.
Мышь мышонка снабжает сразу же нужной осторожностью. А чему учат «маленьких» человечков? Гуманизму, невзирая на инквизиции. Родословная – безусловно от обезьяны. Той самой, которой взбредилось делать добро и насаждать справедливость. Той, что при жизни нуждалась в сожалении, а почив, дожидалась уважения и подражания.
С тех самых пор до ныне столько раз
Лишались рук, надежд, любви, таланта,
Но вновь и вновь седлают Росинанта,
До блеска начищая медный таз…
Левушка не составлял исключения.
Минуло десять лет. Писем не приносили. Закорючка сигнального гвоздя загнулась книзу. Голубая комната стала серой от пыли. В ней поселилась Грусть. Слонялась из стороны в сторону. Брюзжала по каждой ненужности. Помните у Гёте:
Кто одиноким хочет быть —
Тот будет одинок.
У всех своя любовь и жизнь
И груз своих тревог.
Но я не стал бы одинок,
Когда бы людей покинуть мог,
Ведь от тоски в своей груди
Никто не властен уходить!
Как к милой крадется дружок
Узнать она одна ль,
Так днем и ночью стережет
Меня моя печаль.
Лишь с сердцем стихнет боль в груди.
Ни приходить, ни проходить
Никто не будет, кроме лет…
Но что тому, кто спит в земле?
Рыцарь цитировал и кис. Дульцинея цвела и целовалась за тридевять земель от позабытого сезама…
И вот однажды, притихшими клавишами, с волшебником прошла девушка. Среднего роста, стройная. С каштановым, скошенным у шеи, снопом волос. Лисьей стиснутостью лица. Резкой стремительностью походки. Познакомились на пароходе. Я, естественно, при сем не присутствовала, но рассказы и фантазия позволяют восстановить ситуацию в подробностях.
– Каждодневная водная гладь. Бакены. Огоньки пристаней. Церковки с разноцветными куполами, белыми взлетами колоколов и обязательными галками. Гудки встречных буксиров. Скучающие жертвы супружеской нежности. Азартность, забивающая козла. Бесконечная толчея под транзистор на корме. Сытое похрюкивание выставленных на достопримечательности бинокли. Сверхъестественное пристрастие к столовой. Дьявольское постоянство скуки. И невозможность взяться за рисование, без вздохов: «Как прекрасно!» за спиной.
– Прекрасно!
Живописец инстинктивно поворачивается: точеное личико осчастливлено прочитанным.
– В самом деле? Вы в восторге от книги. Позвольте узнать название.
– Вот, взгляните: «Как хороши, как свежи были розы…» Не правда ли удивительно?
– Свежи? Не завяли за столетие от диктантов? Цветут образцом пунктуации?
– Как можно?! Это же…
– Завитая проза, лишенная ошибок мышления.
– Вы насмешник!
– Всего-навсего брюзжащий художник. Истинно красивое я совсем не высмеиваю, а стараюсь запечатлеть. Вот вас… я бы с удовольствием написал.
– Вы находите, что меня можно изображать?
– Можно тут не подходит. Нужно, понимаете, нужно! Только вот согласитесь ли вы тратить время?
– Время? Мне его некуда девать. Если нужно, посижу с радостью.
– Значит договорились? Тогда приходите в нашу каюту. Она крайняя слева. Простите, а как вас зовут?
– Марина. Это от моря…
– Маришенька-а! Пора ужинать…
– Вот и мама зовет. До свиданья. Завтра к десяти приду.
И зашагала хорошо вымуштрованным аршином Сотрясая сноп не способных на выкрутасы волос.
Марина не преминула прийти утром. Сиденье доставляло ей массу удовольствий. Ее – девчонку – предпочли прочим. Ни на день, ни на два, а на все время пребывания на пароходе. Этюды демонстрировали, что изящная и недурна, вызывая неизменную зависть не удостоенных внимания. А художник, ко всему прочему, оказался словоохотливым и разговаривал как с равной, без обычных поучений, свойственных взрослым.
Внимание мужчин во вчерашней девчонке пробуждало женщину. А милосердие последней поистине безгранично. Они готовы прийти на помощь каждому тоскующему в разлуке.
– Разве вблизи красавицы хуже? Разве вздохам обязательная взаимность? «Бедный ох, а бедному Бог», словом.
С экспансивной непосредственностью Марина следовала за портретистом на все экскурсии по старине. Носилась с ним от памятника к памятнику, лезла в развалины, карабкалась на колокольни, в полутемных лабиринтах отыскивая радость естественных касаний, радость застывания «вместе».
Женщина нуждается в обожании. Неистовом, постоянном. Приносить зарплату – самое простое, но совсем не основное. Позевывание после близости указывает на чрезмерную занятость и отсутствие фантазии. В таком случае чувство мало чем отличается от чистки зубов, а нежность кажется не важнее ужина. Ненасытность ловеласа и успокоенность заскорузлого семьянина – разные стороны прозябания!
Марина инстинктивно догадывалась, что художник рожден для обожания. Что чувство для него нечто чрезвычайное, чему подчинено все. Но не учла, что расточать чары в таком случае ни к чему. Что заменить Золушку даже ненадолго невозможно.
Рейс оборвался в Москве. Обменялись адресами. Студентке предстояла практика в Ольвии. С археологами на раскопках. Оттуда полетели в столицу письма. А теперь вот, проездом, в Ленинград… встреча.
Снова рассказывались всякие истории, снова краски славили молодость. Под самым небом. Вдали от людей. За семью замками. Любовь свалилась на голову. Ждала. Надеялась на догадливость. Ее поблагодарили и проводили до трамвая.
– Кретин… Кретин… – скрипели ржавые двери.
– Кретин, – буркнул старый, видавший виды топчан.
Я тряслась от смеха, но в мою сторону даже не соизволили глянуть. Грусть забарабанила по крыше осенней бессменной россыпью.
Бесовка осень
Вернулась ЛЮ. В Голубую комнату не заглядывала. После отрезвляющего пребывания дома она твердо решила выкинуть всякую блажь из головы. Но блажь тем назойливее лезла, чем чаще ей перечили. Крепиться было просто. До первого повода, до зовущей записки. Но раз звали – самый последний раз! – отказать казалось невозможным.
Увиделись у Звездочки. Просияли. Понеслись к университету на Москву-реку. Взяли лодку. В праздной заводи уключины замолчали. Солнце, с теплой улыбкой, склонившись лицом, слушало:
Я в парке гулял. Вдоль тенистых дорожек,
Средь зелени, тронутой осенью ранней.
И сердце, тоскуя, отправилось тоже
Тропою тернистою воспоминаний.
Шагало под хлесткими взмахами веток.
Осколками счастья до боли кололось.
На золоте локонов бабьего лета
Дрожал паутины серебряный волос…
Грустная повесть заждавшегося прерывалась пожатием руки, восторженным шепотом:
– Левушка, родной мой!
Наконец из сердца вырвалось признание:
Милый, любимый, слышишь ли? Слушай!
Клятв давать тебе не намерена,
Я не хочу их потом рушить,
Нужно без клятв, чтоб друг другу верили.
Слышишь? Люблю тебя очень-очень
Сильной душою, горячим сердцем,
Брови седые не хмурь озабоченно.
Слышишь? Люблю тебя! Веришь? – Не верится.
Сильный, громадный, до чертиков гордый,
Весь отдаешь себя мне навечно…
Встать, опереться на руку твердую? —
Сколько оставим мы ран незалеченных?
«Ран незалеченных…» – это стучало в уключинах, это мешало шагать, это требовало расстаться. А бесовка Осень рассыпала соблазны, звала в бездну неизведанного.
Левушка страстно доказывал, что «раны» со временем зарастут. ЛЮ остудила пыл:
– Давайте не бередить души! Давайте о другом. Ведь Новодевичка рядом, а вы про грех… Возвращайтесь к товарищам. Воскрешайте прошлое.
– Прошлое? Оно не слишком утешительно. Мы маршировали, когда стряслась Финская. Тимошенко сменил Ворошилова. Из казарм убрали кровати. Выстроили в два яруса нары. Черный теперь резали по порциям. На все жалобы отвечали: «А как же в бою?»
Потом поделили Польшу и Молотов целовался с Риббентропом. И к нам прислали пополненье из Закарпатья. Все «присоединенные» носили крестики. В том числе и скрипач, окончивший консерваторию в Варшаве. Скрипачу тотчас вручили барабан.
А я стал полковым оформителем. Улизнул-таки в клуб от чинов. В мое ателье прятался при случае скрипач, извлекал привезенную скрипку, отводил душу, играл. Утомившись, расспрашивал, как я отношусь к Евангелию. Что я мог отвечать, если не читал оттуда ни строчки?
А в порабощенной Европе зловеще лязгала сталь, предвещая Отечественную. Мрачнели лица товарищей. Только Молотов продолжал улыбаться, подписывая пакты. И согласно подписанному, слали и слали в ненасытную пасть: нефть, лес, пшеницу…
Нет, к черту прошлое! Глядите, как расплясалась Осень. Вернемся к действительности.
– К действительности? Не обольщайтесь на сей счет, действительность предписывает расстаться!
– Почему? Почему? Разве мы обязаны сами себя казнить?
– Но и близкие не обязаны из-за нас казниться. И помолчите чуть-чуть… – ЛЮ провела ладонью по лицу Левушки и, словно освобождаясь от тяжести, начала читать:
Ветер кружит и кружит бесом,
Листья пьянеют в предсмертном танце…
…Может, и впрямь оно к лучшему, если
Видеться даже раз в год не пытаться?
Знаю, придешь, позову – услышишь,
Сердцем дотянешься через преграды.
Встречи – зачем? Может, впрямь, они лишние:
Нам ведь для счастья большего надо.
Двое решают одини из вопросов —
Жизненно важный, каких немного…
…Пляшет, хохочет бесовка Осень,
Рыжие космы стелет под ноги.
Осень плясала, тряся соблазнами. Так и не осилив предписания расстаться. И художник провожал. Провожал, без надежды даже на отдаленное свиданье. ЛЮ теперь временно обитала у тетки, где-то под Кунцево. Значит, закорючкой гвоздя нельзя уже было сигналить. Обрывалась и переписка…
А солнце село. И рыжие космы Осени стали совсем серыми. А подошвы все шли и шли. Лезли через насыпь, с кричащими электричками. Спускались, сворачивали, чтобы замереть наконец у корпусов на пустыре.
– Прощай, Левушка…
И словно по команде грустные носы соединились и утонули в слезах. Носам было самим до себя. Они забыли про осень, забыли про все на свете. Их щемило общее несчастье. Они захлебывались в общей солености, бегущей со щек.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































