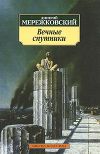Текст книги "Собрание сочинений в 20 т. Том 8. Вечные спутники"
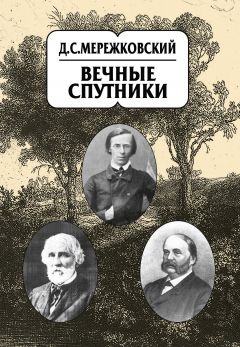
Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 37 (всего у книги 38 страниц)
В 1899 г. «Вечные спутники» вышли вторым изданием. Ее переиздание отметил в обширной рецензии Д.Н. Овсянико-Куликовский, полагавший, что успех первого издания был вполне заслуженным. Мысль Мережковского о том, что некоторые произведения растут вместе с человечеством и каждое новое поколение по-новому прочитывает и оценивает их, показалась рецензенту продолжением мысли А.А. Потебни о художественных образах как «постоянных сказуемых к различным друг друга сменяющим подлежащим». Поддерживая Мережковского, сумевшего показать, как вечные образы мировой литературы функционируют по-разному в свое время и в конце XIX века, Д.Н. Овсянико-Куликовский оспаривает правомерность отождествления писателя и его образов, которые только и могут быть «вечными спутниками»[196]196
Овсянико-Куликовский Д.Н. Библиография. С. 338.
[Закрыть]. Автор рецензии самой удачной в книге считал статью о Сервантесе, а самой слабой – статью о Пушкине, в которой Мережковский дошел до «субъективного произвола». «Мы не узнаем не только Онегина, Татьяну и других персонажей Пушкина, – восклицает рецензент. – Мы не узнаем также и самого Пушкина. Вместо гениального поэта с обширным, глубоким и необычайно ясным умом мы видим какого-то туманного символиста, который создал бледные символы неясных идей». Несмотря на серьезные возражения, высказанные Овсянико-Куликовским, он видел в этой книге «ценный вклад в нашу критическую литературу»[197]197
Овсянико-Куликовский Д.Н. Библиография. С. 341.
[Закрыть].
Сам Мережковский иногда возвращался к «героям» «Вечных спутников». Скажем, в книге «Л. Толстой и Достоевский» он упоминает о Пушкине, ссылается на его Пушкинскую речь, находит в ней сходные идеи и ею запоздало оправдывается перед своими критиками: «Меня обвинили в том, что я приписываю Пушкину мои собственные, будто бы “ницшеанские” мысли <…> Мои судьи, если бы они желали быть последовательны, должны бы обвинить и Достоевского в том, что он приписывал Пушкину свои собственные мысли»[198]198
Мережковский Д.С. Л. Толстой и Достоевский. С. 11.
[Закрыть]. Мережковский углублял свою концепцию и в других статьях, в том числе «Праздник Пушкина» (1899), в книге «Грядущий Хам» (1906), в статье о Лермонтове (1909), возвращался к образу Пушкина и в эмиграции. Пушкин, действительно, был его «вечным спутником». Фрагменты его стихотворений, реминисценции, выдержки из статей и писем, отдельные высказывания, наконец, пушкинские образы наполняли произведения Мережковского. Ими он пояснял собственные мысли, к ним обращался как к авторитетному свидетельству собственной правоты. В 1899 г., в год пушкинского юбилея, Мережковский опубликовал статью «Праздник Пушкина», в которой дал резкую оценку юбилейных торжеств по случаю столетия поэта. Именно в ней Мережковский откликнулся на рецензию Спасовича: «Вчера Спасович доказывал, что свидетельства современников о мудрости Пушкина – ни на чем не основанная легенда, что у него – поверхностный, заурядный ум, неспособный дать его поэзии значение всемирное». К его голосу присоединились такие разные люди, как В. Соловьев и Л. Толстой, осуждавшие Пушкина за его легкомысленность. И только в юбилейные дни оказалось, что ведомые Сувориным русские люди хотят воздать Пушкину невероятные почести: «колокольный звон, русские флаги, пушечная стрельба, и сорок тысяч министерских бюстов, и суета академий, и пушкинские велосипедные гонки, и пушкинский шоколад, и лото или карты – “смерть Пушкина”, и рождение Пушкина с облаками, амурами, громами и молниями»[199]199
Мережковский Д.С. Праздник Пушкина // Мережковский Д.С. Эстетика и критика. Т. 1. С. 542, 544.
[Закрыть]. Раздражение Мережковского тем, что происходило вокруг имени Пушкина в те годы, вылилось и в письме В.Я. Брюсову от 1 сентября 1903 г., которого он приглашал дать статью о Пушкине в «Новый путь»: «В этом направлении полемика нам чрезвычайно желательна. Я глубоко сочувствую Вашему реализму и любви к подлинному Пушкину и считаю царствующий академический идеализм (в котором и сам отчасти повинен – см. – «Вечн<ые> спутн<ики>») просто мертвечиной, мерзостью запустения. Хотел бы даже написать в Вашу защиту заметку по этому поводу о теперешнем литературном лицемерии и хамстве. Да, Пушкин сделался идолом тех же хамов, которые возвели на престол Максимку Смердящего»[200]200
Мережковский Д.С. Записные книжки и письма / Публ. Е. Андрущенко и Л. Фризмана // Русская речь. 1993. № 5. С. 29.
[Закрыть]. Как и в статье «Пушкин», Мережковский осознавал великого поэта сторонником нового художественного движения, у истоков которого стоял сам.
III
Между первым изданием «Вечных спутников» и их выходом в составе Полного собрания сочинений Мережковского в петербургском издательстве М.О. Вольфа прошло почти пятнадцать лет. Однако история издания этой книги перерывов практически не знает. С 1906 по 1908 г. М.В. Пирожков выпускал статьи отдельными брошюрами, причем большими тиражами («Ибсен», например, – 10 000 экземпляров), а в 1910 г. издательство «Общественная польза» снова издало книгу целиком. Мережковский включил «Вечные спутники» в XIII том Собрания сочинений в изд. М.О. Вольфа, исключив статью «Дафнис и Хлоя». Когда в 1914 г. И.Д. Сытин предпринял издание нового собрания его сочинений в 24 томах, Мережковский включил в него «Вечные спутники» в значительно измененном виде. Место статьи «Дафнис и Хлоя» заняла написанная в 1899 г. статья «Трагедия целомудрия и сладострастия»[201]201
Впервые: Мир искусства. 1899. Т. 1. № 78.
[Закрыть]; между статьями «Сервантес» и «Монтань» он поместил статью «Гёте», публиковавшуюся в 1913 г., а в число статей о русских писателях ввел статью «Тургенев», впервые опубликованную в газете «Речь» в 1909 г.[202]202
Впервые: Речь. 1909. № 51. 22 февраля.
[Закрыть] Таким образом, количество статей с тринадцати увеличилось до пятнадцати. В XVII томе печатались статьи о деятелях мировой культуры, в XVIII – о русских писателях.
Изменение состава книги было связано с эволюцией взглядов Мережковского, с окончательным оформлением его историософской концепции. В ней имена Гёте и Тургенева заняли такое же место, как Достоевского и Пушкина. Однако весь предшествующий опыт Мережковского как истолкователя русской литературы свидетельствовал, что без Гёте у него не складывалась характеристика движения и развития вечных идей мировой культуры, а Тургенев, о котором он говорил в связи с идеей вечной женственности, стал воплощением примиряющего и гармонизирующего начал литературы русской. Статья «Трагедия целомудрия и сладострастия» заменила статью «Дафнис и Хлоя» не только в связи с переоценкой значения этого романа: она перенесена в том, где публиковались другие переводы Мережковского. Статья об «Антигоне», перевод которой был сделан Мережковским, стала своего рода послесловием к постановке этой трагедии на сцене Московского Художественного театра 12 января 1899 г. Вместе с тем Мережковский предварял новую постановку – трагедии «Ипполит» Еврипида, которая, как оказалось позднее, стала осуществлением его мечты о создании нового мистериального театра. Сопоставляя
Софокла с Эсхилом и Еврипидом, он замечал близость последнего современному поколению зрителей, «людей с душами, едва пробудившимися к сознанию, еще такими же раздвоенными, как душа Еврипида. Так же, как он, мы поняли, что трагедия мировой жизни заключается в окружающей, в проникающей нас великой борьбе двух начал; так же, как он, увидели, что говорить о ней можно только символами». Мысль о постоянном противоборстве в мировой культуре целомудрия и сладострастия получила развитие в статье «О новом значении древней трагедии» (1902), в которой борьба этих двух начал представлена в контексте русской литературы. Близость Еврипида христианским чаяниям новых поколений Мережковский подкрепляет таким неоспоримым свидетельством, как изображение древнего трагика под ликом Спасителя в Вяжицком монастыре в храме святого Николая: он «как будто за много веков прозревал неведомое новое учение и носил его в душе своей». Однако Еврипид в его концепции «прозревает» не столько христианство, сколько «новое религиозное сознание»[203]203
См. также: Якимова Ж.В. Д.С. Мережковский о древнегреческой трагедии в связи с постановкой его переводов пьес Софокла и Еврипида на Александринской сцене // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2008. № 69. С. 333–336; Успенская А.В. Еврипид в переводах Мережковского // Университетское переводоведение. СПб., 2005. Вып. 6. С. 439–449.
[Закрыть]. В середине 1910-х гг. в драме Мережковского «Будет радость» обнажаются «два вечные начала мира, Аполлона и Диониса», вновь борются Афродита и Артемида, избирая полем своей борьбы человеческие души. В пьесе возникает образ новой Федры, которую «сжигает своим дыханием» и «губит» богиня сладострастия, и образ целомудренной Кати, которые находятся «в вечной борьбе». В пьесе возникает и тургеневская тема: одна из героинь является носительницей того начала, которое Мережковский считал ведущим в творчестве Тургенева, в ее репликах слышатся отголоски статьи Мережковского о нем.
Впервые образ Тургенева, «более друга, чем наши друзья», и «более родного, чем наши родные», появился в статье, посвященной десятилетию со дня смерти писателя[204]204
Мережковский Д.С. Памяти Тургенева // Театральная газета. 1893. № 14.
[Закрыть]. Тургенев представлен в этой статье художником, влюбленным в красоту и мировую культуру, но художником противоречивым, в котором живут две «противоположности»: «коренной русский человек» и западник; служитель красоты и защитник народа; искренне верующий и вместе с тем сторонник научного знания. В книге «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» образ Тургенева раскрывается полнее: он не только автор прекрасных произведений, но и провидец, предчувствовавший упадок русской литературы и противостоявший ему. Свидетельство этого – его предсмертное письмо Толстому. А в книге «Л. Толстой и Достоевский» образ Тургенева постоянно сопровождает характеристику Толстого: они враги, и Тургенев в ссоре с Толстым оказывается более благородным, более привлекательным. Характеристика музы Тургенева никогда не была в статьях Мережковского сколько-нибудь полной: он лишь в нескольких словах высказывается о наиболее существенных чертах его таланта, сравнивая его с другими русскими художниками. И только в статье «Тургенев» Мережковский представляет образ писателя, занявший свое место в его концепции, в сопряжении с русской историей, культурой и религиозно-философскими поисками.
Если сравнивать эту статью с теми, которые были написаны в конце века, видно, какую значительную эволюцию пережил Мережковский. Это уже не тот восторженный молодой критик, который призывал читателя не думать, не рассуждать и не спорить с ним. Он уверенно ведет читателя за собой, открывая ему новые, поистине неизвестные грани таланта Тургенева. Обращает на себя внимание и то, как меняется стиль Мережковского: он пишет почти тезисами – короткими предложениями, небольшими абзацами. В подобном стиле в эмиграции писались его историософские исследования. И мысль Мережковского развивается от тезиса к тезису – противопоставление Тургенева Л. Толстому и Достоевскому; его характеристика как «гения меры и, следовательно, гения культуры», затем – как гения западной Европы, которая именно в Тургеневе «почувствовала», что «Россия тоже Европа», и, наконец, определение, что такое «мера всех мер», красота: «В созерцании осуществляется красота как искусство, эстетика; в действии, в трагедии – как любовь, влюбленность». Назвав Тургенева «поэтом красоты и влюбленности», Мережковский рассматривает его произведения сквозь призму этой идеи. Участь тургеневских девушек символизирует для него неисполненность «заповеди о браке, о совершенном соединении двух в одну плоть» и недостижимость «прославленной плоти». «Потому-то и является в браке третья личность – ребенок, что две первые – отца и матери – как бы умирают, убывают, ущербляются в похоти, – пишет он. – И задача неисполненной любви, непрославленной плоти передается от одного поколения к другому, как зажженный факел из рук в руки; и череда поколений – череда бегущих факелоносцев». Именно потому творчество Тургенева оказывается ближе современному поколению русских интеллигентных людей, что его наследие прикасается к тайне неисполненного сверхисторического христианства, в котором, по мысли Мережковского, исполняется заповедь «кто может вместить, да вместит». В этом «вселенском христианстве» осуществится мечта о Христе в миру, «неузнанном, неназванном Женихе человеческой плоти, всемирной культуры». Позднее, уже в 1914 г., Мережковский назвал Тургенева «поэтом вечной женственности», и мысль об объединяющем пафосе творчества писателя звучит еще настойчивее. Перед лицом всемирной катастрофы, «национализма звериного образа» Мережковский призывал к возвращению чувства меры, «ибо что такое культура, как не измерение, накопление и сохранение ценностей?»[205]205
См. также: Коптелова Н.Г. И.С. Тургенев в восприятии Д.С. Мережковского (1890–1900 гг.): Статья первая // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2004. № 3. С. 78–83; Коптелова Н.Г. И.С. Тургенев в рецепции Д.С. Мережковского // Актуальные проблемы истории, теории и преподавания литературы. Самара, 2008. С. 202–218.
[Закрыть].
В 1913 г. Мережковский опубликовал статью «Гёте». Как уже говорилось, он переводил отрывки произведений поэта, а «Разговоры Гёте» Эккермана были его настольной книгой. Следы значительного воздействия личности Гёте на Мережковского видны и в ранних статьях, и в произведениях зрелых лет. Размышляя о нем на протяжении долгого времени, Мережковский написал о Гёте отдельную статью уже перед мировой войной, когда в свет выходили, в сущности, его последние статьи о русской литературе. После нее были опубликованы только «Горький и Достоевский», «Суворин и Чехов», а также статьи о Тютчеве и Некрасове, тогда же собранные в книгу «Две тайны русской поэзии». Это тем более обращает на себя внимание, что слово и личность Гёте оказываются в поле зрения автора в книге «Л. Толстой и Достоевский», а в статье «Пушкин» между русским поэтом и Гёте проводится много содержательных параллелей. Тем не менее только к 1913 г. интерес к Гёте, потребность написать о нем осуществились в форме отдельной статьи. При ее подготовке Мережковский делал выписки из «Разговоров Гёте» Эккермана в переводе Д.В. Аверкиева, текст которого не совпадает с позднейшими переводами этой книги, и составил план будущей статьи. В целом она и написана согласно плану: облик Гёте, его «вечная юность», Наполеон и Гёте, спор о происхождении видов, Гёте и христианство и, наконец, значение «явления Гёте для нас, русских». Некоторые тезисы плана в статье заняли иное место. Например, «смерть Гёте» изображена в начале, а не в конце статьи, как планировалось, там, где Мережковский говорит о нем как о «совершенном человеке». Выписки из «Разговоров» помещены под заголовком «Мелочи для вступления», однако цитаты из этой книги и размышления, возникшие у Мережковского в ходе ее чтения, использованы для всей статьи в целом. Концепция «явления Гёте», выраженная в ней, связана с мыслью Мережковского о «сверхчеловеческом» в мировой культуре.
Объяснение того, что понимается под этим словом, трудно вывести только из статьи о Гёте, – Мережковский пишет кратко, почти афористично, больше намекает, чем объясняет. Однако в других исследованиях, в том числе «М.Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества», в статье «Байрон» имя «великого язычника» стоит в одном ряду с Наполеоном, Лермонтовым и Байроном. Все они осознаются Мережковским явлениями «сверхчеловеческого»: «Байрон – одна из вершин горного хребта, поднятого землетрясением Великой Революции. Наполеон, Гёте, Байрон, Лермонтов – от нас далеко уже эти вершины <…> Но блуждая, сделали круг и вернулись туда, откуда ушли. И вот опять встают вершины вечные – вечные спутники»[206]206
Мережковский Д.С. Байрон // Мережковский Д.С. Было и будет. Дневник. Пг., 1915. С. 15.
[Закрыть]. Так писал он в статье «Байрон». В статье о Лермонтове рождается другой образ: «Кажется, эти люди не совсем люди, – только пролетают через наш земной воздух, как аэролиты… брошенные откуда-то вниз или вверх (где «верх» и «низ», мы не знаем, тут наша земная геометрия кончается)». Эти люди не могут быть измерены даже «геометрией Лобачевского, геометрией четвертого измерения»[207]207
Мережковский Д.С. М.Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества // Мережковский Д.С. В тихом омуте. Статьи и исследования разных лет / Сост. Е.Я. Данилова. М.: Советский писатель, 1991. С. 393, 404.
[Закрыть]. Не случайно Мережковский так много говорит об их глазах. «Но вот эти глаза, черные, ясные, зоркие, – глаза человека, который видит “на аршин под землею”. “Орлиные очи”. Невероятно, до странности, до жуткости молодые, – в старом-старом, древнем лице <…> В этих нестареющих глазах что-то демоническое». Так описываются глаза Гёте. А вот глаза Лермонтова, «большие и неподвижно-темные», имевшие «магнетическое влияние»: «Иногда те, на кого он смотрел пристально, должны были выходить в другую комнату». Впечатление, которое он производил, передается так: «в человеческом облике не совсем человек; существо иного порядка, иного измерения; точно метеор, заброшенный к нам из каких-то неведомых пространств»[208]208
Там же. С. 392.
[Закрыть]. Подобное впечатление оставляет у него и Гёте: «Да, сверхчеловеческое – в этой юности… Как будто выпил, подобно Фаусту, эликсира вечной юности. Не умственное, не нравственное убеждение, а физическое чувство бессмертия. И другим, глядя на него, а может быть, и ему самому, приходит в голову странная мысль: полно, умрет ли он когда-нибудь? Он чувствовал не так, как мы. Он сидел, как высшее существо». В словах Гёте Мережковский находит подтверждение собственного понимания личности Наполеона: «Он – существо демоническое в такой высокой степени, что с ним нельзя сравнивать никого». Близость Гёте и Наполеона, то, что они «узнали друг друга» как «близнецы неразлучные», дает Мережковскому основание считать «встречу их неслучайной; они должны были встретиться, – великое созерцание с великим действием». Он вспомнил об этой встрече и в поздней книге о Наполеоне, где вновь возник известный уже образ: «Почему стремительный бег за ним человеческих множеств – “как огненный след метеора в ночи”?»[209]209
Мережковский Д.С. Наполеон // Мережковский Д.С. Данте. Наполеон / Сост., ред., подг. текста О.А. Коростелева и А.Н. Николюкина; Вступ. ст. А.Н. Николюкина. М.: Республика, 2000. С. 255.
[Закрыть].
Текст статьи о Гёте построен как комментарий к «Разговорам». В черновых записях Мережковский пометил: «Разговоры Гёте – самая здоровая, самая целительная из книг… Если бы спросил ни во что не верующий и потерявший смысл жизни человек, какую книгу читать, – я бы сказал – Разговоры Гёте». В статье этот тезис уточняется: «Если бы человек неверующий спросил меня, какую книгу прочесть, чтобы найти смысл жизни, – я указал бы ему на разговоры Гёте… Лучшее лекарство для самоубийц: может быть, многие отложили бы пулю и яд, если бы прочли эту книгу как следует». Выписывая из «Разговоров» высказывания Гёте, Мережковский предлагает взглянуть на них с точки зрения человека нового поколения, понимающего, например, значение июльской революции 1830 г. или способного окинуть взором опыт исторического христианства. Гёте почти не замечает их: важнее революции для него спор о происхождении видов, а «поклоняясь Христу, он проходит мимо Него». Однако такой взгляд всего Гёте не открывает: Мережковский утверждает, что «религия Гёте не совпадает с христианством». Это дает ему возможность представить его как еще одного из пророков новой «религии Духа»: «Кажется, Гёте это предчувствовал больше, чем кто-либо». Его религия, кроме того, есть и «пророчество о том, что в современном человечестве убыль религиозного духа временна и что прибыль его неминуема». В заключение статьи Мережковский сопоставляет Гёте и Л. Толстого, символизирующих, по его мнению, два совершенно различных принципа: деятельность, просвещение у Гёте; опрощение, «созерцание, неделание» – у Толстого. Л. Толстой и Гёте, говорит он, «два сторожевых изваяния в преддверии двух веков, двух миров. Кому из них отдаст человечество сердце свое?.. Во всяком случае, для нас, русских, во Л. Толстом – соблазны бесконечные, и не победит их никто, кроме Гёте».
Статья о Гёте значительно отличается от статей, окружающих ее в книге. И интонация, и стиль, и способ работы с цитатами, и форма их комментирования свидетельствуют о зрелости исследователя. Вместе с тем это исследователь, подошедший к материалу с определенной целью, ищущий именно тех выводов, которые известны ему заранее. Этим объясняется и большая, чем в других статьях, публицистичность: Мережковский в 1910-е гг. к событиям общественно-политической жизни подходит с новых позиций, которые и сказываются в упреках, бросаемых в этой статье Л. Толстому, и в намеках на грядущее осуществление «религии не Отца и не Сына, а Духа»[210]210
См. также: Коренева М.Ю. Д.С. Мережковский и немецкая культура: Ницше и Гёте. Притяжение и отталкивание // На рубеже XIX и XX веков: Из истории международных связей русской литературы. Л.: Наука, 1991. С. 44–76.
[Закрыть].
IV
А.А. Блок, размышляя о Мережковском, писал о его отличительной особенности быть во всем, что он писал, прежде всего, художником. Об этом «свидетельствуют не только многие образы его романов, но также самые на первый взгляд прозаические страницы его критических статей. Когда он с подробной брезгливостью исчисляет стилистические грехи Леонида Андреева, когда говорит, что “без русского языка и русской революции не сделаешь”, когда цитирует два-три стиха (и редко больше) какого-нибудь поэта, когда бросает вдохновенное слово о звездах, видимых днем только в черной воде бездонных колодцев, – в нем говорит художник брезгливый, взыскательный, часто капризный, каким и должен быть художник»[211]211
Блок А.А. Мережковский // Блок А.А. Собр. соч.: В 8 т. / Под общ. ред. В.Н. Орлова, А.А. Суркова, К.И. Чуковского. М.; Л.: ГИХЛ, 1962. Т. 5. С. 364–365.
[Закрыть]. Г.В. Адамович вскоре после столетнего юбилея со дня его рождения, напротив, затруднялся установить, «был ли он большим писателем»: «На первый взгляд как будто бы – да, бесспорно. Тридцать или сорок книг, огромные темы, широчайший размах: иллюзия величия полная. Но разгадка этой иллюзии кроется в эпохе и в ее особых свойствах, которые к внешнему, обманчивому величию склоняли… Само по себе его болезненное влечение к безднам и тайнам не может, конечно, служить мерилом для определения его значения и дарования. В лучшем случае это – лишь черта для его характеристики. Он был редкостно талантлив. Но в чем, где, как? Ответить крайне трудно. Талантливость была какая-то неопределенная, расплывчатая, ощущавшаяся скорее при встречах, чем при чтении… Да, он был редкостно и причудливо талантлив». При этом, замечает Адамович, «словарь Мережковского скуден до крайности: впечатление такое, будто в его распоряжении всего только несколько слов, которые он более или менее механически переставляет»; его писания «бескровны», овеяны холодом, и в них «исключительность его натуры отразилась туманно и бледно». Но «от некоторых слов его, от некоторых его замечаний или речей чуть ли не кружилась голова, и вовсе не потому, чтобы в них были блеск или остроумие, о нет, а оттого, что они будто действительно исходили из каких-то недоступных и неведомых другим сфер»[212]212
Адамович Г. Мережковский // Адамович Г.В. Сомнения и надежды. С. 58–59, 60.
[Закрыть].
Думается, судить о своеобразии его дарования только по книге «Вечные спутники», даже учитывая эволюцию, которую пережил ее автор от «Флобера» до «Гёте», было бы неверно. В его наследии есть и более совершенные литературно-критические и публицистические статьи, им написаны оригинальные трилогии и историософские исследования, которые открывают и другие, не менее интересные стороны его таланта. Однако именно в «Вечных спутниках» отразилось то, что определило облик Мережковского[213]213
См. также: Журавлева А.А. «Вечные спутники» Мережковского как образец субъективной критики // Вестник Челябинского государственного университета. Сер. 11: Журналистика. 2005. № 1. С. 99–108; Сарычев Я.В. «Субъективная критика» в системе теоретических и художественных исканий Д.С. Мережковского // Русская литературная критика Серебряного века. Новгород: Новгород. гос. ун-т, 1996. С. 73–77.
[Закрыть].
Он отличался от своих предшественников, да и многих писателей своего поколения, прежде всего тем, что питало его вдохновение и творческую энергию. Это были не люди, не течение человеческой жизни, не «отражение действительности», а книги, произведения искусства, цивилизации прошлого. «Я понимал, что никакими книгами, никакими словами нельзя передать эллинского духа», – признается он в «Акрополе». На самом деле, именно книги, слова и их «неведомые сочетания» вызывали в нем отклик. Он говорит о них так, как другие писатели пишут о характерах своих героев: «Эта книга – живая… Раз она затронула сердце, ее уже нельзя не любить» (о «Дневнике» Марка Аврелия); «Линии, краски, игра теней и света, формы цветов и растений, пение птиц – все здесь естественно, неправильно и беспорядочно. При виде громадных деревьев, мешающих друг другу, обыкновенному философу-строителю, наверное, пришло бы в голову практическое соображение: хорошо бы срубить все деревья, распилить на доски, бревна и построить по всем правилам архитектурного искусства симметричное здание метафизической системы, где все ясно и понятно, где нет возможности заблудиться» (об «Опытах» Монтеня). Восхищаясь книгой, разглядывая старые переплеты, любовно перебирая страницы, вчитываясь даже в подстрочные примечания и приложения, которые нередко значили для него столько же, сколько сам текст, Мережковский возмущен тем, что «русское общество до сих пор не имеет своего мнения о книгах». «И если взоры людей невольно обращаются назад, к великим произведениям древности, со смутной надеждой найти в них звуки наших дней, – восклицает он, – почему не дать им то, в чем звуки эти яснее и совершеннее, почему не показать живую связь прошлого с будущим без прикрас, уступок и смягчений?» В «Вечных спутниках» Мережковский и предпринимает попытку дать своим читателям то, в чем, по его мнению, звуки прошлого слышатся отчетливее. Это Флоренция, в которой «благодаря солнечному свету, чистому и нежному» и благодаря воздуху, «мягкому и прозрачному», все предметы кажутся созданными из «драгоценного вещества». Во Флоренции живет еще атмосфера тех мастерских, в которых «распустились редкие цветы человеческого гения». В Афинах его внимание привлекает даже «голая стена», поверхность которой «так нежно отполирована», что и в ней «вы чувствуете печать эллинского гения». Прошлое звучит и в репликах персонажей древней греческой трагедии, которую возрождает Мережковский. Его слушатели, читатели и зрители, неожиданно для него самого, «любопытствовали и шли в театр» в «смутном желании что-то понять», «обратить взоры в ту сторону, куда прежде вовсе не смотрели». И пусть переводчик недоволен уменьшением значения хоров в постановке, «младенческим» вкусом зрителя, которому театр вынужден потакать, он рад самой возможности услышать со сцены «пророчества древнего эллина». «Все мелочное, временное уходит со временем, – пишет Мережковский, – остается лишь вечное, и ясною должна быть только цепь, соединяющая наши помыслы и желания с душой великого поэта и пророка».
Этот взгляд на культуру своеобразно воплотился в личности самого Мережковского, в котором Г.В. Адамович, например, слышал «музыку», «какую-то странную, грустную, приглушенную, будто выхолощенную», и «вечное», выразившееся в его потребности «духа в чистом виде, без плоти, без всего, что в жизни может отяжелить дух при попытке взлета»[214]214
Адамович Г. Зинаида Гиппиус // Адамович Г.В. Сомнения и надежды. С. 62.
[Закрыть]. Чтобы звуки минувшего и сочетания слов стали внятными, Мережковский передает их через собственные впечатления. «Я затаил в душе моей сомнение…», «я искал прежних впечатлений», «сердце мое пробудилось», «я чувствовал себя молодым, бодрым, сильным», «я смотрел и вспоминал». Когда Мережковскому надо передать важность описываемого не только для него самого, но и для его современников, он говорит: «вообразите себе», «мы поняли», «у нас не хватает духу», «мы снова можем надеяться», «мы видели», «мы уже теперь это знаем». Он то и дело восклицает и спрашивает, не требуя ответов на свои вопросы: «А мы, не трудящиеся, не стремящиеся, чем спасемся?» – или: «Что следует из этого рокового закона жизни, из необходимого смешения добра и зла?». Но чаще Мережковский предлагает читателям готовые формулы, почти афоризмы, выдающие и его собственное отношение. «Люди здесь к природе ничего не добавили своего», – пишет он об Афинах. «Таково человеческое сердце: оно не может достигнуть полного спокойствия и мудрости, потому что оно не может не любить», – о Марке Аврелии. «Древние – истинные дети солнца», – о Плинии. «Сила побеждает, а величайшая сила жизни – воля» (статья «Кальдерон»), и т. д.
Мережковский характеризует эпоху, о которой он пишет. Но упоминаемые им исторические события и имена представлены не в сухой хронологии и строгой последовательности, а в сопоставлении с жизнью природы или жизнью искусства. Время Марка Аврелия – это «недолгий перерыв, глубокое затишье между двумя бурями», и тут же: «Бывают осенние дни, когда летние грозы прошли, а поздние ненастья еще не наступили – когда в туманном воздухе, в мягком, бледном свете солнца царит усталость, нежная грусть и успокоение, как будто примирение со смертью…». Эпоха Плиния подобна наступающей осени. «Так, входя в осенний лес, – пишет Мережковский, – чувствуешь иногда в прохладном живительном воздухе зловещий и нежный запах, аромат увядающих листьев». Достоевский жил «среди нас» во время сложное, «мучительное», и «не бежал от наших мучений, от заразы века», как и Ибсен. Норвежский драматург пережил эпоху «грубого торжества военной Пруссии, торжества цинического и самодовольного милитаризма», когда и речи не было о свободе человеческого духа.
«Герои» Мережковского, как правило, не соответствуют своему времени, порой даже противостоят ему. Это сказывается и в их внешности, и образе жизни, привычках, круге чтения и интересов, в отношениях с людьми, в отношении к Богу. Вот Марк Аврелий, своим видом походивший «на своих учителей: простая скромная одежда, небрежная прическа, истощенное тело, глаза, утомленные работой». Вот Кальдерон: «На груди – ордена св. Жака и Калатравы. Спокойные черты, седая борода, строгое, почти надменное выражение губ, и во всей наружности что-то властительное, указывающее на привычку повелевать: видно, что это старый воин, что ни созерцание поэта, ни смирение монаха не уничтожили в нем мужества и воли». Гёте – «в длиннополом сером сюртуке и белом галстуке, с красной орденской ленточкой в петлице, в шелковых чулках и башмаках с пряжками, старик лет 80-ти. Высок и строен; так величав, что похож на собственный памятник. Редкие седые волосы над оголенным черепом; смуглое, свежее лицо все в глубоких складках-морщинах. Углы старчески-тонкого, сжатого и слегка ввалившегося рта опущены не то с олимпийскою усмешкою, не то с брезгливою горечью». Пушкин – «простой, веселый, менее всего похожий на сурового проповедника или философа, – этот беспечный арзамасский “Сверчок”, “Искра”, – маленький, подвижный, с безукоризненным изяществом манер и сдержанностью светского человека, с негритянским профилем, с голубыми глазами, которые сразу меняли цвет, становились темными и глубокими в минуту вдохновенья».
Чтобы показать их в противоречии со своей эпохой, Мережковский прибегает к противопоставлениям. Марк Аврелий издает «кроткие законы», чтобы уничтожить «кровавые зрелища». В «шумном амфитеатре радостные крики народа приветствовали смерть гладиаторов» в то время, как новое законодательство разрабатывается «в тишине кабинетов». В диких варварах император уважал человеческое достоинство. Был философом и не любил войну, но «из чувства долга сделался великим полководцем». Даже вынужденный командовать войсками, Марк Аврелий и там не оставляет своих занятий. Монтень тоже чужд своему времени, но противоречие между мыслителем и его эпохой показано иначе. Монтень, согласно Мережковскому, «вечный зритель», и это помогает ему не быть непосредственным участником событий, а видеть их со стороны: «С громадным запасом чисто французской веселости и общечеловеческого здравого смысла, он так хорошо изучил комическую сторону всех крайностей и увлечений, что сам уже не способен попасться на удочку». Гёте опередил свое время. Его научные и художественные открытия сделали его человеком будущего. Свой век он оценивает с недосягаемой высоты своего гения и зачастую оказывается неспособным понять значение происходящих вокруг него событий. Их не понимает, но уже по другой причине, и Сервантес. Он прославляет «фанатика-короля за проявление неслыханного деспотизма» и «как плохой политик, старается оправдать деспотическую меру, а между тем бессознательный органический процесс творчества приводит его как художника <…> к сатире на власть».