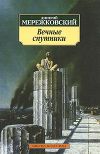Текст книги "Собрание сочинений в 20 т. Том 8. Вечные спутники"
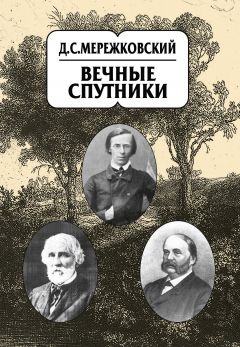
Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 38 страниц)
Флобер
IБальзак в одном из своих романов высказывает следующую мысль: «Гениальность – страшная болезнь. Каждый писатель носит в своем сердце чудовище, которое пожирает все его чувства, по мере того как они зарождаются. Кто кого победит: болезнь – человека или человек – болезнь? Надо быть великим человеком, чтобы достигнуть равновесия между своим гением и характером. Если поэт не гигант, не обладает плечами Геркулеса, он должен неминуемо остаться либо без сердца, либо без таланта».
Бальзак, к сожалению, обрывает это рассуждение и не договаривает, в чем именно, по его мнению, заключается болезнь гениальности: почему развитие и сила художественной личности во многих отношениях обратно пропорциональны развитию и силе нравственного типа, – от каких причин зависит их коренной антагонизм, который так часто наблюдается обыкновенным житейским опытом. Всем известно, например, что талантливые писатели, художники, музыканты – в большинстве случаев люди крайне непрактичные, что их эксцентричность и легкомыслие нередко граничат с полной нравственной распущенностью, что они плохие отцы семейств и плохие супруги, что, будучи очень чувствительными и отзывчивыми в своих произведениях, они в действительности слишком часто оказываются сухими, черствыми эгоистами. Исследование причин, обусловливающих глубокую противоположность эстетического и нравственного миросозерцания, художника и человека, гения и характера, составляет, бесспорно, одну из интереснейших страниц психологии творчества.
Вспомним трагическую сцену гибели Лаокоона, описанную в Энеиде. Граждане Трои должны, конечно, смотреть с отвращением и ужасом, как исполинские змеи душат Лаокоона и его сыновей. Зрители испытывают страх, жалость, желание спасти несчастных. Как бы ни были разнообразны их душевные состояния, момент воли играет в них очень важную роль: в чувстве ли самосохранения – у более робких, или в стремлении прийти на помощь – у более мужественных. Но представьте себе в этой взволнованной и потрясенной толпе скульптора, который взглянул на страшную, разыгравшуюся перед его глазами катастрофу как на тему будущего художественного произведения. Он один остается спокойным наблюдателем среди общего смятения, рыданий, криков, молитв. Нравственные инстинкты заглушаются в нем эстетическим любопытством. Слезы помешали бы ему смотреть и он удерживает их, потому что ему непременно надо видеть, какую форму, какое очертание примут мускулы под давлением огромных колец змеи. Каждая подробность картины, вызывающая в других отвращение и ужас, пробуждает в нем радость, непонятную для остальных. Пока они плачут и волнуются, художник рад выражению муки на лице Лаокоона, рад тому, что отец не может помочь своим детям, что чудовища с такой силой сжимают их тело. В следующее же мгновение человек, может быть, победит художника. Но дело сделано – момент жестокого созерцания успел оставить в сердце неизгладимый след.
Ряд подобных настроений рано или поздно должен образовать в душе художника привычку отвлекаться от жизни, смотреть на нее со стороны, извне, не в качестве действующего лица, а спокойного зрителя, искать во всем, что происходит перед глазами, материала для художественного воспроизведения. По мере того как возрастает сила воображения и созерцания, уменьшается страстность и напряжение волевой способности, необходимой для нравственной деятельности. Если природа не одарила волю художника непоколебимой стойкостью, не дала сердцу его неисчерпаемого источника любви, то эстетическая отвлеченность может мало-помалу заглушить нравственные инстинкты: гений – по выражению Бальзака – может «пожрать» сердце. В таком случае категории добра и зла, с которыми больше всего имеют дела люди реальной жизни, воли, действия, стираются в миросозерцании писателя категориями прекрасного и уродливого, типичного и нехарактерного, интересного с художественной точки зрения и неинтересного. Зло, порочность притягивают воображение поэта, если они облечены в неотразимо привлекательные формы, если они прекрасны и могучи; добродетель кажется бесцветной и ничтожной, если она не представляет материала для поэтического апофеоза.
Но художник отличается не только свойством смотреть объективно и бесстрастно на чувства других людей: он относится и к тому, что происходит в его собственном сердце, с не менее жестоким, эстетическим любопытством постороннего наблюдателя. Обыкновенные люди могут всецело, всем существом отдаваться порыву овладевшего ими чувства – любви или ненависти, горя или радости; по крайней мере, они думают, что отдаются всецело.
Честный человек, когда клянется женщине в любви, верит в искренность своих клятв – ему и в голову не придет сомневаться, любит ли он в самом деле так, как воображает, что любит. Поэт по внешности более, чем другие люди, кажется способным отдаваться чувству, верить, увлекаться, но на самом деле в душе его, как бы ни была она потрясена страстью, всегда останется способность наблюдать за собою, за действующим лицом романа или драмы, следить, даже в минуты полного опьянения, пристальным взором за тончайшими, неуловимыми изгибами своих ощущений и беспощадно анализировать их.
Человеческие чувства почти никогда не бывают вполне простыми и однородными: в большинстве случаев они представляют смешение весьма разнообразных по ценности составных частей. И художник-психолог открывает невольно так много лжи в себе и в других, даже в минуты искренних увлечений, что мало-помалу теряет всякую веру в свою и чужую правдивость.
IIПисьма Флобера, изданные в двух книгах, представляют богатый материал для исследования на живом примере вопроса об антагонизме художественной и нравственной личности.
«Искусство выше жизни» – вот формула, которая является краеугольным камнем не только всего эстетического, но и философского миросозерцания Флобера. Тринадцатилетним мальчиком он пишет одному из своих школьных товарищей: «если бы у меня в поэтических замыслах не было французской королевы пятнадцатого века, я почувствовал бы полное отвращение к жизни и уже давно пуля освободила бы меня от этой унизительной шутки». Через год он приглашает того же товарища к работе с полуискренней риторикой и юношеским увлечением: «будем всегда заниматься искусством, которое, будучи величественнее всех народов, корон и властителей, вечно царит над вселенной в своей божественной диадеме». Спустя сорок лет, на краю могилы, Флобер провозглашает еще более резко и смело тот же девиз: «Человек – ничто; произведение – все» – «l’homme n’est rien, l’œuvre est tout!»
В расцвете юношеских сил, обладая умом, красотой и талантом, он бежит от мира в искусство, как аскеты в пустыню; уединяется в нем, как христианские отшельники замуравливали себя в пещерах. «Навсегда уйти в искусство и презирать все остальное – вот единственное средство не быть несчастным, – пишет он своему другу, – гордость заменяет все, если у нее есть достаточно широкое основание… Конечно, многого мне недостает: я бы, вероятно, сумел быть таким же щедрым, как самые богатые; таким же нежным, как влюбленные; чувственным, как люди, отдавшиеся наслаждениям…
А между тем я не жалею ни богатств, ни любви, ни наслаждений… С этих пор и надолго я требую только пять-шесть часов спокойствия в своей комнате, зимою большого огня в камине, по вечерам двух свечей на столе». Через год он советует тому же другу: «Сделай, как я, – порви с внешним миром, живи, как медведь, как белый медведь; пошли к черту все, все и даже самого себя, кроме своей мысли. В настоящее время между мной и всем остальным миром такая бездна, что нередко чувствую удивление, когда слышу даже самые обыкновенные, простые вещи… есть некоторые жесты, интонации, голоса, от которых я просто не могу прийти в себя, и от известных глупостей у меня делается почти головокружение». Даже в минуты опьянения страстью он ставит литературное призвание неизмеримо выше личного счастья, и любовь к женщине кажется ему ничтожной перед любовью к поэзии: «Нет, лучше люби искусство, а не меня, – пишет он своей возлюбленной, – эта привязанность не изменит тебе никогда, ни болезнь, ни смерть не могут ее уничтожить. Боготвори идею, только в ней – истина, потому что идея одна – бессмертна». «Искусство – единственную вещь в жизни истинную и ценную – можно ли сравнить с земной любовью, можно ли предпочесть обожание относительной красоты поклонению вечной? Благоговение к искусству – вот самое лучшее, что у меня есть; вот единственное, что я в себе уважаю».
Он не согласен признать в поэзии ничего относительного, считая ее абсолютно самостоятельной, независимой от жизни, более реальной, чем действительность; он видит в искусстве «самодовлеющий принцип, который так же мало нуждается в какой бы то ни было поддержке, как звезда». «Подобно звезде, – говорит он, – искусство, сияющее в своем небе, невозмутимо взирает, как вращается земной шар; прекрасное никогда не исчезнет». В совокупности частей произведения, в каждой подробности, в гармонии целого,
Флоберу чуется «какая-то внутренняя сущность, что-то вроде божественной силы – такое же вечное, как принцип…». «Иначе почему же существует необходимое отношение между самым точным и самым музыкальным выражением мысли?» Скептик, который не останавливался ни перед одним верованием, всю жизнь свою отрицал, сомневался в идее Бога, религии, прогресса, науки, человечества, делается благоговейным и верующим, когда дело касается искусства. Истинный поэт отличается, по его мнению, от всех других людей обоготворением идеи, «созерцанием неизменного (la contemplation de l’immuable), т. е. религией в самом высшем смысле этого слова». Он жалеет, что не родился в ту эпоху, когда толпа обожала искусство, когда были еще настоящие артисты, «жизнь и мысль которых была лишь слепым орудием инстинкта красоты. Они являлись органами Бога, посредством которых Он сам себе открывал свою сущность; для этих художников не было вселенной – никто не знал об их страданиях; каждый вечер они ложились спать печальные и смотрели на человеческую жизнь удивленным взором, как мы смотрим на муравейник».
Для большинства художников красота является более или менее отвлеченным принципом – для Флобера она такой же конкретный предмет страсти, как золото для скупого, власть для честолюбца, женщина для влюбленного. Его работа была подобна медленному самоубийству; он отдавался ей с непобедимым упорством человека, одержимого манией, с мистической негой и восторгом мученика, с трепетом жреца, приступающего к таинству. Вот как сам он описывает свою работу: «Больной, раздраженный, переживающий тысячи раз в день минуты страшного отчаяния, без женщин, без жизни, без самой ничтожнейшей из этих погремушек земной юдоли, я продолжаю мой медленный труд, как добрый работник, который, засучив рукава, с волосами, орошенными потом, ударяет по наковальне, не боясь ни дождя, ни града, ни ветра, ни грома». А вот отрывок из биографии Флобера, написанной Мопассаном, одним из его преданных учеников и последователей, также изображающий рабочую энергию гениального писателя: «с наклоненной головой, с лицом и шеей, налитыми кровью, напрягая все мускулы, как атлет во время поединка, он вступает в отчаянную борьбу с идеей и словом, схватывая их, соединяя, сковывая, как в железных тисках, могуществом воли, сжимая и мало-помалу, с нечеловеческими усилиями порабощая мысль и заключая ее, как зверя в клетку, в точную, неразрушимую форму».
IIIФлобер, более чем кто-либо, испытал на себе разрушительную силу обостренной аналитической способности. С злорадством, в котором так странно смешиваются отвага модного тогда байронизма и смутное предчувствие неминуемой катастрофы, приступает он еще семнадцатилетним юношей к работе разрушения и внутренней ломки. «Я анализирую себя и других, – говорит он в письме к товарищу, – я анатомирую постоянно, и, когда мне удается наконец найти в чем-нибудь, что все считают чистым и прекрасным, гнилое место, гангрену, – я подымаю голову и смеюсь. Я дошел теперь до твердого убеждения, что тщеславие – основа всего, и даже то, что называют совестью, на самом деле есть только внутреннее тщеславие. Ты подаешь милостыню, может быть, отчасти из симпатии, из жалости, из отвращения к страданию и безобразию, даже из эгоизма, но главный мотив твоего поступка – желание приобрести право сказать самому себе: я сделал доброе; таких, как я, немного; я уважаю себя больше других». Через восемь лет он пишет любимой женщине: «Я люблю анализировать – это занятие меня развлекает. Хотя я не обладаю особенной склонностью к юмористическому взгляду на вещи, я никак не могу относиться к собственной личности вполне серьезно, потому что нахожу себя смешным, смешным не в смысле внешнего театрального комизма, но в смысле той внутренней иронии, которая присуща человеческой жизни и проявляется иногда в самых, по-видимому, естественных поступках, обыкновенных жестах… Все это надо самому чувствовать, а объяснить трудно. Ты не поймешь этого, потому что в тебе все просто и цельно, как в прекрасном гимне любви и поэзии. Тогда как я представляю из себя что-то вроде арабеска наборной работы: есть куски из слоновой кости, золота и железа, некоторые – из крашеного картона, одни – из бриллианта, другие – из жести».
Жизнь мечты, воображения так богата в нем, что заслоняет впечатления реального мира; они преломляются, получают своеобразную окраску, проходя сквозь эту среду. «Антитеза постоянно возникает перед моими глазами: вид ребенка неминуемо пробуждает во мне мысль о старости, вид колыбели – мысль о гробе. Когда я смотрю на женщину, я представляю себе ее скелет. Вот почему веселые зрелища огорчают меня, печальные оставляют равнодушным. Я так много плачу в душе, внутри себя, что слезы не могут выйти наружу; прочитанное в книге волнует меня больше, чем действительное горе». Здесь мы встречаемся с отличительной чертой большинства натур, одаренных сильным художественным темпераментом. «Насколько я чувствую себя мягким, нежным, отзывчивым, способным плакать, отдаваться чувству в воображаемых страданиях, настолько же реальные остаются в моем сердце сухими, жесткими, мертвыми: они кристаллизуются в нем». Это духовное состояние, изображенное Пушкиным:
…Напрасно чувство возбуждал я —
Из равнодушных уст я слышал смерти весть,
И равнодушно ей внимал я.
Так вот кого любил я пламенной душой
С таким тяжелым напряженьем,
С такою нежною, томительной тоской,
С таким безумством и мученьем!
Где муки, где любовь? Увы, в душе моей
Для бедной, легковерной тени,
Для сладкой памяти невозвратимых дней
Не нахожу ни слез, ни пени.
Состояние непонятного равнодушия перед несчастием любимого человека, отчаяния не от горя, а от собственной холодности, от отсутствия печали и жалости было слишком хорошо знакомо Флоберу, и он по своему обыкновению смело анализирует эту черту, между тем как почти все художники стараются скрыть ее не только от других, но и от самих себя, ошибочно принимая ее за противоестественный эгоизм. Он говорит о своем настроении над гробом нежно любимой сестры: «Я был сух, как могильный камень, и только страшно раздражен». Что же он делает в такую минуту, когда обыкновенный человек, не думая ни о чем, отдается своему горю? С жестоким любопытством, «ничего не отнимая от своих ощущений», он анализирует их, «как артист». «Это меланхолическое занятие облегчало мою грусть, – пишет он другу, – ты, может быть, сочтешь меня человеком без сердца, если я признаюсь тебе, что не мое теперешнее состояние (т. е. печаль по поводу смерти сестры) кажется мне самым тяжелым в моей жизни. В то время, когда, по-видимому, не на что было жаловаться, мне приходилось гораздо больше жалеть себя». Далее идет длинное рассуждение о бесконечном, о нирване, – рассуждение, в котором автор проявляет много возвышенной поэзии, но очень мало простого человеческого горя. В том письме, где Флобер описывает похороны друга своего детства, его эстетическое отношение к горю достигает даже высоты философского созерцания. «На теле покойника были признаки страшного разложения; мы обернули труп в двойной саван. В этом виде он напоминал египетскую мумию, обвитую погребальными повязками, и я не могу выразить, какое чувство огромной радости и свободы я испытал за него в ту минуту. Туман белел, леса выделялись на небе, две надгробных свечи сияли в белизне зарождающегося дня, птицы запели, и я вспомнил строчку из его поэмы: „Полетит он, как резвая птица, чтобы встретить в сосновом лесу восходящее солнце”, или, лучше сказать, я слышал, как голос его произносил эти слова, и целый день они преследовали меня своим обаянием.
Его поместили в прихожей, двери были сняты с петель, и свежий утренний воздух проникал в комнату с прохладой дождя, который начал в это время накрапывать… В душе моей проносились неведомые чувства, и, как зарницы, вспыхивали в ней мысли, которых нельзя рассказать: тысячи воспоминаний из прошлого долетали ко мне с волнами ароматов, с аккордами музыки…». И здесь художник посредством эстетического отвлечения превращает реальное горе в красоту, и в просветленном виде смерть любимого человека не только не причиняет ему никаких страданий, но, напротив, дает мистическое примирение, непонятный для обыкновенных людей экстаз, странное, оторванное от жизни, бескорыстное счастье. Во время пребывания в Иерусалиме Флоберу случилось посетить прокаженных. Вот описание его впечатлений: «Это место (т. е. клочок земли, отведенный специально для больных проказой) находится за городом близ болота, с которого вороны и коршуны-ягнятники поднялись при нашем приближении. Несчастные страдальцы, женщины и мужчины (всего около двенадцати человек), лежат все вместе, в одной куче. Покровы уже не скрывают лиц, нет различия полов. На теле их виднеются гнойные струпья, черные впадины – вместо носов; я должен был надеть пенсне, чтобы разглядеть, что висело на конце рук у одного из них – кисти ли рук, или какие-то зеленоватые лохмотья. Это были руки. (Вот куда бы привести колористов!) Больной дотащился до бассейна, чтобы напиться воды. Сквозь рот, на котором не было губ, как будто от ожога, виднелось нёбо. Он хрипел, протягивая к нам клочья своего мертвенно-бледного тела. А вокруг – безмятежная природа, струи ключа, зелень деревьев, вся трепещущая от избытка соков и юности, свежие тени под горячим солнцем!» Этот отрывок взят не из романа, где поэт может принудить себя быть объективным, а из путевых заметок, из письма к другу, где автор не имеет основания скрывать субъективный характер своих ощущений. Между тем, кроме двух довольно банальных эпитетов – «несчастные страдальцы» (pauvres misérables), ни одной смягчающей черты, ни намека на жалость.
IV«Я не христианин (je ne suis pas chrétien)», – говорит Флобер в письме к Жорж-Занд. По его мнению, французская революция не удалась именно потому, что в ней была слишком тесная связь с религией жалости: «Идея равенства, в которой заключается сущность современной демократии, есть идея по существу христианская, противоречащая принципам справедливости. Посмотрите, до какой степени преобладает в настоящее время милосердие (grâce). Чувство – все, право – ничто». «Мы гибнем от избытка снисходительности, сострадания, от нравственной дряблости». «Я убежден, – замечает он, – что бедные ненавидят богатых, а богатые боятся бедных; это будет вечно; напрасно проповедуют любовь».
Свою инстинктивную антипатию к идее братства Флобер хочет оправдать тем положением, что идея эта находится в непримиримом противоречии с принципом справедливости: «Я ненавижу демократию (по крайней мере, в том смысле, как ее понимают во Франции), т. е. возвеличение милосердия в ущерб справедливости, отрицание права, одним словом, антисоциальное начало (l’antisociabilité)». «Право милости (вне области теологии) есть отрицание справедливости: по какому праву может кто бы то ни было помешать исполнению закона?» Но едва ли он верит и в этот принцип, на который ссылается, только чтобы иметь точку опоры для опровержения идеи братства. По крайней мере, вот что говорит он в минуту полной откровенности в письме к старому товарищу: «Людская справедливость кажется мне самой шутовской вещью в мире. Зрелище человека, который судит своего ближнего, заставляло бы меня смеяться до упаду, если бы не вызывало брезгливой жалости, и если бы в настоящее время (он тогда занимался юридическими науками) я не был принужден изучать систему абсурдов, в силу которых люди считают себя вправе судить. Я не знаю ничего нелепее права, кроме разве его изучения». В другом письме он признается, что никогда не мог понять отвлеченную и сухую идею обязанности и что она «не кажется ему присущей человеческой природе (ne me paraît pas inhérente aux entrailles humaines)».
Очевидно, что он так же мало верит в справедливость, как и в идею братства. В сущности, у него нет никакого нравственного идеала. «В мире для меня существует только одно – красивые стихи, стиль изящный, гармоничный и певучий, закаты солнца, живописные пейзажи, лунные ночи, античные статуи и характерные профили… Я фаталист, как настоящий магометанин, и полагаю, что все, что мы можем сделать для прогресса человечества, так же мало, как ничто. Что же касается до этого прогресса, то мой ум отказывается воспринимать такие туманные идеи. Всевозможная болтовня на эту тему наводит на меня безмерную скуку… Я питаю глубокое благоговение к античной тирании, потому что нахожу ее самым прекрасным выражением человечности, какое когда-либо было». «У меня не много убеждений, – пишет он Жорж-Занд, – но одно их них незыблемо: это убеждение, что число, масса, всегда состоит из идиотов. Впрочем, следует уважать массу, как бы она ни была нелепа, потому что в ней таятся семена громадной плодородности (d’une fécondité incalculable)».
Флобер делает полушутливую попытку противопоставить доктрине социалистов свой собственный идеал будущего политического устройства. «Единственный разумный исход есть правительство, состоящее из мандаринов, – пусть только у этих мандаринов будут кое-какие знания и пусть даже, если можно, они будут значительные. Народ всегда останется несовершеннолетним и всегда будет занимать последнее место в иерархии общественных групп, так как он представляет из себя число, массу, безграничное… В этой законной аристократии в настоящее время все наше спасение». «Человечество не представляет ничего нового. Его непоправимое ничтожество еще в молодости переполнило мою душу горечью. Вот почему я теперь не испытываю разочарования. Я убежден, что толпа, стадо будут всегда ненавистными… До тех пор пока люди не преклонятся перед мандаринами, пока академия наук не заменит собою римского папы, вся политика, все общество до последних корней, будет только собранием возмутительной лжи и фальши (de blagues écœurantes)». Тем не менее в романе
«Bouvard et Pécuchet» Флобер направляет все усилия на разрушение верования в незыблемость научных принципов и на доказательство, что современная наука такое же непрочное здание, такая же система противоречий и суеверий, как средневековая теология. Недоверие к науке Флобер выказывал, впрочем, и ранее: так, познакомившись с позитивизмом О. Конта, он нашел эту систему «нестерпимо глупой (c’est assommant de bêtise)».