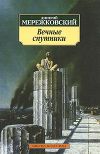Текст книги "Собрание сочинений в 20 т. Том 8. Вечные спутники"
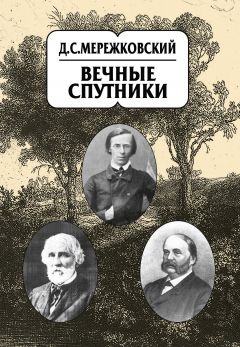
Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 38 страниц)
Итак, как видим, попытка вступить в некоторый компромисс с преобладающим настроением эпохи не удалась Флоберу. В его рассуждениях на социальную тему искренно только одно презрение к черни. «Сколько бы вы ни откармливали зверя-человека, как бы вы ни золотили его конюшню, какую бы мягкую и роскошную подстилку ни давали ему, – он все-таки останется скотом. Единственный прогресс, на который можно рассчитывать, заключается в том, чтобы сделать зверя менее кровожадным. Но поднять уровень идей, дать массам более широкое представление о Боге – я очень сомневаюсь, чтобы это было возможно».
В другом письме он откровенно признается, что у него нет никакой веры, никакого нравственного принципа, никакого политического идеала, и в этом, вырвавшемся из глубины сердца, признании слышится уже отчаяние: «Я вижу в настоящее время так же мало возможности установить какой-нибудь новый принцип, как и уважать старые верования. Итак, я ищу и не нахожу той идеи, от которой должно зависеть все остальное». Эти немногие слова лучше всего освещают настроение последних лет жизни Флобера. Прежде он находил эту идею в искусстве – теперь он предполагает, что есть иное, высшее, начало, которому надо подчинить само искусство, но найти это начало не в силах. Он ищет забвения в работе, но из работы выходит разбитый и еще более неудовлетворенный. Он сознает свое одиночество, и его влечет из объективного созерцания в эту непонятную жизнь, смысл которой он отрицает.
Трагизм его положения в том, что он – один среди чуждого мира. И мало-помалу отчаяние его достигает последних пределов. «Когда я не держу книги в руках или не пишу, мною овладевает такая тоска, что я готов просто кричать», – признается он в письме к Жорж-Занд. «Мне кажется, что я превращаюсь в ископаемое животное, в существо, лишенное всякой связи с окружающей вселенной». «Чувство всеобщей гибели, агония наполняет меня, и я смертельно грустен. Когда я не изнемогаю над работой, я тоскую над самим собой. Никто меня не понимает, я принадлежу другому миру. Мои товарищи по ремеслу – так мало мне товарищи». «Я провожу целые недели, не меняясь словом ни с одним человеческим существом, и в конце недели мне трудно вспомнить какой-нибудь день или хоть одно событие за все время. По воскресеньям я видаю мать и племянницу – вот и все. Стая крыс на чердаке – мое единственное общество: они производят адский шум над головой, когда вода не шумит и ветер не воет. Ночи чернее угля, и меня окружает тишина беспредельная, как в пустыне. Чувствительность страшно обостряется в подобной среде, сердце начинает биться из-за каждого пустяка». «Я теряюсь в воспоминаниях молодости, как старик. От жизни я больше не жду ничего, кроме нескольких листков бумаги, измаранных чернилами. Мне кажется, что я иду через бесконечную пустыню, иду неведомо куда, что в одно и то же время я – и путник, и пустыня, и верблюд». «Одна только надежда меня утешает, что скоро я распрощаюсь с жизнью и уже, конечно, не начну другой, которая, может быть, еще печальнее… Нет, нет! Довольно усталости!»
Все его письма к Жорж-Занд – один потрясающий мартиролог «болезни гениальности». Иногда у него вырывается наивная жалоба и в ней, сквозь непримиримую гордость бойца, чувствуется что-то кроткое, надорванное, как в голосе человека слишком измученного. Ярость врагов, клеветы друзей, непонимание критиков уже не оскорбляют его самолюбия: он устал ненавидеть. «Вся эта лавина глупостей не раздражает меня, но опечаливает. Все-таки лучше хотелось бы внушать людям добрые чувства».
Наконец и последнее утешение – искусство, изменяет ему. «Напрасно я напрягаю силы, работа не идет, не идет. Все меня мучит и раздражает. При людях я еще сдерживаюсь, но иногда наедине у меня вырываются такие судорожные, безумные слезы, что, кажется, я умру от них». На склоне лет, когда нельзя вернуться к прошлому, нельзя исправить жизнь, он задает себе вопрос: а что если и красота, во имя которой он разрушил веру в Бога, в жизнь, в человечество, – такой же призрак, обман, как все? Что если это искусство, за которое он отдал молодость, счастье, любовь, изменит ему на краю могилы?
«Тень обнимает меня», – говорит он, предчувствуя гибель. Это восклицание похоже на крик беспредельной тоски, который вырвался перед смертью у другого художника, брата Флобера по идеалу, страданиям и гению, у Микель-Анжело:
Io parto a mano, a mano,
Crescemi ognor piú l̓ombra, l̓е sol vien manco,
E son presso al cadere, infermo e stanco.
Я ухожу мало-помалу…
Тени растут, солнце все ниже.
И я готов упасть, изнеможенный.
Смерть застала его за рабочим столом, внезапная, как громовой удар. Выронив перо из рук, он упал бездыханный, убитый своей великой, единственной страстью – любовью к искусству.
Платон в одном из своих мифов рассказывает, как души людей в колесницах, на крылатых конях странствуют по небесному своду; некоторым на короткое время удается приблизиться к тому месту, откуда видна область Идей: они с жадностью заглядывают туда, и немногие, отдельные лучи света глубоко западают в них. Потом, когда эти души воплощаются, чтобы страдать на земле, все лучшее, что есть в человеческом сердце, волнует их и влечет, как отражение вечного света, как смутное воспоминание иного мира, в который им удалось заглянуть на мгновенье.
Должно быть, в душу Флобера в светлой области Идей запал слишком яркий луч красоты.
Ибсен
Слава Ибсена переступила пределы его родины и сделалась европейской. Но она еще весьма далека – особенно у нас в России – от того бесспорного авторитета, который исключает страстное, личное отношение толпы к писателю. Этот пришлец с далекого севера, подобно своим предкам-норманнам, медленно, шаг за шагом, борется и завоевывает Европу. Мы имеем случай наблюдать первое рождение, постепенный рост, не школьный апофеоз, а самую жизнь славы. Каждый разговор об Ибсене – настоящее литературное сражение. Равнодушные зрители очень быстро превращаются или в пламенных врагов, или в столь же пламенных друзей поэта.
Но не должно забывать, что, несмотря на нашу любовь или ненависть, Ибсен переживет нас и наш мгновенный суд. Имя его с каждым днем растет. Будем же осторожнее судить о нем. Попытаемся выяснить, кто он и какое впечатление производит на нас, детей того века, который он дерзнул судить таким беспощадным судом.
IГенрик Ибсен родился 20 марта 1828 года в Норвегии, в небольшом приморском городке Скиене. Среди его предков мы встречаем целый ряд норвежских шкиперов и купцов – людей, закаленных в опасностях, суровых и энергичных, с примесью немецкой и шотландской крови.
Когда мальчику не было еще и восьми лет, отцу его, сначала обладавшему довольно хорошим состоянием, внезапно пришлось ликвидировать свои дела, и единственное, что осталось у семьи, это – небольшое, порядком запущенное имение, усадьба Венстоб, лежавшая вблизи города. В ней семья Ибсена нашла убежище после крушения. Жизнь, которую она здесь вела, отличалась крайнею бедностью и уединением, что составляло резкий контраст в сравнении с прежним довольством.
Вот первый опыт ребенка. Он почувствовал себя сразу выброшенным из колеи. В одном из юношеских стихотворений Ибсен уже говорит о себе, как об отверженном, как о «неприглашенном в гости на пышный пир житейский».
Мальчик не принимал участия в детских играх. В тесной, холодной каморке, находившейся около входа в кухню, он запирался на крючок и просиживал целые дни за книгами. «Для всех нас, – пишет его сестра, – он совсем не был симпатичным мальчиком, и мы делали все, что могли, чтобы помешать ему, бросая в стену и дверь камни и снежные комья, – мы хотели, чтобы он играл с нами в наши игры. Если он не был в состоянии выдержать более нападения, он выскакивал на двор с тылу. Но так как он не обладал никакой ловкостью и насилие было совершенно чуждо его характеру, то его нападения этим и ограничивались. Когда он, в конце концов, отгонял нас на достаточно далекое расстояние, то возвращался в свою комнату».
Пятнадцати лет Генрику уже приходится выбрать профессию. Он мечтает посвятить себя живописи. Но средства семьи так ничтожны, что мальчик принужден отказаться от всех честолюбивых надежд. Шестнадцати лет он навсегда покинул семью и родной город, чтобы вступить в настоящую суровую борьбу за существование. Ибсен делается аптекарским учеником в Гримштаде, захолустном городке с 800 жителей.
«Как и большинство норвежских городов, лежащих на восток от Христиании, – замечает биограф Ибсена, – Гримштад представляет из себя небольшой сборный пункт кораблей, стоящих на рейде, пункт основательный и солидный. Благосостояние здесь сопровождается комфортом. Мысли жителей такого маленького городка не отличаются широтой кругозора: всякий выходит за двери своего дома обыкновенно для того, чтобы спросить, благополучно ли прибыл корабль, или чтобы свести последние счеты за клади… В таком городе имеется клуб, аптека, парикмахерская и гостиница. Аптека представляет из себя городскую биржу, куда сходятся все досужие люди поговорить о событиях дня, в особенности о городских происшествиях, которые всегда считаются самыми важными. Все здесь знают друг друга вдоль и поперек. Ни одна подробность семейной жизни не остается неизвестной. Все друг другу кланяются; самому богатому человеку отвешивается самый глубокий поклон, кто менее богат, получает поклон менее глубокий, и так далее, кончая рабочим, которого удостоивают только кивком головы, в то время как он почтительно стоит с фуражкой в руках».
Вообразите себе в этой обстановке никому не ведомого аптекарского ученика, который, с аккуратностью взвешивая граны и унции, питает самые дерзкие мечты о свободе, какие только когда-либо приходили в голову двадцатилетнему юноше. Перед ним носится мрачный и обаятельный образ римского заговорщика Катилины. Во время приготовлений к экзамену на аттестат зрелости он с жадностью читает Саллюстия и речи Цицерона против Катилины, сочувствуя пораженному и оклеветанному герою. Он влагает древнему римлянину в уста свои собственные мысли:
Отмщенья жажду я – за все мечты,
За все мои надежды.
За жизнь разбитую – отмщенья!
И между тем как солидные гримштадские негоцианты, остановившись на перекрестках, ведут неторопливую беседу о предстоящих барышах за продажу пакли или сала, между тем как мирные домики засыпают в ненарушимом покое, – аптекарский ученик, вольнодумный и упрямый, у которого, по мнению гримштадских жителей, «молоко на губах не обсохло», упивается мечтами о всеобщем возмездии.
Об этих мечтах знали обитатели Гримштада, и этого было слишком достаточно, чтобы восстановить их против молодого поэта. Они возненавидели его тою ненавистью, которая пробуждается в курятнике к орленку, пробующему расправить крылья.
К счастью для Ибсена, там, за городом, лежит море, приносящее в маленький тихий городок не одни только деньги, бракованные товары и парижские моды, но и вести из далекого, вольного света. От болтовни городских сплетников, из душной аптекарской лаборатории молодой человек уходит иногда на морской берег, смотрит на пустынный горизонт и прислушивается к шуму северных волн.
В то время он еще почти не читал ни Байрона, ни Гёте, ни Шекспира, но сердце его было уже бессознательно близко к великой, мрачной поэзии новых времен. Мы впоследствии увидим как бы суровый отблеск северного моря – отпечаток стихийной свободы на всех лучших созданиях норвежского поэта.
С большим трудом удалось ему издать «Катилину».
Критика встретила враждебно это замечательное произведение: оно разошлось всего в 30 экземплярах. Одним из немногих, кто заинтересовался книгой, был мелочной торговец: он нашел бумагу, на которой она была напечатана, удобной для завертыванья товара и, во время пребывания Ибсена в Христиании, купил однажды вечером у него и его товарища (издателя книги) целую кучу экземпляров, когда желудки обоих были так же пусты, как и их кошельки. «После этого у нас прекратился недостаток в предметах первой необходимости», – лаконически замечает Ибсен.
В 1850 году он приехал в Христианию, с тем чтобы окончательно приготовиться к университетскому экзамену. Но, когда случайно одна небольшая и сравнительно слабая пьеса его, оказавшаяся гораздо более по плечу публике и театральной дирекции, чем «Катилина», была принята на сцену, Ибсен решил всецело посвятить себя литературе и окончательно отказался от намерения держать экзамен в университет. Он поселился в скромном квартале столицы вместе со своим другом, издателем «Катилины», студентом юриспруденции Шулерудом. Гонорар, полученный за пьесу, скоро иссяк, а ежемесячных денег Шулеруда хватало только ему самому. Тем не менее он делился со своим другом всем, что у него было. На обед недоставало, поэтому и не обедали. Но, чтобы не потерять уважения к себе в том доме, где они жили, они уходили около полудня и возвращались домой лишь тогда, когда можно было подумать, что они уже отобедали. После этого пили кофе и ели хлеб, что должно было заменять им обед. В 1851 году новый театр в Бергене пригласил Ибсена в качестве «драматического поэта», а в следующем году театральное управление ассигновало молодому директору 200 специесталеров (около 450 рублей) на дорожные издержки, с тем чтобы он в течение трехмесячного пребывания за границей «практически изучил сценическое дело».
В последующие десять лет – в этот, так сказать, романтический период своего развития, завершившийся драмой «Воители на Гельголанде», Ибсен принимал деятельное участие в национальном движении, охватившем Норвегию в сороковых и пятидесятых годах нынешнего столетия. Его патриотические драмы, внушенные древними норвежскими преданиями, составили ему литературное имя. Разлад с обществом на время был заглушен, чтобы выступить впоследствии с еще большею резкостью. Как сильно увлекался тогда Ибсен национальными стремлениями, видно из того, что ему пришла мысль основать общество для борьбы с иностранными влияниями и для проявления национализма в области искусства. «Представьте себе Генрика Ибсена как основателя общества!» – с понятным удивлением восклицает биограф его, Иегер. Недаром Брандес («Moderne Geister») приводит следующие слова поэта, проникнутые высокомерною иронией крайнего индивидуалиста: «Für das Solidarische hab’ich eigentlich niemals ein starkes Gefuhl gehabt» («К общению с людьми, собственно говоря, я никогда не имел большой склонности»). И в самом деле, ненадолго затаенная вражда против современного буржуазного строя не замедлила выступить наружу.
Покончив с национальной стариной, Ибсен написал пьесу из современной жизни – «Комедия любви», страстную, смелую до дерзости. Пьеса проникнута идеализмом, задумана в лирическом тоне, а между тем – как это ни кажется странным с первого взгляда – сатира направлена против брака по любви, причем даже брак по расчету ставится сравнительно выше. Один из героев пьесы утверждает, что в то самое мгновение, когда исчезает «тайна любви», когда любовь делается всеми признанной и освященной, бьет ее смертный час. «Прежде всего являются на сцену кумушки и подруги и прогоняют поэзию любви своим назойливым участием к обрученным; потом наступает брак с его стремлением к внешнему благополучию и с заботами о детях. Что началось, как праздник, кончается обыкновенно самым будничным образом, и, вместо того чтобы посредством совместного существования возвыситься, большинство людей прозябает тупо и бессмысленно». Перед нами проходят три пары. «От пламени любви и дыма не осталось. Sic transit gloria amoris![21]21
Так проходит слава любви (лат.).
[Закрыть]» «В их сердце – ложь, но верность на устах». – Это настоящая трагикомедия любви.
Очень многие называли брак «могилою любви», отрицали его во имя свободных чувственных наслаждений. Но здесь буржуазный брак отрицается во имя высшего целомудрия, во имя божественной и бескорыстной стороны любви.
И Бьернсон в своей «Перчатке», и Л. Толстой в «Крейцеровой сонате» заботятся, главным образом, о практическом разрешении вопроса: первый – о восстановлении идеала целомудрия, второй – о восстановлении прав женщины в современном обществе. Толстой и Бьернсон проповедуют, жаждут осуществления своих теорий, стремятся к преобразованию. Можно хвалить или порицать Ибсена, но во всяком случае нельзя не согласиться, что он стоит, как художник, совершенно вне практических условий жизни, что он хочет показать нам только высшую красоту бескорыстного взгляда на жизнь и пленяет божественной стороной чувства любви. Фальк и Свангильда расстаются навеки добровольно и безнадежно именно потому, что они так сильно, так чисто любят друг друга. Любовь для них не источник личного счастия, а святыня, проявление бесконечного. Они не хотят осквернить «бесцельного, небесного и ничем неутолимого пламени» прикосновением буржуазности, мелочными денежными расчетами, уродством действительной жизни. Это не романтизм, как могло бы показаться с первого взгляда. Романтизм предполагает юношескую неопытность и наивное ослепление. Между тем Фальк и Свангильда лучше самого разочарованного скептика умеют анализировать жизнь, видят грубую сторону человеческих отношений. Это скорее отрицатели, чем романтики. Но, будучи отрицателями во всем, что касается основ современного миросозерцания, они более чем метафизики – они мистики в апофеозе божественной стороны любви. Ибсен делает попытку среди всеобщего позитивного настроения возобновить идеализм любви, который мы встречаем в «Symposion» Платона, в «Vita Nuova» Данте и в первые века христианства, когда мужчина и женщина, любившие друг друга, обрекали себя на добровольную девственность во имя высшего аскетического идеала.
Если бы кто-нибудь нарочно задался целью написать такую драму, которая оскорбляла бы все принятые взгляды и вкусы современной публики, которая вызвала бы самую ожесточенную злобу и насмешки рецензентов, нельзя было бы придумать ничего лучшего, чем эта трагикомедия современного брака. Когда пьеса была издана, рецензент одной норвежской газеты, «Morgenbladet», объявил, что лежащее в основе произведения понимание любви – мещанское. «Такого понимания любви, – замечает критик, – можно было ожидать от кумушек и тетушек мещанского пошиба, но оно никак не должно было прийти в голову поэту. Основное воззрение, выраженное в пьесе, не нравственно, но так же и не поэтично, как вообще всякое воззрение, представляющее идеализм и действительность как две вещи непримиримые». В другой газете, «Aftenbladet», пьеса, над которой Ибсен работал больше трех лет, была названа «жалким изделием литературной торопливости». «Из пьесы проистекает, – говорит, между прочим, рецензент, – восхваление безбрачия, из чего ясно видно, что у Ибсена были чисто католические мысли, когда он писал свою комедию». Как драматическое произведение, пьеса была названа «абсурдом». Это обвинение Ибсена, свободнейшего из скептиков, в затаенной католической тенденции – памятник поучительный для потомства.
Среди публики книга возбудила бурю негодования. Когда Ибсен в качестве директора национального театра в Бергене просил у государства о ссуде на путешествие, один из профессоров университета заявил, что лицо, написавшее «Комедию любви», вместо ссуды «должно быть награждено палочными ударами».
В 1862 году театр в Бергене ликвидировал свои дела. Ибсен потерял место директора и единственный постоянный свой доход – годовое жалование в 1200 крон. Его нужда в то время была так велика, что многие из его друзей старались употребить все свое влияние, чтобы достать ему какое-нибудь место по ведомству сбора пошлин или другое подобное занятие. Ему оставалась одна надежда – бежать из Норвегии, чтобы окончательно не погибнуть. Он чувствовал, что долго не вынесет этой борьбы. Ему казалось, что «он стоит на краю могилы, и могилой была Христиания, находившаяся на громадном кладбище – Норвегии». Несмотря на интриги врагов, после бесконечных хлопот и мытарств по различным канцеляриям ему удалось получить из государственной казны небольшую сумму на путешествие.
Удаляясь из Христиании, 2-го апреля 1864 года, поэт мог в полном смысле «отряхнуть прах от ног». Когда он смотрел с палубы корабля, как исчезают берега Норвегии, в душе его не было даже ненависти, а одно презрение к тому, что` он оставлял позади.
Через Триест он направляется в Рим. Контраст был слишком неожиданный. Подобно Освальду, – герою «Призраков», Ибсен испытывал такое чувство, как будто убежал из тюрьмы, где сидел в цепях. Ему казалось, что в Норвегии он никогда не видел солнечного света. Как пленник, получивший свободу, он дал себе слово не возвращаться на родину. В Италии Ибсен начинает поэму «Бранд», проникнутую ненавистью к патриотизму. Он вступает в открытую борьбу с Норвегией. «Поживи только в этой стране и познакомься с этими людьми! Каждый, – велик ли, мал ли он, – умеет быть только частью чего-нибудь». Никто не дерзает «быть самим собою».
Вот с какою проповедью обращается в «Бранде» к людям, подобным Ибсену, представитель норвежской церкви – пробст:
«О, не будьте упрямы, не задавайтесь великими целями, раз вы предназначены самым рождением своим для малого! Можете ли вы разбить цепи? У вас есть ваше ежедневное дело, у вас есть Библия.
Что лежит за пределами этого, все – зло. Какую пользу получите вы от избирательных прав? Охраняйте лучше свой домашний очаг! Дети мои, что думаете вы найти между орлами и соколами, между волками и медведями, – вы, мои овечки!» По мнению Ибсена, задача демократии заключается в том, чтобы всех привести к одному уровню: «каждый должен идти в ногу с другими, идти мерным, ровным шагом – вот метод, которого нужно держаться». Таким же возмущением и ненавистью к демократии и тупоумию проникнута и другая пьеса – «Союз молодежи». По поводу этой комедии консерваторы и либералы, молодежь и старики, литераторы и публика, с самых противоположных точек зрения, но с одинаковой яростью напали на Ибсена. Все считали себя оскорбленными. Критики низводили его пьесу до степени политического памфлета. Подымается самое страшное из всего журнального арсенала обвинение – в «трусливом отступничестве», в «измене либеральным убеждениям». Поэт был в Порт-Саиде, когда его пьеса, 18 октября 1869 года, в первый раз была сыграна на главной норвежской сцене. Она вызвала целую бурю. Уже при первых словах раздались свистки и аплодисменты, а в конце концов должны были опустить занавес, после чего вышел режиссер и спросил присутствующих: желают ли они продолжения пьесы, – если желают, то их просят соблюдать тишину. Игра продолжалась без перерывов до слов Бастиана Монзена в четвертом акте: «Знаешь ли ты, что такое нация? Нация – это народ, это простой народ; те, которые ничего не имеют и являются ничем; те, которые живут в рабстве». Тут снова поднялась буря. Только тогда, когда был потушен газ в зрительной зале, шум прекратился, но он продолжался еще некоторое время в коридорах и на улице. Уже по этому страстному отношению публики опытный наблюдатель мог бы предсказать близкую победу Ибсена. В самом деле, каждый шаг его к славе отмечен не возрастающей любовью, а возрастающей ненавистью толпы. Такова сила: ее ненавидят, но не могут ей не покоряться. Норвегия была побеждена.
Еще в 1866 году стортинг утвердил за Ибсеном «писательскую пенсию», несмотря на то что министр Риддерфольд, заведывающий церковными делами, был против него, потому что – объяснял председатель церкви – он не может отнестись утвердительно к просьбе человека, написавшего «Комедию любви» и резко осмеявшего норвежское духовенство в лице пастора Штромана.
Летом 1874 года Ибсен, после десятилетнего отсутствия, побывал в Норвегии. Ему устроили ряд оваций. Когда он был в театре на представлении «Союза молодежи», студенты, из самых благородных побуждений яростно шикавшие на первом представлении, выказывали теперь столь же пламенное сочувствие автору и даже устроили в его честь процессию со знаменами, пением и музыкой. Впрочем, это было недолгое перемирие. Демон возмущения скоро проснулся в Ибсене. Круг отрицания и вражды еще более расширяется. Теперь поэт стоит во всеоружии своей ненависти и своей силы лицом к лицу не только со своей родиной, но со всей Европой. В последних драмах Ибсен подвергает критике основы современной европейской жизни. Этот фазис его борьбы до сих пор не закончен. Подобно герою пьесы с характерным автобиографическим заглавием «Враг народа» – доктору Штокману, Генрик Ибсен на высоте славы может сказать: «Здесь поле сражения, здесь должна произойти битва; здесь я хочу одержать победу!» Перемирие поэта с публикой опять нарушено. По поводу заключительных сцен «Норы», в которых мать бросает детей во имя личной свободы, критики повторяли старое излюбленное обвинение в «безнравственности». Когда же появились «Призраки», друзья Ибсена, следовавшие за ним шаг за шагом, от драмы к драме, в первую минуту боязливо отступили перед открывшейся пропастью. «Большая» публика и ее представители в прессе подняли неистовый крик, какого не слышалось со времени появления «Комедии любви», и как в 1862, так и в 1882 году, и публично, и частным образом, набросились на личность поэта. Такое же негодование вызвала другая пьеса – «Дикая утка».
Когда летом 1885 года Ибсен снова приехал в Норвегию, он с горьким чувством увидел, что его лучшие друзья из мелкой партийной ненависти стали его заклятыми врагами, и самые честные люди считали его «отступником». Теперь уже никакие рукоплескания молодежи, никакие овации не могли его обмануть и утешить. С иронией холодного и спокойного отвращения к людям он замечает о своей поездке на родину: «В целом я получил такое впечатление, что в Норвегии не два миллиона людей, а два миллиона кошек и собак». Теперь для него уже нет резкой противоположности Европы и Норвегии. За чертой горизонта, замыкающей Северное море, он больше не видит нового мира. И здесь, и там – глубокое вырождение человеческой личности, торжество посредственности и мнимого либерализма. Вот что пишет он в 1870 году Георгу
Брандесу: «Все, чем мы живем теперь, представляет из себя только жалкие крохи от яств прошлого столетия, и это кушанье достаточно долго пережевывалось. Понятия требуют нового содержания и нового развития… Люди хотят только частичных преобразований чисто внешнего свойства». Но, по мнению Ибсена, который здесь, как и везде, не отступает перед самыми крайними логическими выводами из своих убеждений, центр тяжести заключается «в коренном преобразовании всех наших нравственных понятий, всех человеческих отношений». Для него отдельная личность и всякая группа, обладающая внешней насильственной властью над личностью, – непримиримые враги.
С тех пор взгляд поэта-мыслителя еще более омрачился. Он видел грубое торжество военной Пруссии, торжество цинического и самодовольного милитаризма. Мечты об освобождении человеческого духа отодвигаются в неизмеримую даль. Силы не покидают Ибсена, а скорее, возрастают, но борьба становится все безнадежнее. И он уходит в самого себя. Теперь, с точки зрения его крайнего индивидуализма, человек, находящийся в гармонии с обществом, – ничтожная личность, связанная по рукам и ногам условностями и общественными традициями. «Самый сильный человек, – говорит Ибсен, – тот, кто один».
Он уже не верит в близкое пришествие неведомого всеобщего обновления; не верит, что люди, по крайней мере, его современники, – способны осуществить идеал свободы, о которой он мечтает. И вот, как некогда в Гримштаде бедный аптекарский ученик убегал на пустынный морской берег, так теперь поэт от пошлости и глубокого бессилия современного общества уходит к родному Северному морю. Оно опять на мгновение примирило его с жизнью. Все внутренние диссонансы, противоречия, ненависть к людям разрешились в гармонию, которой проникнуты заключительные сцены самой поэтической из его драм – «Женщина моря» («Эллида»). Он остался верен себе. Мрачная, неизменная красота Норвежского моря (он задумал пьесу летом, на западном берегу Норвегии, в городке Мольде) всю жизнь была для него символом безграничной свободы, которой он тщетно искал у людей.
Биограф описывает наружность Ибсена: «Он небольшого роста, но тем не менее производит внушительное впечатление. Верхняя часть тела отличается необыкновенной крепостью. Все лицо обрамлено сединами, обильными наперекор его возрасту. Сжатые губы, взгляд, устремленный через очки, и густые брови производят впечатление неустанно напряженной мысли и воли. Над всем возвышается сильный, развитой лоб… Вся фигура производит впечатление боевой силы… Никто не слыхал, чтобы Ибсен когда-нибудь хворал. Даже недуги, составляющие обычное явление в преклонном возрасте, пощадили его. Он весь как бы представляет из себя олицетворенное здоровье. Ни ветер, ни буря, ни холод, ни дождь – ничто не смущает его. Во всем, что он делает, он – воплощенная регулярность. Долго пришлось бы искать кого-нибудь другого, чья жизнь в такой же степени походила бы на часовой механизм».
Биограф замечает с наивностью, что Ибсен, уехав из Норвегии, ведет тихую, «счастливую» жизнь в Германии и в Италии. Слово это звучит довольно странно в применении к такому человеку, как автор «Призраков». У него есть все внешние условия, которые люди считают необходимыми для счастья, – здоровье, деньги, слава, семейный очаг. Но стоит прочесть два последних произведения Ибсена – «Гедду Габлер» и в особенности «Строителя Сольнеса», чтобы понять, каково это счастье. Ибсен, как все сильные люди, сохраняет тем большее наружное спокойствие, чем мучительнее его внутреннее смятение. По-видимому, этому человеку незнакомо чувство усталости и примирения. Мы видели, как с годами круг его ненависти, его возмущения и отрицания все расширяется. Сначала ему было тесно в родном Скиене, потом в обществе Гримштада, потом во всей Норвегии, наконец и во всей Европе.