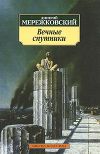Текст книги "Собрание сочинений в 20 т. Том 8. Вечные спутники"
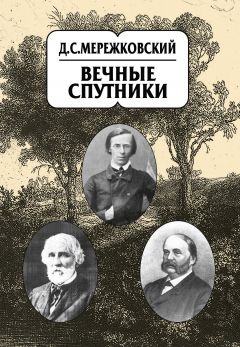
Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 38 (всего у книги 38 страниц)
Сталкиваясь с проявлениями слабости или с недостатками своих «героев», Мережковский спешит их оправдать. «Мелочное тщеславие» Плиния вызывает у него «невольную досаду». «Как может проницательный и умный человек придавать значение такому вздору?» – восклицает он. И тут же: «Но такова человеческая природа: на всякого мудреца довольно простоты; у каждого века свой комизм, которого избегают только исключительные люди». Но и такой «исключительный» человек, как Гёте, тоже имеет свои слабости. Рассуждая о душах-монадах, он вдруг отвлекается и кричит в окно на собаку, как обычный лавочник. Вот как комментирует этот фрагмент Мережковский: «Образ Гёте-олимпийца, кричащего псу с какой-то нездешнею яростью: “Ларва, низкая сволочь!” – остается навеки одним из богоподобных человеческих образов». Монтеня, поддерживавшего «плохие» законы, он оправдывает тем, что он по условиям своей жизни просто не мог стать мучеником и героем. «И вот, по необходимости, – заключает Мережковский, – он избирает второй исход, требование порядка, защиту старинных государственных основ, консерватизм». Мережковский не может принять своих «героев» такими, какими они предстают в своих книгах или в воспоминаниях о них. Он создает свой собственный образ художника и того мира, в котором он жил. Потому его так беспокоит, например, «поверхностность» политических убеждений Пушкина или его беспомощность в семейных делах. Позднее это беспокойство приобретет другие формы. В статье «М.Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества», например, он напомнил читателю, что Пушкин повернул домой в дни декабрьского восстания, когда дорогу ему перебежал заяц: «не захотел быть мучеником». И Ибсена Мережковский не хочет видеть счастливым, как о том пишет его биограф. Разве может быть счастлив тот, кого Мережковский представляет себе в постоянном противоречии, даже в антагонизме со своим веком? Нет, это только «наружное спокойствие», оно скрывает «внутреннее смятение».
Мережковский полемизирует не только с самими писателями, их книгами, дневниками, признаниями, с их биографами, но и со своими предшественниками, специально изучавшими интересующие его эпохи. С Э. Ренаном он соглашается, когда тот изучает «эпохи мистического созерцания». Если же речь идет об «эпохах сильного религиозного творчества и борьбы», он больше доверяет И. Тэну. И это понятно: как можно полагаться на Ренана, «темперамент» которого «прежде всего аристократический»? Ведь он не сможет беспрепятственно «проникнуть в психологию массовых движений: Ренан бессознательно боится толпы». Так же трудно Мережковскому согласиться и с «честным немецким протестантом и гуманным эстетиком» М. Каррьером, который «ужасается перед бездной Божьего милосердия», изображаемого Кальдероном, «и робкий доктринер закрывает глаза, стремясь слабыми руками удержаться за человеческие помочи, за наши земные цепи, за эти перегородки, отделяющие стойло овец от козлищ, – за добро и зло». А с Гёте, который тоже сомневается в значительности созданного Кальдероном, он спорить не стал: «в нем чувствуется еще непримиренный, воинствующий гуманизм», – заключает Мережковский. Не понявший подлинного значения мистицизма Кальдерона, Гёте принял «благородное, старое испанское вино за что-то горькое или кислое, вроде винного уксуса». Зато И. Тэн, проезжавший по тем же местам, что и Гёте, уже правильно понял смысл открывшегося ему в древнем монастыре. Мережковский сам объясняет, почему люди XIX века, к которым принадлежит и он сам, яснее осознают значение произведений прошлого. Это происходит потому, что им присуще «оригинальное свойство, одна великая способность, которая возвышает их в известном отношении над всеми веками» – «они умеют находить вечно живую красоту человеческого духа. С этой точки зрения – вся религия, вся поэзия, все искусство народов является только рядом символов».
Позиция читателя конца XIX века, «представителя известного поколения», сказывается и в том, какие уроки пытается извлечь Мережковский из опыта древней цивилизации или произведений художников эпохи Возрождения, что называет самым главным в творчестве своих современников. Выраженная отрывочно и, порой, неясно, мысль Мережковского, в конечном счете, сводится к тезису о возможности возрождения в новой русской культуре прежних языческих представлений о плоти, такой же «святой» и не менее важной, чем дух в христианстве. В «Вечных спутниках» Мережковский касается только одного аспекта этой темы. В статье «Тургенев» он размышляет о «вселенском» объединении России и Европы: «Соединяет их вселенское начало обеих культур, единое солнце Востока и Запада – вселенское христианство – Христос в миру, неузнанный, неназванный Жених человеческой плоти, всемирной культуры, ибо без Него культура – не живая плоть, а живые мощи…» Но в каждой из статей обязательно затрагивает эту тему. В статье о Плинии он специально останавливается на отношении своего героя к христианам. Марк Аврелий, отрекшийся от жизни, все же «предчувствует», по его мнению, будущую милосердную религию, потому что умеет любить. У Пушкина он находит глубокие религиозные переживания, а в творчестве Кальдерона – служение великой христианской идее. Гёте, напротив, «поэт-олимпиец», не заметивший христианства, но несущий новым поколениям весть о его будущем обновлении. И Майков, сколько бы ни говорил о христианстве, «сохраняет все то же античное настроение»: «Это тонкий поэтический материализм художника, влюбленного в красоту плоти и равнодушного ко всему остальному».
Наблюдения над художественными текстами приводят Мережковского к отождествлению писателя с его героем, перенесению на личность художника их страстей, мыслей, душевных движений. Он отождествляет Гёте с Фаустом, Майкова – с его лирическими героями, в статье «Тургенев» выбирает из его «таинственных» повестей написанную от первого лица и представляет признания героя откровениями писателя. Когда же источником являются письма, например, или дневники, Мережковский выстраивает высказывания согласно своей концепции и комментирует их. И если для полноценного выражения его идеи текста источника было недостаточно, он своеобразно перерабатывал его, не ограничиваясь простым цитированием. Он вычленял интересный ему фрагмент из контекста и помещал его в другой контекст, комбинировал два разных фрагмента, обрывал цитату и пр.
Таким образом текст источника приобретал нужный истолкователю вид, подтверждал его предположения и догадки, и оставалось только удивляться, как же его предшественники не заметили этого! Особенно впечатляюще такой метод работы с источником сказывается в использовании библейских текстов. Предчувствия Мережковского, его способность к тайновидению, понимание глубинного смысла пророчеств и комментарии к вечной книге стилизованы под подлинное слово Божье. Разумеется, это не было случайностью. Такой своеобразный способ переосмысления биографии, художественного текста, исторического источника, эпистолярного материала был связан с тем, что Мережковский обращался к ним с уже сформулированной, отчетливой и ясной для него самого идеей, обретавшейся за пределами чужого текста.
Е.Д. Толстая назвала Мережковского «человеком с пониженным чувством жизни». В книге «Поэтика раздражения» она писала, что этот «гуманитарий», «филолог» совершенно иначе, чем А.П. Чехов, реагировал на итальянские достопримечательности. Его «охватил экстаз не перед живыми новыми чертами европейской цивилизации, а перед историей и искусством, отложившимся в уже законченных формах»[215]215
Толстая Е. Поэтика раздражения. Чехов в конце 1880-х – начале 1890-х годов. М.: Радикс, 1994. С. 193.
[Закрыть]. Здесь точно схвачены особенности Мережковского, неспособного одушевляться живыми впечатлениями действительности, мало интересовавшегося бытом, нравами, а на людей смотревшего как на призванных выражать высокие идеи. Он признавался, что «более счастлив, чем когда в первый раз влюбился», был, «три недели» не выходя «из музеев, древних монастырей, палаццо, темных соборов, замков, картинных галерей, библиотек»[216]216
Мережковский Д.С. Вечные спутники. Портреты из всемирной литературы. С. 760.
[Закрыть]. Люди, не разделявшие этого счастья, казались ему подобными обезьянам: «Молодые и уже старчески обрюзгшие, испитые, самодовольные и безнадежно идиотские лица! Как они едят, как смеются! Неужели это не обезьяны, а люди, такие же свободные, Богом созданные люди, как те, что построили Боргелло и дворец Питти? Быть не может! Куда девалась человеческая сила? Почему они все такие скучные, хилые, трусливые и, главное, безобразные?»[217]217
Там же.
[Закрыть]. Подлинный восторг и настоящий интерес вызывали у него книги. В III части «О причинах упадка…», характеризуя метод «субъективного» критика, он писал: «Книги – живые люди. Он их любит и ненавидит, ими живет и от них умирает, ими наслаждается и страдает», а их истолкование, новое прочтение декларирует как творческий принцип: «Поэт-критик отражает не красоту реальных предметов, а красоту поэтических образов, отразивших эти предметы. Это – поэзия поэзии, быть может, бледная, призрачная, бескровная, но зато неизвестная еще ни одному из прежних веков, новая, плоть от плоти наша – поэзия мысли, порождение XIX века с его безграничной свободой духа и неутолимою скорбью познания»[218]218
Там же. С. 445.
[Закрыть]. Таким образом, уже в самом начале творческого пути он видел свою задачу не в том, чтобы показать «красоту реальных предметов», а в том, чтобы отразить «красоту поэтических образов, отразивших эти предметы».
Отсюда – одна из особенностей творчества писателя: его тотальная «литературность». Видимо, речь должна идти о литературности одновременно как о причине и как о форме. В первом случае – это отражение отражения, «поэзия поэзии», которая должна рассматриваться в связи с символистской концепцией. В самом общем виде действительность осознается в символизме, подобно романтическому мировидению, как несовершенная и источающая зло, а подлинное видится там, «за дымкой явлений». Лишь немногим доступно проникновение в миры иные и им открывается «тайна премирная». Потому перед «субъективным критиком», как Мережковский писал в начале пути, или перед поколением «декадентов», «упадочников», как он говорит в финале «Л. Толстого и Достоевского», стояла задача услышать того, кто уже соприкоснулся с этой тайной и выразил ее. Этим можно пояснить состав «Вечных спутников» и отказ от включения в первое издание тринадцати из написанных к тому времени двадцати шести статей, и дальнейший пересмотр ее состава, т. е. помогает объяснить сам перечень «спутников», его изменение с течением времени, введение некоторых из них задним числом в этот перечень и к концу жизни писателя сужение их числа до имени Ф.М. Достоевского, который при таком взгляде выдвигается на центральное место в творчестве Мережковского.
Потребность в том, чтобы донести до читателя прозрения избранных, обусловила обращение к материально-литературным свидетельствам, в которых они зафиксированы: книгам, изваяниям и живописи. Этим, вероятно, обусловлено включение в «Вечные спутники» статьи «Акрополь», в целесообразности чего выражали сомнение рецензенты, введение в книгу «Л. Толстой и Достоевский» таких широких обращений к живописи и скульптуре эпохи Возрождения, и создание в исторической беллетристике, как, например, в «Леонардо да Винчи», не «живописного полотна», а «искусно вытканного гобелена, который принято рассматривать в силу его декоративности»[219]219
Бацарелли Э. Заметки о романе Мережковского «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» // Д.С. Мережковский. Мысль и слово. С. 55.
[Закрыть]. В историософской трилогии периода эмиграции их место занимают предметы религиозных культов, мумии, настенные рисунки, древняя письменность и пр. Можно сказать, что у Мережковского визуальное, направленное на зрительный охват и воспроизведение в слове материального, потесняет музыкальное, являющееся отличительной особенностью символистской поэтики.
Сохраняется ли связь литературности с символистской концепцией, когда Мережковский перестал бороться за новое искусство? Да, поскольку символизм стал основой его жизнетворческого проекта, в который включался и особый тип писательского поведения, и выходы в сферу религии, философии, общественности, где также возникала потребность в отражении отраженного (А. Герцен – М. Бакунин, В. Белинский – Ф. Достоевский, Вл. Соловьев – М. Лермонтов, Н. Некрасов – Ф. Тютчев и др.). Он декларировал решение внелитературных задач, которые перед ним встали уже на рубеже веков, на материале русской литературы, «религиозной по преимуществу». И нет, – поскольку эксплуатация «чужого» стала составляющей профессионального инструментария, предполагавшего целый ряд приемов, пригодных для «отражения»: пересказ, цитата, реминисценция, аллюзия, компиляция, перевод, помещение прежних комбинаций-форм в новый контекст, создание новых комбинаций. Наряду с ними в связи с художественным заданием он использовал предметный замысел и точку зрения, уже выраженные в чужих произведениях, а также свои, но воплощенные в иных жанрах, прибегая к стилизации и вариации. Точное цитирование с отсылкой к источнику в позднем творчестве обусловило особый тип публицистичности, когда собственная точка зрения выражается путем комбинаций авторитетных высказываний.
В «Вечных спутниках» великие «незнакомцы» открывались читателю, как правило, путем прочтения Д. Мережковским двух текстов: исследования о каждом из них и текста, созданного самим «героем».
В качестве источника «точного» знания использовались труды историков, биографов, статьи переводчиков, критиков. Текстом, получавшим статус самохарактеристики («исповедь»), мог быть том переписки, дневник и даже художественные произведения, рассматриваемые как достоверный документ. При интерпретации того и другого он прибегал к домыслу, а его художественная интуиция восполняла пробелы или способствовала реконструкции недостающего в исходных текстах, излагаемого в сослагательном наклонении. В зависимости от характера интерпретируемых текстов на первый план выдвигалась или «жизнь», или «творчество». В статье «Пушкин» с опорой на «Записки А.О. Смирновой» открывалась неизвестная «жизнь» поэта, а в процессе анализа «творчества» сделаны выводы о его «религии», т. е. намечены черты продуктивной для Мережковского композиции его трудов. Между статьей «Пушкин» и книгой «Л. Толстой и Достоевский» установилась метатекстуальная связь.
В «Вечных спутниках» есть настоящие исследовательские открытия, догадки, свидетельствующие, что их автор был прекрасным историком литературы и театра. В его беглом анализе драм Кальдерона, например, предугаданы выводы, сделанные литературоведами только в конце ХХ века. Мережковский отмечает «странное смешение теплого воздуха испанской ночи с атмосферой инквизиции, возвышенных понятий о чести и рыцарской любви с жестоким фанатизмом» в пьесах испанского драматурга, сопоставляет их с трагедиями Шекспира и, по существу, делает вывод о барочной природе произведений Кальдерона. Им верно была угадана будущность Ибсена, он первым заговорил о религиозности Пушкина, теме, такой популярной в наши дни, впервые обратился к изучению поэтики Достоевского, сказал об Обломове то, что будет повторено об этом герое Гончарова только в начале 1990-х гг., статья о Майкове и сегодня дышит новизной и оригинальностью. Он оставил верные и меткие замечания о развитии европейского театра, о древней трагедии, о влияниях и взаимовлияниях в мировой культуре, да и достижения Мережковского в жанре литературного портрета все еще требуют специального изучения.
«Вечные спутники» стали важным этапом его творческой эволюции. Статьи, которые он включал в разные редакции этой книги, были тесно связаны с его исследованиями, публицистическими выступлениями, религиозно-философскими эссе, открывали многие темы, к которым он обращался в исторической беллетристике, критике, драматургии. «Вечные спутники» оказали огромное влияние и на современников Мережковского. А. Пайман полагала, что «этот том, содержащий живую и крайне субъективную переоценку мировой классики, вероятно, сделал больше, чем любая другая книга, для воспитания подрастающего поколения в уважении и любви к искусству как вневременному и непреходящему»[220]220
Пайман А. История русского символизма. М.: Республика, 1998. С. 37.
[Закрыть]. Этот ее смысл не потерял своей актуальности и сегодня.
Е.А. Андрущенко