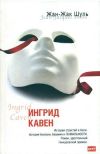Текст книги "Роман с автоматом"

Автор книги: Дмитрий Петровский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
VIII
– Принесите, пожалуйста, новую вилку!
Я нагнулся, поднял с пола кусок металлического холода, увенчанный тремя острыми зубчиками. Отошел, постоял, подошел – вернул вилку. Пол у нас чистый.
– Спасибо.
В этот день народу было много, и я только успевал приносить новые блюда. Из уличной жары люди ломились в черную прохладу, платили большие деньги за возможность поесть в темноте. Над столами поднимался пар, холод напитков, потные облака. Как мячики, разговоры летали по углам.
– Жарко. Берлин в такую жару невыносим. Пора уезжать.
– При тактой погоде хорошо пить Rose2. Впрочем, здесь хорошая температура.
– Ах, так удивительно! Есть в темноте – это они хорошо придумали. Необычно.
– Всякой херни уже столько придумано – не перечесть. Денег всем хочется, всем надо.
– И вот, вчера, представь себе, нахожу у себя в ящике…
Стол на четверых, двое мужчин, двое женщин. Мужчина не толстый, но высокий и плотный, при приближении крепко пахнущий козлом. Другой – более водянистый, почти прозрачный, вокруг глаз угадывались круги очков. Я разлил вино, запоминая моих посетителей, чтобы потом снова найти их.
В последние дни я работал много и с удовольствием. С тем большим удовольствием, что после нашей поездки на море что-то изменилось. Может, изменились мы.
Мы ходили по магазинам. У меня появились новые ботинки, штаны с длинными бороздками во всю длину – можно водить ногтем, сверху-вниз, снизу вверх.
– Не грызи ногти! – говорила она.
Я не замечал, что грызу ногти. Теперь стараюсь не грызть, и правда – чего-то не хватает.
Еще у меня теперь есть мобильный телефон – странная зверушка, которая дрожит, когда звонит она, или когда зверушка хочет есть – тогда дрожит по-другому. Втыкаю в розетку, отыскиваю маленькую дырочку, вставить провод – и ток бежит по проводу, провод слегка нагревается от бега. Еще телефон умеет заливаться какими-то ублюдочными мелодиями. Я спрашивал ее, нельзя ли, чтобы он просто звонил, звонком, как обычно это делают телефонные аппараты. Она смеялась, тыкала в кнопки – и телефон замолчал, и когда звонит она, чтобы сказать, что опаздывает, я чувствую только его вздрагивание – из кармана, к бедру, по плечу, параллельно пробегающей по спине теплой змейке. Больше никто не знает моего номера.
– У тебя появилась девушка? – спрашивала Аннет на работе.
Я отмахивался:
– Что ты, какая у меня девушка?
А может, изменился Берлин. Когда мы вернулись назад, город корчился под грузом облаков и проливного дождя, самолет при посадке мотало так, что я чуть не потерял сознание. В городе капли падали на не успевший остыть асфальт, теплая вода бежала под ногами. В аэропорт из самолета мы шли по гудящему, дышащему резиной коридору, и через каждые три шага в нем стояли неподвижные, безмолвные люди. В руках они держали до боли знакомое нечто, что я знал только в единственном экземпляре, теперь же, чувствуя его размноженным, терялся.
– Автоматчики, охрана, – говорила она, – ждут терактов.
Люди с оружием остались на периферии сознания, их запахи – приглушенное кисловатое дыхание, военная форма, водянистый пот, машинное масло – снились мне потом, и иногда я чувствовал их на улице, оборачиваясь и понимая, что ошибся. В ресторане я об этом забывал. А иногда, прислонившись на темной половине к стенке и тихо стоя за спинами людей, сам чувствовал себя таким же автоматчиком.
– Послушай, зачем? У тебя есть машина. Совершенно прелестная машинка, а? Я знаю, да, у Сабины «Mini Cooper», и что? Какое тебе дело? Лучше поедем сегодня ко мне, купим шампанского. Я закажу торт. Ну, дорогая?
Низенький толстый мужчина за угловым столиком увещевал слабым, захлебывающимся голосом. Потеющая под густым слоем косметики женщина молчала, тяжело дыша, рука ее лежала на руке мужчины, которая периодически вспыхивала ярким огнем, дергалась и пыталась вырваться, а длинные пальцы женщины, наоборот, холодели от напряжения. Длинными ногтями женщина драла руку собеседника, сладострастно щипала ее, задыхаясь, как после длинного подъема в гору.
– Херовая здесь еда, – услышал я из-за другого столика, и вздрогнул. Говорили по-русски.
– Да брось! Еда как еда, не выпендривайся. В этом ресторане, говорят, Путин ел. Когда еще в Германии работал. По телеку видел.
– Путин, выходит так, везде был. Только и слышишь про него: Путин то, Путин се…
Я побежал на кухню, забирать готовые блюда.
– Ты пойми меня, Кристоф. Эти бумажки – это vox populi.
– Я отказываюсь с тобой об этом говорить.
– Не горячись, ради бога, – вкрадчивый низкий голос звучал очень деликатно и доверительно, – не я же их писал, в самом деле. Да, это все ужасно и совершенно некорректно. Но ведь правда там есть, много правды. Люди устали от этой злосчастной мультикультурности. Берлинцы – особенно.
– …Вике, – отвечали из-за русского стола, – Норберт Вике. Солидный такой дядя, физик, получил нобелевку. И жена у него немка, но по-русски отлично чешет. Говорила, ее первый муж был русский. Писатель какой-то.
– Да, хорошо там кормили. И поили что надо…
Русский язык преследовал меня в последнее время. Один раз, когда мы сидели у нее, она поставила русский фильм.
– Дал один знакомый, – пояснила она, – взяла для тебя. Ты, наверное, скучаешь по своему языку.
Я не скучал. Фильм был только на русском, поэтому при первом просмотре я был переводчиком. Фильм назывался «Брат-2», она говорила, что есть еще «Брат-1», а это – продолжение.
Я переводил и быстро понял, что фильм мне не понравился. На стихотворении «Я узнал, что у меня есть огромная семья…» я постоянно спотыкался, и потом просто говорил ей, что это стихи о любви к Родине. Она не объясняла мне, кто куда пошел и кто что делает на экране в данный момент, но я все и так понимал из диалогов.
Пока мы сидели у телевизора, я пытался понять, что изменилось, и вдруг почувствовал, что пахнет она по-другому – на ее внутреннем свечении, ее запахе, словно лежал сверху какой-то другой – тяжелый и неуклюжий, что-то неприятное. Я пытался понять, что это, и иногда в ресторане, у столов, где сидели пары, мне казалось: я чувствую что-то похожее – но потом понимал, что не совсем то. Этот запах у нее то исчезал, то появлялся опять.
– Лично я считаю, что эти бумажки во многом отражают правду. Экстремизм – да, лишнее. Мы цивилизованные люди, а там получается, что их надо убивать. Но вот то, что их слишком много – чистая правда…
– Что ты делаешь, когда ты один? – спрашивал томный женский голос, и такой же томный и неокрепший мужской отвечал:
– Читаю… Курю…
– Да, физиком, конечно, лучше быть, чем писателем, – задумчиво, отдуваясь, изрекали по-русски, – причем если физик лауреат, а писатель – ни хрена не лауреат… – слышалось довольное уханье. Вероятно, смех.
– Дорогая, машины загрязняют окружающую среду. Ведь мы хотим, чтобы наши дети жили в чистом мире, с чистой экологией. Я сам езжу на метро, ты знаешь…
Женщина по-прежнему молчала, тяжело дыша и работая ногтями, разрывая руку собеседника, как крот – сырой грунт.
– Ах, послушай, это совсем, ну совсем не имеет к нам отношения, – молодой голос был готов расплакаться. – Ну да, я женат. Но это – просто договор между двумя людьми, так было лучше в определенное время. И перестань думать о моей жене. Подумай обо мне – мне сейчас гораздо труднее, чем ей.
– Vox populi, Кристоф, я тебе чистую правду говорю.
– И вот после выборов, ты увидишь, эти бумажки моментально исчезнут. А следом начнут исчезать турки…
– Вон! Выслать! В двадцать четыре часа!
Я поставил еще несколько блюд на стол, спросил, не надо ли чего-нибудь. Люди разговаривали, ели, осторожно обследовали руками пространство вокруг себя. Голоса сливались, перекрывали друг друга – но при этом меня не покидало ощущение, что все они, оставшись в темноте, говорят сами с собой. Во время прогулок я часто замечал людей, медленно, по-особому переставляя ноги, двигавшихся по улице и бормотавших что-то себе под нос. Кто знает, что там случилось, в их голове, какой яркий свет вдруг щелкнул и погас – так, что им приходится теперь непрерывной болтовней каждую минуту доказывать себе, что они живы.
– Kristallnacht, – пробормотал я тихонько. Красивое, таинственное, грустное слово. – Kristallnacht[49]49
Хрустальная ночь.
[Закрыть]…
Что-то со свистом взрезало воздух – холодный, медленно вертящийся предмет пролетел мимо, ударился об стену и исчез, став тысячей холодных брызг и тихим звоном: кто-то кинул стакан об стену.
– Харальд! – крикнула женщина совсем рядом со мной, вздымая вверх сухие руки, и на мою щеку с ее ногтей брызнула какая-то горячая капля.
IX
Он шагнул к трибуне, на которой стояли винный бокал с водой и два микрофона. Люди в зале перестали аплодировать – должно быть, слушали – он никого не видел из-за впившихся в глаза прожекторов. Пытаясь все-таки посмотреть в зал, он подумал, что эта так понравившаяся ему поначалу круглая сцена – полная ерунда, потому что на ней приходится стоять задом к половине публики. Он положил бумажку на скат кафедры, улыбнулся в зал, чтобы потом окончательно опустить глаза в бумажку и уж больше их не поднимать.
– Meine Damen und Herren! – грохнул на него его же собственный голос из мониторов. – Ich werde ihnen…[50]50
Дамы и господа… Сейчас я прочту вам…
[Закрыть]
Он читал минут пятнадцать, поэтические клипы про Ленина и Сталина неизменно вызывали легкие всплески смеха в зале, а после финального стихотворения про Берлинскую стену слушатели аплодировали звучно и искренне. Он еще раз улыбнулся, сходя в зал, подумал о том, что он вот так легко заработал еще немного денег, сейчас можно пойти в бар и сидеть там, пока отыграют музыканты и отчитает Борисов, а потом выпить с Борисовым, приятно потрепаться и пойти в номер, спать. Только еще минут десять посидеть в зале – сразу к бару бежать неудобно.
На сцене рабочие торопливо унесли кафедру и выдвинули микрофонные стойки на первый план. Вышел похожий на итальянца организатор и объявил следующих гостей, гамбургских русских «Noise Arts». Под аплодисменты на сцену из бокового прохода вышли трое угрюмых молодых людей в черном, один, в футболке с надписью «Скиф-2000», не поднимая глаз, направился к громоздкой стойке с синтезаторами и лэптопом. Двое других взяли со стоек бас– и просто гитару, с шумным щелчком воткнули в них шнуры. Гитарист был в футболке с изображением клепаных металлоконструкций, а волосы, спадавшие на лоб и бросавшие тень на совсем молодое лицо, были абсолютно белые, с серебряным отливом. «Энди Уорхолл», – с усмешкой подумал писатель.
Из колонок раздались щелчки и скрипы, следовавшие друг за другом в нервном и неприкаянном ритме. Потом монотонно загудел бас, гитарист-Уорхолл ударил по струнам, и одного этого аккорда было достаточно, чтобы понять, что на гитаре играть он не умеет. Из колонок полилось восходящее электронное жужжание, бас все топтался на месте, а гитарист резко и преувеличенно старательно дергал струны, пытаясь выдать неумение за оригинальный стиль – гитара жалобно скрипела, попискивала и отплевывалась диссонантными аккордами.
Писатель скользнул глазами по первым рядам; он увидел Сюзанну, о чем-то мило беседовавшую с важного вида немцем в очках и строгом костюме. Борисова в зале не было, писатель встал и решил все-таки пройтись к бару – может, там найдется кто-нибудь знакомый. Звук в колонках прекратился, и пока он шел между рядами, публика ровно и вежливо аплодировала. У женщин в зале были красивые вечерние платья, они легко колыхались в такт хлопкам. Он прошел мимо рядов, мимо огромного пульта за колонной и склонившегося за ним толстого звукорежиссера с пивом – импровизированный бар был там, там же были высокие столики с пепельницами, за ними можно было только стоять. Со стороны сцены снова послышались какие-то пощелкивания, скрипы и писки, он закурил сигарету и прислушался – издалека это звучало даже не так плохо – как позывные инопланетного радио, или, может быть, просто шум в интервале между частотами двух радиостанций. Зал тихонько шелестел – кто-то разговаривал, кто-то смотрел на сцену – эта дикая музыка, казалось, была неплохим фоном.
Он посмотрел в зал, снова поискал глазами Борисова, снова не нашел – и ему вдруг стало грустно, как довольно часто бывало грустно на таких мероприятиях – оттого, что все эти люди так непринужденно болтали между собой, так легко показывали свой интерес к происходящему – а он вынужден был искать соотечественников, которых презирал, но еще больше презирал себя – за то, что ни с кем, кроме них, не может найти общего языка.
Над сценой вдруг взлетел и взорвался оглушительный рев, переходящий в визг. Толстый звукорежиссер за пультом, ударив пальцем сверху вниз по какому-то рычажку, торопливо погасил его. Писатель посмотрел на сцену – гитарист-Уорхолл стоял на коленях, бешено молотя правой рукой по струнам совершенно обезумевшей гитары, а левой поворачивая блестящие колки на грифе. Гитара выла, как запутавшийся в огромных сетях и тщетно пытающийся взлететь истребитель. Басист меланхолично покачивал головой, неловко переставляя пальцы на грифе, клавишник с размаху тыкал пальцами в клавиатуру, попадая почти все время в одну ноту.
– Стараются, – криво усмехнулся писатель, допивая пиво и закуривая новую сигарету.
Рев на сцене сменился электронным шипением, потом биением чего-то тупого, будто резинового, потом стальным грохотом, и наконец все оборвалось – только гитарист все встряхивал белыми волосами, аккуратно трогая слегка поскрипывающие и пощелкивающие струны.
Композиция закончилась, музыканты под аплодисменты ушли со сцены, организатор объявил Борисова, который незамедлительно откуда-то появился. Писатель взял еще пива, хмель тихонько постукивал в голове, лень и расслабление от никотина приковывали к столику. «Борисова я уже слышал, – думал он, – он меня все равно не видит. Подойду после, скажу, что понравилось».
Борисов читал с переводчиком, должно быть, рассказ – неторопливо, глядя в бумажку, и голос мерно перекатывался в колонках, бубнил, иногда останавливаясь, чтобы набрать воздуха и продолжить.
Люди медленно перемещались из зала в бар. Пришли Сюзанна и строгий немец, две женщины в черных платьях, из служебного выхода появился гитарист-Уорхолл, взял пива и встал за столик недалеко от писателя, пару раз прошелся туда-сюда длинный худой мужчина в очках и с бритой головой. Люди курили, болтали, отсутствующе пускали дым в воздух. Беловолосый гитарист сосредоточенно смотрел перед собой, неохотно глотал пиво, иногда поглядывал на сцену. Писатель еще раз обвел глазами публику у бара, и, вздохнув, перешел к его столику.
– Здравствуйте!
Молодой человек дернул головой в его сторону, внимательными черными глазами осмотрел писателя и тоже поздоровался.
– Вы ведь сейчас играли? Мне понравилось, – начал писатель, – интересно, необычно.
Разговор медленно завязался, парень сказал, что ему тоже понравились стихи. Писатель предложил взять по стопке водки, гитарист согласился; они молча выпили, потом разговор снова начал свое валкое движение.
– В конце очень много шума было. Я даже испугался, – усмехаясь, говорил писатель.
– Это моя любимая композиция, – парень разводил руками, словно строя из воздуха угловатую кособокую конструкцию, – история мира. Сначала – тихо, потом больше, больше, потом много-много всего, войны, революции, индустрия, потом взрыв и – опять тихо, все по новой…
– Да-да, занятно. И в музыке развития нет, потому что – все как бы одно и то же?
– Да, конечно! – Парень сверкнул глазами, кажется, не уловив иронии. – Маленькие круги, по которым движется каждая жизнь. А из этих кругов состоят большие. И так все вращается, и все приходит к своему началу.
– Занятно, занятно… Вы давно в Гамбурге?
– Три года.
– А почему уехали, если не секрет?
– В России нельзя такую музыку играть. Не понимают. А здесь для всего есть своя ниша, хоть и маленькая. Нас издают иногда, ездим, концертов много даем – жить можно.
– Да-да… – согласился писатель.
Повисла пауза. Все больше людей перемещались к бару, они что-то обсуждали, пили вино, пиво из высоких пивных бокалов. «Вот и разговариваем, – думал писатель, – вполне по-европейски». Из колонок все бубнил Борисов, иногда останавливаясь, давая место звучному голосу переводчика.
– Здесь тоже бывает трудно, – продолжал свою мысль парень, – с экспериментальной музыкой всегда труднее. Но здесь хотя бы люди знают, что если что-то непонятно, надо пытаться понять…
– Скажите, – начал писатель, – или нет, давайте еще водки, перейдем на «ты», и тогда я спрошу…
Гитарист кивнул, взяли водки, наверное, именно ввиду специфики мероприятия припасенной в баре. Выпили молча, писатель морщился, с трудом глотал горькую жидкость. Парень выпил спокойно, но немного оставил на дне.
– Хорошо пошла… – поморщился писатель полувопросительно.
– Да, неплохо, – парень пожал плечами, – так что вы хотели спросить?
– Да, вот что… – писатель оглянулся, будто хотел установить, не подслушивает ли кто-нибудь этот разговор. – Скажите… то есть скажи… вы… ты считаешь вашу музыку экспериментальной?
Парень удивленно вскинул белые брови. Да, конечно, а как же еще. Есть мейнстрим, а есть эксперимент, авангард. Можно скользить по поверхности, можно копать в глубину. Вот мы и копаем в глубину.
– Да-да, это так… Но ведь ты сам говоришь – ниша. Стало быть, это уже направление. И люди знают, как к этому относиться. И никого это не удивляет.
– Да. Ну и что?
– Но ведь это тогда уже не эксперимент.
– А почему эксперимент должен кого-то удивлять?
Из зала раздались аплодисменты – Борисов закончил. Выходил организатор и объявлял очередных музыкантов. Писатель подумал, что надо бы поймать Борисова. Но было лень, и потом – он чувствовал, что вот сейчас, еще немного, выйдет на свою мысль, и наконец, возможно, наступит освобождение. Борисов, наверное, все равно пойдет в бар – тогда и получится поговорить.
Парень-гитарист молчал, поглядывая на недопитую рюмку.
– Послушайте. Послушай, – наконец сказал он, – ваши стихи – они разве не авангардные?
Тут на сцене появились новые молодые люди, и в них писатель узнал молодых русских с набережной Рейна. Наглый матерщинник Женя прохаживался, немного покачиваясь, по сцене, пока его товарищи пробовали инструменты. Толстый звукорежиссер за пультом напрягся, положив сосисочные пальцы на рычажки и вперив взгляд в музыкантов.
– Гуд ивнинг! – крикнул Женя в микрофон, и, как показалось писателю, икнул. – Найс ту си ю!
Барабанщик щелкнул палочками, давая такт – и музыка загремела. Это, кажется, был обычный рок: барабаны отбивали четкий горячий ритм, гитара жужжала и трубила; вокалист-Женя пел неожиданно звучным голосом, левой рукой держась за микрофонную стойку, а правую выбрасывая в зал.
– Вот они, – гитарист-Уорхолл показал писателю на музыкантов, – это не авангард, это уже было. Хотя ребята хорошие, классные инструменталисты. Обычный русский рок, играют только попрофессиональнее.
– А чем они от вас отличаются, кроме того, что у вас не поют?
Гитарист обиженно посмотрел на писателя.
– Послушайте! – наконец сказал он. – Вы, кажется, совсем не разбираетесь в современной музыке….
– Да, наверное, не разбираюсь, – раздраженно ответил писатель, – хотя я из Петербурга, и я слушал рок, когда ты еще, извини, пешком под стол ходил. И тогда, – он мечтательно закатил глаза, – тогда это было другое. Это был, шок, взрыв, вызов! Провокация наконец.
– Мы тоже провоцируем! – возразил гитарист. – Некоторые вот из зала ушли. И вы, кажется, тоже себя не очень уютно чувствовали.
– Никто не ушел! – с нажимом возразил писатель. – Они все уже привыкли, они такое каждый раз слышат, на каждом таком концерте, лет десять, думаю… Прости, – торопливо добавил писатель, похлопывая гитариста по плечу, – я не хочу обижать тебя и твою музыку. Просто… что-то новое надо. Новый взрыв, новое движение.
– Мы ищем новую форму, – гитарист-Уорхолл нервно вертел рюмку длинными пальцами. – Для этого надо разрушить старую… Скажите, может, вы придумали что-то новое? У вас есть что-нибудь предложить, кроме Ленина и Сталина?
Барабаны по-прежнему монотонно колотили и бухали из колонок, как быстро идущий под гору состав.
– Я мягкой, – пел Женя, выделяя «о», как это делают в Вологде. – Я совершенно не герой! А тот, другой, как раз герой!
Писатель мутно посмотрел на музыкантов, потом на собеседника.
– Есть, есть новая форма, – наконец сказал он, – и эксперимент… можно было бы сделать, настоящий эксперимент.
Музыканты на сцене все больше трясли головами, заводясь ритмом и нервными гитарными репликами.
– Он сильноой! – тянул Женя на манер какой-то мужицко-ямщицкой песни. – И он, конечно же, герой! А я другой – я не герой!
Гитарист-Уорхолл молчал, терзая рюмку.
– Ты посмотри на них, – начал писатель, обводя рукой зал. – Вот они сидят, все эти люди, на русско-немецком культурном вечере. Тебя слушают, меня, этих вот «героев». Так?
Гитарист молчал.
– Ну вот, теперь скажи мне, только честно: это им хоть сколько-нибудь интересно?
– Наверное нет, – после паузы ответил гитарист, – но это не то… На наши концерты…
– Подожди, – писатель сделал нетерпеливый жест, словно отгоняя муху, – я про этих говорю. Так вот, неинтересно. Почему же они нас слушают? Зачем это все?
– Ну, это же политическая акция… – протянул гитарист, не поднимая глаз. – Наверное, им надо встретиться, обсудить какие-то проблемы – вот и повод.
– Встретиться можно тут, в баре, как мы с тобой, – наседал писатель, – какого черта они в зале сидят? Вот сейчас: этот лохматый перед ними дергается, они ни хрена не понимают, а все равно сидят. Писатель выдержал паузу. – Из вежливости сидят! – сказал он наконец тоном учителя-наставника. – Из вежливости нас здесь терпят. Так?
– Так, – уныло сказал гитарист, – но это публика не та…
– Ну вот, им неинтересно, а они, значит, сидят, – продолжал писатель. – И как ты думаешь, любят они нас за то, что мы их заставляем все это терпеть?
– Мы их не заставляем… – гитарист с недоумением смотрел на писателя. – И вообще, при чем тут новая форма?
– Мы не заставляем, но все равно они должны нас слушать. И это в конце концов ладно. Эти, – писатель махнул рукой в сторону сцены, – поорут и уедут. А мы здесь живем. В их домах живем, я в их газетах и книжках печатаюсь, ты – в их клубах играешь. Ты в Берлине был?
– Был. И что, какая..
– В Берлине безработица, ты знаешь, какая..?
– В Гамбурге тоже.
– Мы занимаем их рабочие места, понимаешь, что это для немцев со всей их паршивой протестантской культурой значит? Скажи что-нибудь по немецки! – Писатель распалялся все больше, руки прыгали, вытаскивая сигарету из пачки. – Скажи-скажи! Айн шахтель кэмел лайтс, битте![51]51
Пачку «Кэмел», пожалуйста!
[Закрыть] Скажи!
– Айн шахтель кэмел.
– Я так и думал! – закричал писатель. – Мы не можем нормально выговаривать их слова, мы коверкаем их язык. Мы ездим зайцами в метро, воруем в супермаркетах вещи. Мы до сих пор не научились отделять пищевой мусор от бумажного, мы гадим в парках. Мы смеемся над ними, – уже немного тише и спокойнее закончил он, – не уважаем их культуру, потому что не понимаем, а они – приходят на русский культурный вечер, сидят и слушают…
Над сценой раскачивалась и плыла в звуках электрооргана медленная песня, вокалист, весь блестящий от пота, с закрытыми глазами выдыхал в микрофон:
Без тебя я больше не жилец,
Так близок мой конец – и некуда укрыться.
Зал умиротворенно слушал, возле бара строгий немец приобнимал Сюзанну, что-то говорил ей в ухо и довольно улыбался. Сюзанна иногда бросала взгляд на столик, где стояли писатель с гитаристом, и быстро, немного смущенно отводила глаза. Гитарист недоуменно смотрел на писателя, на сцену, на часы, словно куда-то торопился. Писатель затянулся сигаретой, перевел дух и заговорил снова, медленнее и взвешеннее.
– Это о русских. И это еще не так страшно. – Он понизил голос почти до шепота и огляделся, случайно встретившись взглядом с Сюзанной. – Страшно – это турки. Они их ненавидят, понимаешь, боятся и ненавидят. А что самое страшное – это то, что они не могут это сказать, и никак показать не могут. Тебе сколько лет?
– Двадцать шесть. Извините, все еще не понимаю, при чем…
– Да дослушай же! Двадцать шесть. Ну, наверное, что-то из благословенных совдеповских времен помнишь. Тоже ведь ненавидели совков, власть, режим – и тоже нельзя было говорить, только на кухне, со своими, шептаться. Но ведь можно было. А им, здесь, этого никому нельзя сказать! Потому что – знаешь почему?
– Ну, знаю, – тихо ответил гитарист.
– Гитлер. Все из-за него. Сразу ткнут пальцем и скажут: фашист! Самому близкому другу, отцу родному – никому нельзя сказать, что ненавидишь турок. И они так живут, ненавидят и молчат, ходят на культурные вечера, едят Donner, плятят свои налоги за адаптационные программы, которые ничего не дают, – и молчат.
Аплодисменты сухо захлопали в зале, музыканты неловко кланялись, придерживая инструменты, Женя кричал в микрофон «сенкью!», брызгая во все стороны каплями пота.
«Не надо, не надо этого! – судорожно думал писатель. – Зачем я это говорю… не то, все не то!» Сигарета затеплилась у самых пальцев, писатель торопливо вмял окурок в пепельницу и, видя, что гитарист-Уорхолл хочет уходить, быстро заговорил:
– Так вот, это, как говорят в задачках, «дано». А найти надо новую форму… Ты меня понимаешь?
– Нет, не понимаю! – выдохнул гитарист.
– Ты не понимаешь, какая это колоссальная экспериментальная база? Эта ненависть – это же энергия, которая копится и не находит выхода! Огромные, нечеловеческие массы деструктивной энергии. И достаточно маленького толчка… – и все взорвется, взлетит на воздух.
– Вы – фашист? – тихо спросил Уорхолл.
– Ну вот, и ты туда же! Не фашист я, у меня русская фамилия, я такой же русский, как и ты. Я поэт, черт возьми, я хочу наконец на сорок третьем году жизни делать искусство, которое действует. Ты же учился в русской школе, помнишь: «Роль поэта в русской революции», «Поэт в России больше чем поэт»? Они умами двигали, а не перышком на бумаге. Их строчки имели реальную власть…
– И что?
– Как что?! – снова закричал писатель. – Как что?! Чтобы движение было, чтобы были новые формы, чтобы был взрыв! Надо, чтобы слово снова обрело силу, чтобы все освободились, проснулись наконец! Вот это был бы эксперимент! – кричал он все громче. – Искусство – это не ниша, не стиль, не авангард и не арьергард – это всегда взрыв, всегда преступление! Поэт всегда – преступник!
– Правильно! – неожиданно прогремел голос из-за спины. – Это точно!
Писатель обернулся и увидел покачивавшегося, сильно пахнувшего алкоголем Женю-вокалиста. Уорхолл протянул ему руку, но тот руки не взял, а склонился над писателем и пророкотал:
– Правильно, поэт – преступник! Особенно когда выпьет! Я всегда, особенно после концертов, преступник и негодяй! – Он засмеялся и стукнул кулаком по столу. – Выпьем, а, писатель? За Ленина и Сталина?
Писатель сник, опустил глаза и молча кивнул. Люди расходились. Они с Женей и гитаристом пошли в какой-то бар, где продолжали пить, писатель пропускал, молчал, склонив голову и неохотно поддерживая разговор, Женя пил виски, швырял деньги на стол и громко матерился; ночь переваливала за третий час.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.