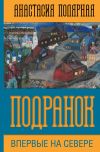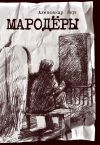Текст книги "Крысиный король"

Автор книги: Дмитрий Стахов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)
Форма висела в шкафу. Я попросила его форму надеть (обычно Ганси ходил по Парижу в темно-синем костюме и серой шляпе). За ним как тень следовал человек с коричневыми кругами вокруг глаз. Он же сидел на стуле в коридоре отеля, в номере которого мы были с Ганси. В этом номере Ганси жил. Потом переезжал в квартиру, потом в другой отель. Продолжал охотиться на ученых и изобретателей, на него тоже охотились. Говорил – англичане. Он ненавидел англичан. Говорил, что он и его начальство могло позаботиться об ученых и изобретателях, англичане же относились к ним без должного уважения, но ученые и изобретатели были уже все выловлены. Или утекли через Пиренеи. Ганси пытался в Париже задержаться. Инспектировал Дранси для того, чтобы нужный ему человек не попал в лагерь уничтожения. Ганси стремился оттянуть свою отправку на Восток. В чем он бы никогда не признался. Он строил из себя героя, но был труслив. Боялся боли. Темноты.
Ему очень, очень шла форма. Собственно, она шла всем. Гениальный дизайн. Все продумано. Ганси был в ней воплощением завершенного, кристально чистого зла. Потом тот, кто обшивал эсэс, клялся, будто он форму не разрабатывал. Будто бы первый эскиз сделал Гитлер, на салфетке, в ресторане. Салфетку отнесли к Хуго. Далее Хуго включил все свои неординарные способности и довел эскиз до идеала. Эта форма в каком-то смысле идеал. Как маленькое черное платье той, что содержала русского красавца.
Ганси надел форму и вошел в спальню. Левый, кажется – левый сапог чуть поскрипывал. Я спросила – куда подевались те двое, мужчина и женщина, вызванные полицейским вместе со мной?
Какие мужчина и женщина? Ганси поправлял фуражку. Красная повязка со свастикой была деталью, придающей целостность всему облику. Было видно, что мой вопрос расстроил Ганси. Он легко расстраивался. Быть может, это было последствием ранения. Я спросила – те, кого вызвали вместе со мной, их тоже отпустили? Ну конечно, конечно, неужели ты думаешь иначе? – он в самом деле расстроился, расстегнул китель, запулил фуражкой в потолок, сел в кресло, стал жаловаться на то, что не может играть на скрипке, совсем не может. Руки дрожат…
…То есть за мной пришел не Ганси, а полицейский. В кепи, одутловатый, скучный. Я сидела под навесом, на деревянном поддоне. Даже на улице было душно. Ото всех, от меня в том числе, воняло. Меж ног зудело. Хотелось пить. Полицейский – во Франции их называли флики – достал блокнот. Выкрикнул три фамилии. Среди них – Карну. С первого раза я не поняла. Там, в их списках, я была Ландау. Осталась сидеть. Полицейский повторил фамилию Пьера. Очень громко. До меня дошло. Я вскочила. Двое, мужчина и женщина, уже стояли. Полицейский сказал идти за ним. Мы, трое, пошли. По дороге он отвел мужчину и женщину куда-то – Ганси потом объяснил, что их вызывали для маскировки, – я покорно ждала, смотрела в одну точку, – потом повел меня по долгим темным коридорам в конторку, где другой полицейский выдал удостоверение на имя Рози Карну и сказал, чтобы я убиралась. Первый ждал в коридоре, он вновь повел меня по коридорам, схватил за плечо, развернул к себе, содрал с моего пальто желтую звезду. Коричневым от табака ногтем поскреб ткань. Вытащил оставшуюся нитку. Чуть отодвинулся, дальнозорко осмотрел дело рук своих. Этот флик исключил меня из евреев. Другой дал мне имя дочери. На некоторое время. Мне тогда казалось – навсегда.
Но, конечно, все они делали по данным Ганси инструкциям. Флик посадил меня в машину, задернул занавески, сел рядом с шофером. От шофера пахло луком и свежеиспеченным хлебом. Шофер спросил – куда мы едем? – и флик ответил – на Гран Огюстен…
…Много позже я прочитала – тогда от меня ушел второй муж и я целыми днями лежала на диване, – что прощены могут быть самые страшные преступления, но – персональные, совершенные единолично, а вот участие в коллективных преступлениях, причем – любое, никогда прощено быть не может. Не с юридической точки зрения, а с высшей. Помню, тогда я подумала – существует ли эта высшая точка зрения? И верю ли я в ее существование? Подумала, что после всего произошедшего высшее существовать не может, оно должно самоустраниться, а если и продолжает существовать, то лишь как насмешка, сарказм, потом узнала, что подобные мысли раньше приходили в голову людям поумнее меня. И будут посещать еще многих.
Я читала не философский труд и не какие-то отвлеченные рассуждения. Это был роман, там шло повествование от лица молодого человека, которому казалось, что он влюблен в очаровательную девушку, но который еще не осознавал, что на самом деле его тянет к мужчинам, и первый его опыт с девушкой закончился ужасно, расстройством и неудачей, и молодой человек встретился с мужчиной много старше себя, который взял его почти силой, и позже раз за разом принуждал к близости, и, чтобы избавиться от зависимости от этого мужчины, молодой человек из чувства долга, из принятых на себя обязательств, которые заставляли его вернуться к очаровательной девушке, убивает того мужчину, пытается замести следы. Выяснилось, что убить того мужчину хотели многие; не только потому, что он был гомосексуалистом, доминирующим, жестоким, а и по многим другим причинам, и молодой человек оказывается втянутым в опасные еще более интриги и связанные с ними преступления и новые убийства.
Лежа тогда на диване, я думала, что совершить преступление персональное, в котором, кроме тебя, больше никто не задействован, очень трудно, почти невозможно. Ведь, скажем, если кто-то будет о преступлении знать, не сообщит, не предотвратит его, если будет знать, что оно готовится, то будет соучастником.
А еще там было написано, что самые жуткие преступники, кому тоже нельзя простить их преступления, это те, кто в самом низу, мелкие исполнители, не соучастники, а те, кто выполняет всю грязную, тяжелую работу. Так автор обозначал людей, которых молодой человек нанял, чтобы они помогли ему спрятать труп. Для меня таковыми стали те, кто выдает новые удостоверения, отвозит на Гран Огюстен, сдирает желтые звезды или, наоборот, заставляет их пришивать, те, кого я не видела, но про которых думала, что они расстреливают, метко, в затылок, как, я думаю, расстреляли тех взятых для маскировки людей.
– И где они теперь? – спросила я.
– Далеко, – ответил Ганси. – На свободе…
И добавил:
– В Дранси не расстреливают, если ты об этом…
…Бедный Ганси оказался несостоятельным. Не из-за ранения на Украине. Его мучала какая-то мысль. Только не угрызения совести. Помню, как с моей подружкой, полькой Эвой, просветившей меня, что вторая дырочка, за той, из которой писаешь, предназначена для мужских штучек, как мы вдвоем упросили Ганси дать нам рассмотреть его штучку. Она была остренькая, твердая. Эва деловито плюнула на ладошку и начала растирать ее. Эва объяснила, что от того, что мужчины всовывают свою штучку в эту вторую дырочку, начинает расти живот и потом рождаются дети.
– Надувают! – сказал со смехом Ганси. – Мы вас надуваем!
Ему нравилось, что с ним делает Эва. Она сказала, что мужчины суют штучку и просто так, и вот это уже очень плохо, подло, тут по телу Ганси прошла судорога, на красном кончике его штучки появилась белая капелька.
В той гостинице Ганси не мог добиться того, чтобы его штучка, уже не остренькая, толстая, но вялая и мягкая, приобрела твердость. Ни он не мог, ни я. Ему было стыдно. Он в этом признался. Мне тоже было стыдно! Только я ничего не говорила. Хотела одного – чтобы все это скорее закончилось. То, что из него все-таки вылилось, было темно-серым и неприятно пахло. Он долго мылся. Там была горячая вода. Сколько угодно горячей воды. Я не надеялась, что он освободит Пьера. Это было не в его власти. Я хотела знать – где Пьер? Где и почему его арестовали? Можно ли как-то облегчить его участь? Помочь? Я спрашивала, Ганси не отвечал. Он сказал, чтобы я уходила. Что он меня разыщет.
– Для чего? – спросила я.
Он не ответил. Вышел в другую комнату, вернулся с коробкой для обуви. В коробке были прекрасные кожаные туфли, на невысоком каблуке, прочном, широком, подошедшие мне идеально.
– А эти – выброси! – сказал Ганси.
– Да, конечно, спасибо, – я завернула свои фибреновые туфли с деревянной подошвой в ту бумагу, которой было выстлано дно обувной коробки. Прижала сверток локтем правой руки, а руку протянула Ганси. Сверток упал. Я подняла его, прижала локтем левой. Вновь протянула руку. Ганси кивнул и повернулся спиной.
Я вышла из номера. Человек с коричневыми кругами читал «Le Matin» на стуле в коридоре. Он посмотрел сквозь меня. Поверх газетного листа. Вернулся к чтению. Рядом с ним стоял свободный стул. Я уселась на него и переобулась в свои фибреновые туфли, которые грозили вот-вот развалиться, а кожаные завернула в бумагу, пошла по коридору…
…Как мать Пьера нас нашла? Ведь мы уехали далеко на юг, в Прованс. Дом стоял в низине, принадлежал дяде Мориса, дядя обретался в Африке, кажется – в Сенегале. Я была потрясена ее появлением. Она вылезла из спортивного автомобиля, за рулем сидел ее муж, худой, в веснушках. Он казался старым, рыжие волосы – явно крашеные, – были как пакля. После войны он открыл художественную галерею, помолодел, продавал сначала картины матери Пьера, потом у него откуда-то появились рисунки старых мастеров, несколько раз мы с ним встречались, он, словно мы были близки, жаловался на свою жену, на ее стальной характер, высказывал мне сочувствие, говорил, что Пьер ему был как родной, что его жена никогда не выражала никаких положительных эмоций, всегда губы ее были плотно сжаты, но художник она была потрясающий. И отрицательных эмоций тоже не выражала. Ничто ее не трогало.
Она руководствовалась только чувством долга. Я должна, мы должны, они должны, ты должна. Она должна была найти свою внучку, забрать к себе в Нормандию, долг двигал ею, сказала, что Пьер лежит в госпитале, симптомы прободения язвы, что в Париж они заезжать не будут, если поеду с ними, то высадят меня в Шартре. К тому времени мы все успели перессориться. Аннет с дочерью уехала первой. Деревня, в которой мы жили, кажется – Эквиль, была маленькая. Жена Мориса со мной не разговаривала. Я пела польские песенки ее мальчишкам. Получалось очень фальшиво. Морис решил брать у меня уроки польского и русского. Жена Мориса сказала ему, что было бы честно сразу сказать – что он от меня хочет? – и в таком случае она бы его поняла.
Я посмотрела в глаза матери Пьера. Она курила «Галуаз», пускала сизоватый дым в серое небо. Поразительно, она выкуривала в день три пачки, умерла, когда ей было больше, чем мне сейчас, незадолго перед смертью сократила количество сигарет до полутора пачек. Ни кашля, ни проблем с сосудами. Легла и не проснулась.
С моими документами только в Париж было ехать.
– Вы поужинаете или выезжаем сразу? – спросила я.
Она, кстати, и не поздоровалась. И я тоже.
Мы поужинали овощами, выпили две бутылки вина. Жена Мориса отозвала меня после ужина, сказала, что готова уступить мне мужа, но ехать мне ни в коем случае не надо. Потом она попросила прощения. Мы обнялись. Муж матери Пьера сказал, что лучше переночевать, а выехать рано утром. Они спали в моей комнатке, я с Розой в гостиной на диване. Всю ночь из комнатки доносилось, как он рыгал, ворочался, кашлял, под утро с удивительным прищелком выпустил газы и захрапел.
Мы выехали рано. Я сидела сзади, боком, ноги деть было некуда, Роза капризничала. Муж матери Пьера еще рыгал. Мы постоянно останавливались на перекуры. Нас ни разу не задержали, хотя несколько раз мы проезжали через полицейские посты. Полицейские только заглядывали в машину. Мать Пьера им махала, ее муж улыбался. Я спала в неудобной позе, когда вышла из машины в Шартре, чуть не упала – затекла нога, голова не поворачивалась. Оказалось, даже пропускной пункт немцев мы проехали без приключений.
Я поцеловала спящую Розу, взяла свой чемодан. Ни мать Пьера, ни ее муж даже не вышли мне помочь. Уехали, не попрощавшись…
…Мой племянник выглядел в нашу последнюю встречу спокойным, я бы сказала – умиротворенным. Его сын должен провести в тюрьме почти двадцать лет, его кузен, этот самый Вальтер, сын Ганси, должен был вот-вот умереть из-за целого букета тяжелых болезней, которые все проявились разом, лишили этого выродка всех тех удовольствий, в которых он купался столько лет. Мой племянник был, судя по его рассказу, совершенно одинок, его близкого и единственного друга, того, что, возможно, обрюхатил его жену, застрелили – он рассказал об этом, надо признаться, не в самый подходящий момент, к нам присоединилась жена Игнацы со своей сестричкой-ханжой, и та все время, пока Андре описывал на своем ужасном английском всю эту историю, так округляла гляделки, что я боялась, как бы они не выскочили на тарелку с десертом, – так вот, будучи полным банкротом, он обо всем говорил весело.
От него просто шла волна радости. Многое было непонятно, он вставлял русские слова, щелкал пальцами, подыскивая английское слово, не находил, чертыхался, несколько раз матерился, думая, что этого не поймет никто, а уж жена Игнацы русскую матерщину, благодаря мужу, знала, да и я кое-что помнила, но чувствовалось, что ему все с ним происходящее нравится, он как бы смотрит на себя со стороны. В школе, в Польше, Игнацы изучал русский язык, говорил плохо, но они с Андре друг друга понимали, понимали лучше, чем я – своего племянника.
Они болтали увлеченно, вспоминали первый приезд Андре в Париж, ужин в ресторане с американскими партнерами Игнацы, Игнацы сказал, что бывшая с ними тогда американка похоронила мужа и теперь одинока, что стремится удовлетворить все свои желания, что тем не менее очень несчастна, на что Андре глубокомысленно заметил, что смысл не в том, чтобы удовлетворять желания, а в том, чтобы их иметь. В нем виделась особая, редко встречающаяся страсть к неудачам и страданиям, есть такие люди, которым кажется, что страдания и неудачи возвышают, им хочется быть выше, значимее, чем они есть на самом деле, он с этим чувством говорил о болезнях сына Ганси, о том, как тот мучается из-за того, что годящаяся ему во внучки жена ушла, родила ребенка, отвергает какую-либо помощь, не сообщает, где она с ребенком находится и у кого, и уж тем более не дает Вальтеру своего ребенка – он не знал даже, какого ребенок пола, – она не слала фото, о чем Вальтер просил; и с таким же чувством Андре с жадностью слушал рассказ Игнацы о послевоенной Польше, о том, как уничтожали Варшавское гетто, – Игнацы помнил очень многое из того, что ему описывала приемная мать. Потом, после десерта, мы все впятером прошлись, Андре вспомнил, что его мать, вернувшись из Парижа, говорила «леже витрин», и это почему-то вызвало у свояченицы Игнацы приступ смеха. Она хохотала как заведенная.
Когда я в ресторане отошла в туалет, Андре рассказал об убитом своем друге, в убийстве которого замешан его находящийся в тюрьме сын, о том, что его друг не только обрюхатил жену Андре, но и сестру одной из заказчиц Андре, и та, видимо, подвинувшись умом, приезжала из какого-то города в Сибири, где добывают нефть и газ, приезжала с ребенком на руках, и требовала от Андре признать свое отцовство на том основании, что эту сибирячку обрюхатил его подчиненный, а когда Андре наотрез отказался, она, в свою очередь, отказывалась уйти из его квартиры, и Андре пришлось вызывать не полицию, а каких-то гангстеров, которые знали мужа этой сибирячки, и гангстеры увещевали ее долгой зимней ночью, оставив Андре наедине с малышкой – она родила девочку, – и Андре был готов поклясться, что девочка была как две капли воды похожа на его убитого друга.
Мне в этой истории не виделось ничего смешного, она была очень грустной, от нее веяло несчастьем, но лупоглазая свояченица Игнацы веселилась, утащила Андре на какие-то танцульки – я и понятия не имела, что где-то еще бывают танцы, не тряска под «бу-бу-бу», а именно танцы, и там они танцевали до упаду, а о том, что было потом, ни свояченица Игнацы своей сестре, ни Андре – мне не рассказывали. Он почему-то торопился вернуться. Говорил, что его ужасные крысы без надлежащего ухода будут хандрить и заболеют, хотя за ними приглядывает женщина из Средней Азии, которая убирается у них в подъезде, она очень ответственная, была у себя дома учительницей.
Я просила показать фотографии сыновей, но их у него не оказалось. Он сказал, что в Москве есть большая пачка фотографий деда, Софьи, погибших дяди и тети, есть снимки, неизвестно кем сделанные, того, как они с бабушкой были у жившей в городе с труднопроизносимым названием соратницы его деда по всем тем взрывам и стрельбе, в которых они вместе участвовали, и что эта соратница деда перевела «Маленького принца».
– Прости – что она перевела?
– «Маленького принца». Его написал французский летчик, он погиб во время войны.
– Маленький принц?
– Нет, летчик. «Маленький принц» – это сказка. Ты не читала? Она не только для детей.
– А! Да-да, «Le Petit Prince». Конечно! Перевела? Какая молодец!..
У меня не было времени на чтение сказок, уж во время войны и после нее – тем более. И желания их читать не было никакого. «Маленького принца» я прочитала совсем недавно. Он и сейчас на столике у моей кровати. Он жил на планете, которая была чуть больше него самого, и ему очень не хватало друга. Я жила на другой, огромной, планете, но не хватало мне того же…
11
Из дверей морга появилась последняя вдова. Кудрявые дочки застревали в ее длинной юбке: старшая – ковыряя в носу, младшая – отвлекаясь на поднятый порывом ветра желтый листочек. У вдовы была тонкая талия, сильно выступающая корма, плоская грудь. Губы со скорбно опущенными уголками казались красной нашлепкой на блестевшем от слез лице. От нее шла вибрация смерти и похоти, вдова шумно высморкалась в бумажную салфетку, бросила салфетку на землю, младшая дочка выпустила только что пойманный листочек, подняла салфетку, громко топая, побежала к урне в углу двора, опустила ее в урну, отряхнула руки, вернулась к матери, показала сестре язык. Распорядитель собрал несколько мужчин: черным костюмом, черной рубашкой и бледностью среди них выделялся Потехин. Разлучница взяла меня за руку.
– Сын не должен нести гроб отца, – сказала она.
– С ума сошли?
– Миша намекал…
– Он меня называл «сынуля», и что с того?
– Но вы, во всяком случае, Михайлович, а не Карлович…
…Разлучница явно собирала материал о моей семье, о Шихмане, моем отчиме, своем первом муже. Быть может – для себя, быть может – для какого-то знакомого, одного из тех писателей, что, по рассказам моей матери, сиживали в студии разлучницы, на ее программе. Что такого было в Шихмане, что притягивало женщин, молодых, сочных, жаждущих внимания и ласки? В молодые годы его преследовали неудачи, начиная от смершевской машинистки, что предпочла ему переводчика, шепелявого и коротконогого; потом буфетчицы из столовой эмгэбэшного общежития, искавшей соответствия между величиной звезд на погонах и размерами мужского достоинства, неудовлетворенной его маленькими звездами, когда они стали большими, буфетчица пропала, ее просто заменили на другую, Шихман спросил «А где Клавдия?» «Болеет!» – ответили ему, он встретил эту Клавдию на бульваре, лет через десять, уже будучи женатым на моей матери, он держал меня за руку, сказал: – «Вот с той тетей, которая нам кивнула, я работал!» – а тетя была маленькая, толстая, старая, со шрамом через лицо, в лагере ее насиловали уголовники, Шихман, словно предчувствовавший грядущий разрыв с моей матерью, перед тем, как я ушел в армию, несколько вечеров посвятил откровениям – о прошлом, настоящем, о войне, службе у Хозяина, о женщинах.
Женщины пошли косяком, когда Шихману минул полтинник, даже ближе к шестидесяти, виски посеребрились, волосы расправились, перестали стоять торчком, он стал похож сразу на нескольких голливудских актеров. Он показывал фотографию, чудом сохранившуюся в кармане трофейной охотничьей куртки, которая вместе с какими-то пожитками не была конфискована, не была присвоена соседями по коммуналке, лежала в фибровом чемоданчике, ждала – после тюрем, Лермонтова в одном томе, предчувствия расстрела. Он, Михаил Шихман, среди других доставщиков атэнского. Ироничный взгляд, семитский тип. Фото сделано после вручения орденов, всем дали Ленина, Шихмана обошли – Знак Почета. Может быть, он привлекал женщин печалью в глазах? Умением слушать? Всегда есть чуть застаревшие девушки, готовые за это все отдать и простить, главное – будущие прегрешения. В середине семидесятых еще была жива бабушка, она подзуживала мать: «Ты слишком много ему позволяешь!» Моя мать, возможно, и позволяла, но ничего не прощала. Прощение само по себе было ей чуждо как христианская блажь. Несмотря на то, что она, бывало, справа-налево крестилась, при этом, однако, приговаривала как истая католичка «Матка боска ченстоховска!» и грубо ругалась по-польски…
…У кладбищенских ворот нас ждал общеармейский лейтенант с командой бойцов. У солдат через плечо висели автоматы. Гроб погрузили на каталку, покатили по широкой аллее, мы все – меня поставили во вторую линию, рядом с племянником Карла, – пошли за Шихманом.
– Очень рад вас видеть, – сказал мой немецкий брат, его русский язык был идеален. – Хотелось бы не по столь печальному поводу, но что поделать.
– Вы… Вы первый раз в Москве?
Брат взял меня под руку.
– Я здесь учился. Жил. Я хорошо знаю Москву, но она изменилась не в лучшую сторону. Впрочем, и Берлин тоже. Голубые, розовые, черные и желтые. Мой отец просидел почти десять лет в лагере на Урале, под городом Карпинском. Бывали? Я туда ездил в прошлом году, там кладбище старших офицеров, а я представляю Фонд помощи бывшим военнопленным, заключенным и их потомкам. Самих военнопленных в живых уже никого не осталось. Время, да, время. Мы сделали ограду, поставили камень, на нем будет плита со списком умерших в лагере. Год рождения, год смерти, между ними – тире, тире, а ведь это целая жизнь…
– Ваш род ведь из-под Вильно?
Шедшая передо мной промежуточная вдова, показав удивительную гибкость шеи, обернулась и шикнула, брызнув слюной. Промежуточная явно перенесла инсульт. Она приволакивала ногу. Рядом с нею шла дочка разлучницы.
– Извините, – сказал Вальтер Каффер в искривленную спину промежуточной. – Да, яблочные сады Тышкевичей. Мой прадед, меня назвали в его честь, был управляющим. Отец уехал в начале двадцатых. Ему не нравилось польское засилье. Мой отец – поздний ребенок, я тоже поздний, отцу было под шестьдесят, а у меня молодая жена, студентка, она беременна…
– Поздравляю.
– Спасибо!
Промежуточная обернулась вновь и на удивление четко произнесла:
– Вы можете поговорить и потом!
Я подумал, что теперь моя очередь извиняться, но ничего сказать не успел – колеса тележки перестали скрипеть по асфальту, мы свернули на грунтовую аллею, стук каблуков и шарканье провожающих Шихмана стали мягче, глуше, в конце аллеи показалась поляна, мы вышли на нее, растеклись вокруг недавно выкопанной могилы. Могильные холмики прочих могил были свежими, только самые близкие к аллее были уже обнесены оградами, лишь на двух стояли могильные памятники, поляна упиралась в железнодорожную насыпь, по железной дороге с монотонным перестуком полз нескончаемый состав цистерн, лейтенант построил солдат, только сейчас я заметил в пестрой толпе скорбящих и седобородого еврея в шляпе, он стоял рядом с разлучницей, она взяла седобородого под руку, улыбнулась мне уголком рта, солдаты передернули затворы, с березы предусмотрительно слетели две невозмутимые вороны.
– В каком звании был ваш отец? – спросил я Вальтера, глядя, как бригадир могильщиков показывает тем, кто катил тележку, как ее припарковать, чтобы гроб было удобнее подхватить брезентовыми лентами. Потехин отошел от тележки, встал рядом с промежуточной вдовой, последняя вдова стояла, положив руки на головы дочерям, я смотрел на округлые детские лица, искал в них черты Шихмана.
– Только люди старой закалки могут заделать ребенка в возрасте под восемьдесят лет. Таких уже не осталось, правда? – проследив направление моего взгляда, сказал Вальтер.
– Они не похожи на отца, на Михаила Фроимовича. Он с годами стал носат, приобрел еще более еврейские черты…
– Да, вы правы. Девочки совсем не похожи на евреек, но это неудивительно – его последняя жена не еврейка, ее гены стали доминантными. Хотя обычно доминантными оказываются семитские гены…
– Ваш отец занимался окончательным решением?
– Нет! У него были друзья евреи, он вырос рядом с евреями, он был влюблен в еврейку в ранней молодости. Он…
Потехин достал упаковку бумажных салфеток, промежуточная вытащила одну салфетку и громко высморкалась. Скорбящие все подходили. Мне начало казаться, что проводить Шихмана собирались и те, кто прежде не подозревал о его существовании, те, кто пришел на кладбище к своим родственникам и был привлечен распространяющейся траурно-торжественной аурой от похорон того, кто дал мне отчество. От Карла Каффера мне достался только лощеный, с незапоминающимся, спокойным, длинным и чистым лицом двоюродный брат. Мой брат продолжал говорить, тихо, почти не разжимая губ.
– Отец служил под началом Каммлера, с которым вместе учился в Мюнхене, войну начал старшим лейтенантом, закончил майором. Если вам угодно – начал оберштурмфюрером, закончил штурмбаннфюрером. Его непосредственным начальником был Шляйф.
– Мне ничего не говорят эти фамилии, и я плохо разбираюсь в эсэсовских званиях.
– Он не был военным преступником. Ему не повезло. Он должен был уйти к американцам, но его поймали во время Пражского восстания…
Могильщики ловко подняли гроб на широкие брезентовые ленты и завели его над могилой. Распорядитель покрутил головой, достал из кармана мятый белый платок, взмахнул им. Солдаты дали залп. Гроб начал опускаться. Солдаты дали еще один залп. Гроб стукнулся о дно могилы. Солдаты дали третий залп, и один из них, видимо, только сейчас успевший снять автомат с предохранителя и установивший режим автоматической стрельбы, выдал в небо короткую очередь.
– Шляйф был архитектором, руководил у Каммлера строительством, в сорок пятом застрелил жену, детей, застрелился сам, а Каммлер… – мой двоюродный брат отошел от меня, взял горсть земли, бросил на крышку гроба, вернулся и как ни в чем не бывало продолжил:
– …а Каммлер заведовал всеми перспективными разработками рейха, например, хотел сделать самолет на ядерной тяге, у него все заводы были под землей, он запроектировал Освенцим, он…
– Извините, – сказал я и тоже пошел бросить горсть земли.
Земля была жирная, темная, она забилась под ногти. Потехин поддерживал под локоть промежуточную вдову, она кривовато, благодарно ему улыбалась, ее лоб пересекала глубокая складка, она жмурилась, из-под век ее выдавливалась слеза, Потехин что-то шептал ей на ухо, она кивала.
– …надеялся, что документация, которая хранилась в Брно, ему поможет, и не знал, что американцы уже совершили танковый бросок навстречу Советам и захватили все документы, чертежи, расчеты. Каммлер оказался, как говорят у вас, у разбитого корыта. Это же Пушкин? Пушкин, да? Поговорки и присказки – зеркало души народа, – Вальтер просто-таки преследовал меня, он передвигался вслед за мной, он останавливался чуть позади меня, когда останавливался я, за мгновение предчувствовал каждое мое движение и тихо бубнил, бубнил, бубнил:
– …когда он, Каммлер, все-таки попал к американцам, он начал первым делом ставить условия. Главное – не выдавать его полякам, они тогда безжалостно вешали, и не выдавать Советам, он не хотел, чтобы его наработки достались коммунистам…
Могилу ловко, быстро засыпали. Отгремела вереница цистерн на железнодорожной насыпи. Вороны вернулись на ветви березы.
– …но американцам его условия были, как у вас сейчас говорят – по барабану, и Каммлер повесился в камере, а мой отец…
Распорядитель передал могильщикам табличку – имя-отчество-фамилия папы Миши, даты рождения и смерти. Табличку пристроили к большому венку.
– Это от вет-теранской о-организации, – сказала промежуточная вдова, возле которой я оказался, дрейфуя вокруг могилы и стараясь оторваться от Вальтера. – Они хотели при-ехать, ска-азать речь. Мы отка-азались. От речи…
Вальтер стоял с потерянным видом, его обтекали начавшие медленное, скорбное обратное движение. Разлучница со своим седобородым отошла от могилы первой, шла теперь впереди всех, высокая тулья шляпы правоверного еврея указывала нам путь, за ней – последняя вдова с дочерьми, младшая дочь все норовила пойти вприпрыжку, получила тычок от старшей, захныкала, получила тычок от матери, затихла.
– Они долго не хотели брать его на учет. Вы представляете? – промежуточная говорила все четче и двигалась со все возрастающей легкостью, словно погребение Шихмана освободило ее от недуга. – Его считали недостойным продуктовых заказов, – она, показав десны, улыбнулась, – а потом признали таковым…
– Так всегда бывает, – глубокомысленно произнес Потехин.
– Не разочаровывайте меня, – промежуточная хлопнула Потехина по руке. – Е-еще одна бана-альность – и между нами все ко-ончено.
– Между нами уже что-то есть? Вы чувствуете? Да? Я – да, но не мог и надеяться…
– За-а-ткнитесь! – сказала Потехину промежуточная и повернулась ко мне:
– Вы его сын, да? Ну да, да-да, я все знаю. Он умер в полнейшем одиночестве, один, ему никто ни воды не да-ал, ни убрал из-под него судно, а ста-арался настрогать детей, у него не получилось только с вашей матерью, с последней, пра-авда, сомнения, это не его дети, эта с дочками уехала к своей мамаше в Прагу, когда он умирал, нет, не его дочки, там, в этой Праге, ей и заделывали их, а Миша хотел мальчика, и ни одного мальчика у него не получилось…
– А где ваша дочь? – спросил я.
– От-ткуда вы знаете, что у меня дочь? А-ах, ну-у да! – у нее на губах лопнул шарик слюны, и нас догнал Вальтер, продолживший с того места, на котором остановился:
– …был арестован, когда пытался уйти в американскую зону. Сначала его отдали чехам, потом полякам, ни те ни другие не знали, что с им делать – виселицы он не заслужил, кормить в тюрьме за просто так смысла не имело, потом все-таки решили повесить, начали готовить трибунал, в сорок седьмом, но решили вместо трибунала передать советским, и его отправили в шарашку, где он много о чем рассказал, например – про лампочки Пьера Карну, но это никого не заинтересовало, инженер Кондратьев такие же или почти такие же лампочки уже изобрел, и был Кондратьев в той же шарашке, два – как это сказать? – ламповеда? – на одну шарашку много, и моего отца даже собирались отпустить, где-то году в сорок девятом, восточные тогда собирались делать секретную службу, нужны были кадры, он в конце концов таким полезным, с большим прежним опытом, для них стал, тем более дядя Карл там уже руководил одним из направлений.