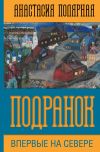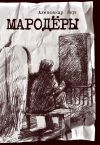Текст книги "Крысиный король"

Автор книги: Дмитрий Стахов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц)
12
Первого марта освободили де Ласси: «Прощайте, Каморович! Не поминайте лихом!» – крикнул тот, поднимаясь из полуподвала на первый этаж. Второго, после утренней каши, уголовные из «зверинца» начали трясти решетку: «Открывай! Открывай!» Надзиратель сказал через кормушку, что уже два дня как из третьего корпуса, корпуса политических, освободили шестьдесят шесть заключенных.
– А как же я? – спросил Андрей.
– Лихтен этот штат против освобождения уголовных. Его превосходительство были с этим согласны, но теперь отбыли. Вас включили в уголовный список. Лихтенштадт составлял. Вместе со зверинцем. Он уполномоченный по освобождению, сидит в кабинете его превосходительства, товарищ нового министра привез бумагу. Политических освободят, уголовных переведут…
…В одиночку Андрея вернули по распоряжению Зимберга. После лечения Зимберг выглядел похудевшим, стал спокойнее, все распоряжения Талалаева отменил. Даже разумные, формально правильные, соответствующие каторжному уставу. Показал – кто в крепости хозяин, но отправил Андрея не в третий корпус, а в четвертый, где одиночки были в сыром полуподвале. Потом началась война, Вильгельм Гансович стал Василием Ивановичем, перевел в одиночку также и де Ласси, которому тем не менее, в обход правил, еженедельно передавали паштет, сыр, белый хлеб, бутылку сладкого вина.
Де Ласси прокричал здравие Василию Ивановичу Зимбергу – гип-гип-ура! – пообещал Андрею – мол, Каморович, мы еще с вами выпьем винца, непременно выпьем, – кричал, что он бельгийский подданный, что требует отправить его в Конго, что пробовал разных женщин, но черных у него не было, и это несправедливо.
Из одиночек четвертого корпуса на работы не посылали. Не то что из зверинца корпуса второго. Оттуда, когда он был в одной камере с де Ласси, на работы пытались вывести и Андрея. Он отказался, сказал, что политические не работают. Де Ласси тогда шепнул, что лучше согласиться, но Андрей стоял на своем.
Надзиратели позвали Талалаева, тот посмотрел на Андрея мельком, ни о чем не спросил, ничего не сказал, приказал дать тридцать розог, при повторном отказе от работы повторить и посадить в «ривьеру», карцер, через который проходила труба парового отопления. Розги были не столь болезненны, как обидны. Андрей просидел в «ривьере» двадцать три дня. Когда вышел, Талалаев лично спросил – пойдет ли Андрей на работу? – Андрей отказался, и его вернули в «ривьеру». Уголовные говорили, что так долго в «ривьере» не выдерживал никто…
– Хочешь на службе остаться? – спросил Андрей.
– Тюрьма-то будет всегда, – засопев, ответил надзиратель. – Не бывает так, чтобы без тюрьмы. Вы вот завсегда в тюрьму попадете. При его императорском величестве, без него, в республике. Эх, придумали, тоже!..
Андрей рассмеялся:
– Теперь уж, без Николашки, я тюрьмы больше не увижу.
– Увидите! – надзиратель тоже рассмеялся. – Вам без тюрьмы никак. На вас как посмотришь, так сразу видно – этому надо бы, пока он ничего еще и не сделал, посидеть.
– Что же это видно?
– И слов не подобрать. Этакое. Вот вы песню пели, когда вас в мой корпус перевели…
– В муках рожденная, кровью омытая, к солнцу поднялася воля земли?
– Другую!
– Бездушный мир, тупой, холодный, готов погибнуть наконец?
– Ну там про то, что… Ну, ну… А! Про то, что вы путь укажете…
– Про то, что владыкой мира будет труд? – Андрей запел, голос у него был слабый, он старался:
– Долой тиранов! Прочь оковы! Не нужно гнета, рабских пут! Мы путь земле укажем новый, владыкой мира будет труд!
– Да, эта… Вы где такое видели? Это где такое есть?
– Не видел, но будет. Будет! Так будет!
– Вот за это ваше – «Будет!» – опять в тюрьму и попадете! Попадете! Помяните мое слово!
– Ты, значит, будешь меня снова охранять?
– Пирогов! – прокричал кто-то с первого этажа.
– Сейчас! – крикнул в ответ надзиратель и вновь склонился к кормушке. – Буду! Людей от вас, и вас от самих себя. Я терпеливый. Вот вы мне тыкаете, я вам «вы» говорю. А вы из мужиков, я же – купеческий. Другой бы, ну как Земсков, что меня зовет, доложил бы, и вам бы розог, как уголовному. А я молчу и терплю. Даже вот леденчиков для вас, мятные… – он протянул на широкой ладони через кормушку несколько леденцов в табачной крошке.
Андрей подумал, что он – птичка, воробей, синица, надзиратель – гуляющий в парке младший приказчик, приглашающий птичку сесть на край ладони, попробовать склевать леденцы, чтобы, когда птичка утратит бдительность, прихлопнуть, потом прижать ладони одна к другой, поднести к уху, послушать, как трещат птичкины косточки.
– Вкусныя! В летней шинели нашел…
– Вещи собираешь? – Андрей взял леденцы с ладони, подул на них. – Подхватишь и на катер. С катера – все в реку, и шинель летнюю, и фуражку, и сапоги. Переоденешься в штатское, поминай как звали…
Надзиратель высморкался – невозможное прежде! – на пол коридора, вытер пальцы о синюю штанину с тонким красным лампасом.
– В списке лихтенштатовом место нашлось и жидку вашему, Загейму. Ершистый такой. Чуть что – желаю подать письменную жалобу. Такая нация! – и надзиратель захлопнул кормушку…
…На следующий день, оставив ключи в замке, надзиратель пропустил в камеру освободителей Андрея – господина в пальто с бобровым воротником и красным бантом и некрасивую даму в пенсне, протянувшую Андрею бумагу, которую она назвала мандатом, сказала, что комиссия определила его как политического, что Андрей последний из политических, кого освобождают.
Андрей ничего из бумаги не понял, даже прочитать ее толком не смог, разве что разобрал фамилию дамы – Радуцкая, и синий штампель – Красный Крест. Освободители тактично вышли в коридор, через открытую дверь в одиночку сверху проникало торжество уголовных – они толпой выходили во двор, – Андрей мучился с пуговицами: тюремные портки и халат их не имели. Белье было свежевыстиранным, пуговицы на воротнике косоворотки он оставил незастегнутыми, пиджак болтался, полупальто на вате было тяжелым, сапоги сразу натерли ноги. Радуцкая, войдя в камеру – она постучала костяшками пальцев, – щелкнула замочком ридикюля, протянула Андрею булочку в мягкой салфетке. С яблоком. Вкус корицы был забыт настолько, что он чуть не потерял сознание.
Радуцкая сказала, что Андрею кланяется Ксения, Ксения Мышецкая, что они старинные подруги, с детства, обе родились под Тарусой, что Ксения из Рюриковичей, и она, Радуцкая, в детстве Ксении даже завидовала, думала, что вот-вот в доме Мышецких появится какой-то князь, в шлеме и кольчуге, как на иллюстрации из детской энциклопедии, и Радуцкая могла с ним поговорить, даже, быть может, с самим Рюриком, смешно, да?
– Смешно, – согласился Андрей, недоуменно переглянулся с господином, который, поправив свой красный бант, как бы дал понять, что теперь разговоры о происхождении, даже от Рюриковичей, неуместны.
Когда они вышли, поднялись из полуподвала, на первом этаже уже никого не было. Под ноги попалась полусмятая кружка. Андрей пнул ее, она ускакала по лестнице вниз. Радуцкая прижимала к носу платочек. Во дворе перед корпусом горел костер, жгли архив. Господин с бантом покачал головой.
– Это ошибка, – сказал он Андрею. – Ошибка! Надо их остановить.
– У вас есть револьвер?
– Нет…
– Теперь в России револьвер нужен не только для борьбы за социализм. Без револьвера жить будет нельзя. Без револьвера их не остановить.
– Свободе разве нужно оружие? Свобода поможет от него избавиться…
Андрей засмеялся, вкус корицы заставил его прокашляться.
– Свобода – это действие, действие невозможно без револьвера, – сказал он, сплюнув, и обратился к Радуцкой:
– Простите, это от свежего воздуха. Меня не выводили на прогулки почти неделю. Даже голова кружится. Простите…
Бумагу об освобождении в канцелярии выдавал Забицкий, эсдэковский боевик, помилованный с петлей на шее. Забицкий тоже был вечником, просидел в Шлиссельбурге почти пятнадцать лет, навсегда сохранил кривую улыбку, приклеившуюся, когда его снимали с табурета, посмеивался, покхекивал, удивился, что Андрей пришел в канцелярию только сейчас, думал, что такие, как Андрей, давно бежали из крепости, сообщил – улыбка стала шире, – что из тех максималистов, кто был в крепости, никого не осталось: в лазарете от туберкулеза неделю назад умер Чилидзе, узнав об отречении, зачем-то – Забицкий комично пожал плечами и сморщился, – повесился Пошивин, все прочие, Загейм в их числе, освободились в числе первых, нет, не шестидесяти шести, а по следующему, большому списку.
Он бы болтал и дальше, но господин с бантом постучал по столу краешком папки и попросил-таки выдать справку. Забицкий вписал в бланк фамилию Андрея, расписался, вспомнил о дате, поставил дату. Андрей взял бумагу: уже успели напечатать бланки, справка начиналась словами «Волею восставшего народа…».
Перед канцелярией гомонили уголовные. Радуцкая взглянула на висевшие на цепочке часики: «Поезд! – сказала она. – Надо успеть!» До самого левого берега Невы была пробита широкая полынья. На веслах лодки с высокими бортами сидело четверо мужиков с серыми лицами. Над кормой лодки полоскался в холодном ладожском ветру белый флаг с красным крестом. Андрей заправил кончики ушей под великоватую кепку. Господин с бантом, чуть поколебавшись, на прощание протянул Андрею руку, потом они оба помогли Радуцкой сесть в лодку.
– Вам грустно? – спросила Радуцкая, проследив взгляд Андрея: он смотрел, как над высокой северной стеной поднимался клочковатый дым. Андрей посмотрел на приближающийся берег.
– Уже хочется обратно…
От Шереметьевки, по корфовской узкоколейке, в единственном пассажирском, кукольном вагончике – остальные, товарные, были нагружены торфом – они доехали до Охтинского вокзала на ровской набережной. Радуцкая угощала Андрея папиросами, просила его не расстегивать – ну, вы же простудитесь! – пуговицы полупальто, говорила без умолку, о том, как в середине февраля ходила в Мариинский театр на «Майскую ночь», где, после сокращения директором театра зарплаты вдвое, забастовал хор. Хористы объявили, что в таком случае они будут выполнять только половину своих обязанностей, и пели шепотом и во время танца делали только половину движений, делали шаг и останавливались на месте, а дирижировавший в тот вечер главный дирижер Мариинского театра Николай Андреевич Малько – Радуцкая сообщила, что с ним дружит домами, и этих ее слов Андрей не понял совсем, – после нескольких тактов клал свою палочку на пюпитр, оборачивался к залу и хитро улыбался.
– Вы представляете, свистеть и топать ногами начал даже партер, – сказала Радуцкая. – Опустили занавес. И десять минут продолжалось что-то невообразимое. Мой сосед, достойнейший человек, вскочил и бросил на сцену бинокль! Хороший бинокль, в перламутровой оправе. Но потом занавес все-таки подняли и оперу продолжили. Вы знаете ее? – и Радуцкая напела несколько тактов.
– Я не был в театре, – сказал Андрей.
– Как? Почему? – Радуцкая смотрела на него в изумлении.
Андрей пожал плечами.
– Что – никогда?
– Никогда. На рынке я однажды видел кукол. За просмотр брали пятачок. Мне не понравилось. Очень кричали. И там не было правды.
– Но куклы – это… Это куклы. В театре главное не правда, главное, чтобы вы поверили в условность. Вот люди ведь не поют друг с другом, они разговаривают, но, когда мы в опере, мы верим, что это так, на самом деле. Вам просто обязательно надо пойти в театр! Я это устрою! Обязательно!
– Спасибо. Пойду с удовольствием. Если не буду занят.
– А чем вы займетесь на свободе?
Андрей вновь пожал плечами.
– Не знаю еще. Не знаю…
Ему очень хотелось есть. От вокзала Радуцкая взяла извозчика, Андрей даже не спросил – куда они едут? – от голода, табака кружилась голова. Андрей заснул. Проснулся и не мог понять – где он? Что с ним? Было холодно. Они медленно переезжали мост, на мосту, под ярким, ослепляющим фонарем стоял высокий человек, на мгновение Андрей встретился с ним взглядом, человек тот успел улыбнуться и что-то сказать, Андрей провел рукой по подбородку, пока он спал, из угла рта вытекала вязкая слюна…
…Утром пришла Ксения. Андрей поразился – если прежде была седая прядь в темных волосах, то теперь темная прядь была в совершенно седых. На щеке был шрам, глаза, только глаза оставались молодыми. Ксения спрашивала о Лихтенштадте, рассказала, что Закгейм мучается язвой. Лихтенштадт внушал Ксении уважение, но был слишком говорлив, Ксения таким старалась не доверять. Андрей сказал, что Лихтенштадт предан делу революции, но Андрей не пойдет с ним на экспроприацию, Лихтенштадт не закроет ему, Андрею, спину, если понадобится.
– А ты? – спросила Ксения.
– Я?
– Да, ты. Закроешь?
– Закрою.
– Не важно кому?
– Не важно…
…Потом он заболел. Ноги покрылись фурункулами, поднялась температура. Несколько дней лежал в комнате один, только утром горничная приносила чай, булку, два яйца, маленький кусочек масла. Горничная ставила поднос на столик возле двери – Андрею приходилось вставать, потом возвращать поднос на место, – днем забирала поднос с грязной посудой и яичной скорлупой. Ему были оставлены деньги, но, чтобы выйти, не было сил. Он просил горничную приготовить бульон, просил каши, что-нибудь горячее, кроме чаю, горничная оказалась чухонкой, его понимала плохо, он давал ей деньги, она отстраняла его руку – нет, это не можно, это никак не можно, говорила она, краснела, отворачивалась, – к тому же однажды, заглянув в комнату и не постучав, застала Андрея осматривающим усеянные фурункулами бедра. Горничная выскочила из комнаты, отправилась сначала к Ксении, но та была в Нижнем, где проходил съезд фракции, тогда горничная с трудом нашла Радуцкую. Радуцкая приехала тут же, решительно вошла в комнату, намереваясь вышвырнуть Андрея вон, ибо все могла простить и понять, но такое – нет! как это так! горничная не проститутка! – застала Андрея почти в беспамятстве, всплеснула руками, пристыдила горничную, умчалась, привезла английского врача из Красного Креста.
Врач осмотрел Андрея, наложил на фурункулы мазь, заклеил их пластырем, прописал порошки. Выяснилось, что порошки могли сделать лишь в аптеке Пеля, только что разгромленной толпой под водительством каких-то анархистов. Радуцкая попросила готовые порошки у врача, их у него не оказалось. Радуцкая все-таки нашла другую аптеку, привезла порошки. Врач приехал еще раз, тщательно обработал фурункулы, сказал Андрею, что ему надо написать книгу о своем участии в экспроприациях и о крепости, Радуцкая перевела слова врача, Андрею стало неловко. Он лежал с голыми ногами, простыней был прикрыт только пах, рубашка была несвежей. Радуцкая смотрела на него.
Ему стало лучше, температура немного спала, фурункулы начали подсыхать. Андрей благодарил Радуцкую, извинялся за то, что причиняет столько неудобств, говорил, что лишь только поправится немного, то сразу освободит комнату. Радуцкая сказала, что оставаться в квартире он может сколько угодно, что хозяева сейчас в Швейцарии, что для нее помогать ему – долг. Горничная больше не пугалась, взяла деньги, принесла курицу, сварила бульон, но выздоравливал Андрей долго, осложнения, бронхит, он мог спать только сидя.
Ксения вернулась, когда он начал поправляться, привезла вяленой баранины – после Нижнего была в других поволжских городах, добралась аж до Астрахани, – была недовольна его бездействием – Андрей ничего о болезни, о фурункулах не сказал, думала, что у Андрея хандра, кашель от нее же, что он не может привыкнуть к свободе, говорила, что у нее такое было после освобождения, но она хандру преодолела, что пора подниматься, а потом еще поссорилась со случайно встреченной Радуцкой: Ксения уходила, Радуцкая как раз подошла к двери, они в гостиной, стоя друг перед другом, громко, в таких церемонных выражениях, словно не были подругами в детстве, выясняли отношения, но говорили о правительстве Львова, о продолжении войны, о том – на это упирала Ксения, – сочтены ли дни буржуазии. Ксения говорила, что паразиты должны уйти с исторической сцены. Радуцкая утверждала, что беда России в том, что с водой всегда выплескивают ребенка, что паразитов не так уж много, паразитов настоящих. Многие же из тех, кого Ксения причисляет к паразитам, просто необходимы для того, чтобы вести и дальше ту войну, в необходимости продолжения которой так Ксения уверена и на котором настаивает. Ксения потребовала назвать тех паразитов, кто был необходим, Радуцкая назвала несколько Андрею совершенно неизвестных имен, Ксения захохотала, Радуцкая обиделась, сказала, что ей требуется быть в госпитале, что разговор она считает незаконченным, хлопнула дверью, Ксения вошла, села на край кровати.
– Фигнер собрала два миллиона рублей на помощь амнистированным, – сказала она. – Твои деньги я забрала. За тебя расписалась. Надо организовать лабораторию. Тебе надо вспомнить бомбовое дело. И съехать отсюда. Горничная! Фу! На Петроградской стороне, на Покровской, открыли общежитие каторжан. В бывшем доме городовых. Я договорилась – тебе дадут комнату…
– Проще найти гранаты, – сказал Андрей, пытаясь освободиться: Ксения поймала его лежащую поверх одеяла руку, сжимала ее. Ее пальцы были гладкими, крепкими, ладонь мягкой. – У дезертиров. Я смогу договориться.
– Да, гранаты хорошо, но нужны и мощные бомбы, – настаивала Ксения. – Немцы прислали Ленина, – рука Ксении сопротивлялась, она отвела взгляд, смотрела на стену, на стене была маленькая картина, расчесывающая волосы женщина в спадающей с полных плеч кружевной рубашке, у женщины были румяные щеки, крупный нос, узкие глаза. – Нам надо готовиться – Ленин сказал, что он и его партия пойдут и на гражданскую войну.
– Но… – Андрей сам сжал пальцы Ксении, она подалась ему, ее рука стала словно тоньше, стала влажной. – К чему? К чему готовиться?
– Он хочет гражданской войны, как ты не понимаешь? Ему мало той войны, которая уже идет. Он говорит, что надо сделать так, чтобы война империалистическая стала войной гражданской. Он приехал в пломбированном вагоне, на германские деньги, он будет воевать, чтобы заключить мир с кайзером.
– Воевать ради мира? Но с кем?
– Со всеми. С нами… Он враг, понимаешь? Я говорила об этом, товарищи подняли на смех. А я им докажу! Ты читал, что он пишет? – Кто?
– Да Ленин же!
Ксения подняла руку Андрея, положила себе на грудь. Ткань ее платья была жесткой, брошка в виде паучка сидела под маленьким, узким белым воротничком, застегнутым перламутровой пуговкой. – Нет, не читал…
…Когда белье перестало приклеиваться к струпьям, Андрей побывал у родственников, в квартире Петра, на Васильевском. Приняли хорошо, но братья были – Владимир с женой приехал из Колпино, – обижены, что Андрей появился не сразу после освобождения.
– Ты должен был приехать ко мне, – говорил Владимир. – У нас коза, козье молоко тебе бы пошло на пользу.
– Я не мог. Мало ли как все повернулось бы. И как еще повернется. Я не мог сразу, это правила нашей работы, революционер не может подвергать опасности родственников, – объяснял Андрей.
– Когда тебя посадили в крепость, никто нас не тревожил, – Петр катал по столу хлебный шарик, жаловался, что хлеб сырой, что белого не купишь вовсе, что цены растут, что Прейс хоть и обещал, но платить больше не стал, а Петр у него уже больше десяти лет.
– Тогда было одно, сейчас – другое. Будет война всех против всех, тогда и старое помянут, и новое в строку вставят, – сказал Андрей.
Братья переглянулись, жена Петра, занятая рукоделием, уколола палец.
– Не пойму я – о чем ты? – Владимир чуть подался вперед.
– Так все просто – революция только начинается!
– Революция уже была, – сказал Петр. – Если кончится война, если вернутся с фронта все… Нужен мир, как можно скорее.
– Вот тогда и начнется другая революция, а потом за ней – еще одна, – Андрей отхлебнул остывшего чаю, на столе стояла вазочка с крыжовенным вареньем, со смородиновым листом и перчинками, он очень любил такое, его варили дома.
Братья смотрели на Андрея с удивлением – о какой еще революции он говорит? – оба они были высокие, ширококостные, коротко стриженные, темные волосы отдавали в рыжину, рты у обоих были тонкогубые, говорили они так, что сразу угадывался польский акцент. Петр уже не был эсдеком. Семья, работа. Но – сочувствовал. Владимир думал только о козе, молоке, урожае яблок.
– Будущие революции будут кровавыми, – сказал Андрей. – Будет не насилие даже, а террор, террор уничтожающий…
– Прости, но ты сам… – начал Владимир.
– Да, я был в терроре, в кровавой работе, но я говорю о другом терроре. Я видел тех, ну с кем я боролся, а будет все по-другому, будет террор безличный, террор страха…
– Я не очень понимаю, – признался Владимир, – ты всегда говорил мудрено, а теперь, после крепости…
– Нам надо защитить эту революцию, чтобы не допустить следующих, – Андрей начинал злиться. – Вы должны понять! Сейчас власть в руках кадетов, и нам надо…
– Да кто на нее нападает? – Владимир перебил Андрея, поднялся, шагнул к открытому окну, оттуда пахло свежестью. С братьями теперь говорить было ни к чему. Андрей плотно сжал губы.
– Пришло письмо от Марии, она теперь в Варшаве, – сказал Петр.
Андрей смутно помнил старшую сестру. Мария была с ним ласкова, гладила по голове, ладонь у нее была шершавая. Она разувалась, снимала тяжелые грубые башмаки, ходила в носках, носки пахли остро, но тогда ее шагов не было слышно, а так Марию, обутую в башмаки, можно было услышать издалека. И юбка у нее была из грубой ткани и пахла кисло, Мария с раннего утра работала на скотном дворе. Потом слышал разговор, будто у Марии шашни с помощником приказчика Гаффера – Андрей стоял за забором, по другую сторону чесали языки птичницы, – Андрею было так стыдно, что он заплакал, он любил ее саму, ее запахи, а птичницы говорили про Марию плохо.
Теперь она жена этого оставившего службу под началом Гаффера человека. У нее двое детей. У мужа какая-то смешная фамилия. Кажется – Смутек. Ты не помнишь, что это значит? Совсем забыл польский? Ну? Нет-нет, его фамилия означает «горе». Мария вышла замуж за горе. Но он будто бы хороший человек. Он с ней добр, не вспоминает былое. У Марии же были другие похождения. Кроме Смутека. Они держат в Варшаве маленькое питейное заведение, им нужна помощь, Андрей может поехать, что ему делать в Петрограде?..
…– В самом деле, что тебе делать в Петрограде? – пожала плечами Ксения. – Лежишь, смотришь в потолок, пьешь бульон. Две женщины из-за тебя соперничают.
– Вылечусь и уеду. Увидишь – соберусь и уеду.
– Вот и обиделся. Недостает только, чтобы щеки надул. Да тебе и собирать ничего не надо. Так что можешь ехать налегке. Только как ты доедешь? Там теперь немцы, германский генерал-губернатор. У тебя и денег нет.
– Ты говорила – Фигнер…
– Так она для тех, кто будет защищать революцию. А для тех, кто едет в Варшаву, чтобы там половым работать, у нее денег нет. Как по-польски «половой»?
– Кельнер, кажется. Да, кельнер… Ты поедешь со мной? В Варшаву?
– Я по-польски не разумею, – Ксения погладила Андрея по щеке, спустила ноги на пол, поднялась с кушетки. За окном, зашторенным плотно, раздавались крики. Потом прозвучал одинокий выстрел. Револьвер – понял Андрей. И в ответ на него – залп винтовочных, сухих, трескучих.
Ксения чуть отодвинула штору. Проникший в щель свет создал вокруг ее головы желтоватый нимб. Волосы выбивались из прически, платье было примято.
– Ирина вернулась из Сибири. Была делегатом на съезде. Теперь влюбилась в матроса, может говорить только о нем и про то, что с правыми нам не по пути, – сказала Ксения, глядя на улицу. – Помнишь ее? Каховскую? Когда-то дружила с Гоцем.
– Каховскую? Конечно! – Андрей силился вспомнить, о ком говорит Ксения. – Что за матрос?
– Минный машинист, корабль называется «Азия», познакомились в Кронштадте, он там член Совета. Из староверов, толстовец в прошлом, с нами с пятнадцатого года. Был оборонцем, теперь…
Она замолчала.
– Что «теперь»?
– Мы не можем ждать. История все норовит засесть в пивной. А Бисмарк был прав: любители пива – главная угроза. Не тот настоящий враг, кто напротив тебя, даже не тот, кто направляет на тебя оружие, а те, которые с кружечкой пива. Их нужно из пивной вытащить. Поэтому нужны деньги. Нам германцы не платят.
– Экс? Но ты же сама говорила – мы должны защищать нынешнюю власть, она – наша…
– С большими оговорками, – Ксения закурила папиросу. От папиросы шел сизый горький дым. – После того как Керенский сдружился с кадетами, до окончательного предательства революции один шаг.
– Хорошо, но тогда – какой экс?
– Есть место. Подпольный игорный дом. Там играют на миллионы. Впрочем, что я тебе говорю! Ты же собрался в Варшаву…
…Он чувствовал себя неуверенно. Вокруг было слишком много воздуха, не обступали холодные стены, над головой было глубокое, бесконечное небо. Андрей свернул с Невского на Николаевскую, пошел по правой стороне. Кузнечный переулок. Закрытый шляпный магазинчик. Мусор возле подъезда. Навстречу прошли двое юнкеров в летних шинелях. Свечной. На углу стоял человек, грыз семечки, выплюнул шелуху ему под ноги. Андрей сбился с шага, взглянул искоса – тот был похож на встреченного по дороге с острова, на мосту, под фонарем – такой же высокий, с такой же улыбкой. Обнаженные десны, зубы в сером налете, слюна на подбородке. Он пошел дальше, почувствовал, что человек этот идет за ним, почти догоняет, почти в спину ему плюется шелухой.
Легкое песочного цвета пальто лежало у Андрея на сгибе руки, костюм темно-синий в полоску, сорочка, котелок. Радуцкая открыла шкаф сына хозяев квартиры, сказала, что Андрей может брать любые оттуда вещи, ни сын, ни хозяева возвращаться не собирались. Ксения настояла, чтобы он оделся так, оглядела, осталась довольна, поправила галстук, вколола булавку с большим хрусталем.
Андрей ждал, что кто-то выйдет навстречу, грызший семечки тогда обхватит сзади или толкнет в подворотню, где будут ждать товарищи. Он опустил руку в карман. Там лежала бритва из бритвенного набора сына хозяев квартиры. До крепости Андрей мог легко открыть бритву, бритва не раз его выручала, но то была своя, проверенная, эта же, с ручкой слоновой кости, могла подвести. Угол с Разъезжей. По ней пролетел грузовик, в кузове качаясь стояли люди с винтовками, на борту был написанный на кумаче лозунг. Что-то про Советы. Солнце светило в глаза. Пахло гарью, махорочным дымом.
– Тебя не догонишь, – от вставшего рядом пахло сырым мясом, – окликаю, окликаю, идешь, будто не слышишь.
Он снял с губы шелуху, посмотрел на Андрея, сверху вниз, жилистая шея, желтоватые белки, расширенные зрачки.
– Не узнаешь? Саготин Иван.
– Не узнаю. Да мы разве были знакомы?
Ксения говорила, что Саготин будет стоять на углу, сам его узнает, сам подойдет, что они были знакомы по напилочной фабрике Прейса. Андрей такого не помнил. Саготин говорил, брызгая слюной. Они сидели в чайной, на Ивановской. Нет, на напилочной он не работал, он работал на картонажной, доставлял заказы: блокноты, тетради для записи, конверты, папки. Так познакомился с поэтами и писателями. С Андреем его познакомил Бердников, незадолго до экса с артельщиком. Франк, кажется? Да, кивнул Андрей. Чай был плохой, сухарики отдавали плесенью, Саготин курил папиросы «Зефир», предлагал Андрею.
Да, Франк, артельщик Франк, кивал Андрей, но говорить о произошедшем так давно, когда оно было заслонено проведенными в крепости девятью годами, было неприятно. Лишь только Андрей вспоминал о крепости, как шею начинал тереть ворот халата, хотя крахмальный воротничок облегал ее нежно и мягко.
– Ты знаешь поэтов? – спросил Андрей.
– Да, многих. Есть такие, что сочувствуют нашему делу. И раньше сочувствовали, хотя имели совершенно буржуазное происхождение. Вот есть один поэт, он еще после ареста Марии писал о чайке. Не слышал?
– Марии? Ах, да, Мария, это было давно… Нет, не слышал.
– Ну, вот… На чистом теле след нагайки, // И кровь на мраморном челе… // И крылья вольной белой чайки // Едва влачатся по земле… Я и сам пишу. А ты?
– Нет… Пробовал, в крепости. Они плохие.
– Читай! Читай!
– Я плохо помню.
– Ничего, по строчке уже пойму – ты поэт или…
– Э-э, подожди… – Андрей взял из коробки папиросу, – сейчас вспомню… Там с рифмами не очень. Нет, давай ты первый прочтешь. – Читай, товарищ!
– Я рожден был в забытой и грязной деревне, – покраснев, начал Андрей. – Вырос в грязи порабощенным рабом капитала, На трупах рожден и зачат на крови борьбы всех народов, Я конечность любви, я погибну в борьбе за рабов, Я в кварталах сырых, полутемных ютился изгнанным, Где над телом царили бичи палачей, я там боролся и бился, Иль старался смириться и слова утешенья сказать угнетенным…
Андрей замолчал. Саготин достал коробок спичек, дал прикурить. Мундштук сразу намок от слюны.
– Я дальше не помню… Это запомнил, потому что сидел в карцере. Там два карцера было, в одном было очень жарко, его называли то Сибирь, то как-то еще, в другом – холодно, называли Сухум. Смешно, да? Меня обычно отправляли в Сухум. Там я написал… Давай теперь ты.
Саготин начал читать, к удивлению Андрея, завывая, раскатывая букву «р» и закатывая глаза.
– В Петр-р-рополе прозр-рачном мы умрем // Где властвует над нами Прозер-р-р-рпина, // Мы в каждом вздохе смер-ртный воздух пьем, // И каждый час нам смер-ртная година. // Богиня мор-р-р-ря, гр-р-р-розная Афина, // Сними могучий каменный шелом. // В Петр-р-р-р-рополе прозр-р-рачном мы умрем, // Где цар-рству-ешь не ты, а Прозер-р-р-р-р-рпина.
Андрею стало неловко. Он оглянулся. На них никто не обращал внимания.
– Поэзия – это музыка революции, – сказал Саготин.
– А кто это царствует? Я не понял, – Андрей выплюнул намокший кусочек мундштука. – Петрополь – это… Понял, да. Ну…
– Понравилось? А вот еще…
Саготин облизнул губы, вздохнул.
– Мы – рать солнценосцев на пупе земном – // Воздвигнем стобашенный, пламенный дом: // Китай и Европа, и Север, и Юг // Сойдутся в чертог хороводом подруг, // Чтоб бездну с Зенитом в одно сочетать. // Им Бог – восприемник, Россия же – мать… Ну, что скажешь? – То собирались умирать, а вдруг стали ратью солнценосцев. Непонятно. Ты сам написал? Противоречиво.
Саготин закурил, отпил глоток чаю.
– Это и означает противоречивость, такова цель – столкновение противоположностей. Как в философии. Ты изучал философию?
– Нет, не изучал. Но про столкновение противоположностей слышал. Много раз. И много раз видел такое столкновение в жизни. Не в философии.
Они вернулись на Николаевскую. Пошли к Звенигородской. Пока сидели в чайной, прошел короткий дождь, тяжелые, редкие капли прибили пыль.
– Какой дом? – спросил Саготин.
– Семьдесят восьмой, дом Александрова. Вон он… Стой!