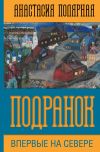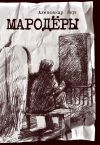Текст книги "Крысиный король"

Автор книги: Дмитрий Стахов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)
15
Вечерами я курю одну сигарету за другой. Если встать и придвинуться вплотную к ограждению лоджии, видна улица, ее плавный изгиб, автобусная остановка, остов сгоревшего павильона «Цветы», разгромленный салон мобильной связи по соседству с павильоном, угол продовольственного магазина. Такие теперь называют социальными. Для малообеспеченных. У меня есть деньги. Много денег, но я замаскировался под малообеспеченного, стал постоянным посетителем магазина. На его месте, до погромов и грабежей, был сетевой универсам. Не из самых дешевых. Там я тоже был постоянным.
Солдаты в больших шлемах, бронежилетах, обвешанные амуницией, выкуривали оттуда мародеров. Таскали в основном спиртное, многие перепились, не отходя от стеллажей, никак не понимали, что надо просто лежать вниз лицом, что солдаты, после того как их обстреляли из-за окружной, озлобились, один сорвался, застрелил пытавшегося встать мужика, стоявшие неподалеку женщины с пакетами из того же магазина заголосили, след крови до сих пор виден на асфальте, едкая у застреленного была кровь, разъедающая, голосившие женщины ходят в социальный магазин, про убитого пьяного мародера никто не вспоминает, в новостях – не было ни слова, как и про других убитых росгвардейцами, была сплошная благодать, единодушное одобрение жестких, но необходимых мер, а вместо названия сетевого универсама теперь вывеска «Продукты».
В этот магазин я хожу за хлебом и дешевой водкой и каждый раз удивляюсь – с какой легкостью вернулось все то, что я застал в детстве и молодости: потная пахучая вареная колбаса, подгнившая, с налипшей землей картошка, само название «Продукты», продавщицы в передниках, ссоры в очереди и синеватые худые курицы с головами, глаза у некоторых приоткрыты, они будто бы еще живы, ощипанные, притаились, надеются – пронесет, как-то все кончится хорошо, перья отрастут вновь.
Из лоджии виден и шлагбаум. Его установили за первым лежачим полицейским, перед остановкой, перед вторым, расположенным после нее. Шлагбаум перекрывает дальнюю от меня сторону улицы, его можно было бы объехать по ближней, но на ближней разложены ленты со здоровенными шипами, перед шлагбаумом все останавливаются, к водительской двери подходит гвардеец в каске, ствол автомата направлен вниз, но палец – на спусковом крючке, все с готовностью опускают стекло, солдат заглядывает в машину, кивает другому солдату, стоящему возле противовеса шлагбаума, тот, с автоматом за спиной, налегает на противовес, шлагбаум поднимается, машина проезжает, едущие в противоположном направлении покорно ждут.
За время моих наблюдений я еще не видел, чтобы кого-нибудь направили на специально подготовленную площадку для досмотра, но жду я не этого, а того, что вот, вот сейчас начнется заварушка, кто-то откажется выполнять указания солдата, он поднимет свой автомат, в него начнут стрелять, он будет стрелять в ответ, упадет, в перестрелку вступит второй. Этого не происходит. Я курю в лоджии. Солдат заглядывает в машины. Что-то спрашивает. Водители что-то отвечают. Ну, хотя бы проверили багажник. Ничего!
Я никак не решусь уехать. Впереди старость – впрочем, я уже старый – и смерть, но мысли о будущем не покидают. Это наследственное. Моей матери уже хорошо за восемьдесят, она радуется новому суставу, который, по обещаниям врачей, прослужит не меньше двадцати пяти лет. Моя мать волнуется из-за того, что, когда придет пора сустав заменять, у нас не окажется средств. Она старается не нагружать сустав, старается пореже выходить из дома. Получается, что оставить ее здесь одну я не могу, младшенький, Петя, быть может, и будет приносить продукты, но выслушивать два – три раза в неделю все то, что выслушиваю я, не сможет, а слушатель для моей матери важнее хлеба, молока, яиц, гречневой крупы или обязательной, к чаю, пастилы. Остается лишь завидовать тем, кто уехать смог.
У Пети какая-то странная подружка, ее родные давно эмигрировали, она же убежденная патриотка, и не из распространенной породы тех, кто истово любит свою страну издалека, татарка с половиной еврейской крови, крещеная, ходит в церковь, затащила туда Петю, убеждена, что надо нести свой крест, что скоро все кончится, все засияет благостью, горести уйдут, все станут счастливы. Когда я спросил – значит, мы все скоро умрем? – обиделась, но виду не подала, стала мне объяснять, что скоро власть перейдет к переходному правительству, что переходное правительство проведет выборы, что страна воспрянет, что в стране хороших людей больше, чем плохих, что потенциал заложен огромный, что с божьей помощью мы все преодолеем, а когда я спросил – почему она принимает меня за идиота? – обиделась уже в открытую, Петя ее увел, выговорил мне, вышедшему проводить до лифта и пытавшемуся извиниться, претензии – мол, я и такой, и сякой, Петя, Петя, Петенька, в подошедшем лифте, со своего этажа вниз, ехала рыжая и светлоглазая Женя, в куртке-хаки с немецким флажком на рукаве, Женя мне подмигнула, Петина подружка спросила: «Вы вниз?» Нет, азохен вей, вверх, верх, дурочка несчастная, только вверх.
Женю я встретил, когда пришел смотреть квартиру. Женя из-за моего плеча открыла дверь подъезда «таблеткой». В лифте спросила – со мной ли Игорь будет меняться? Игорем звали хозяина однокомнатной квартиры, он собирался въехать в мою трехкомнатную. Мне светила приличная доплата. Я ответил, что со мной. Встречавший хозяин квартиры с ней поздоровался, так я узнал, как ее зовут, удивился, что она не ответила. Потом Женя рассказала, что ее муж пил с хозяином моей будущей квартиры, с этим Игорем, удобно, надо только спуститься на этаж, что как-то после очередной пьянки ввязался в драку у автобусной остановки, мужа Жени избили, на остановке тусовались крепкие ребята; парализованный, лежал пластом, немного оклемался, ходит, приволакивая ногу, с рукой проблемы, слюни текут, работу потерял, попытался ходить к Игорю в мою бывшую квартиру, да у Игоря на питие времени нет, он еще не закончил ремонт, жалуется, что никак не может избавиться от запаха в маленькой комнате, да и вообще квартира очень, очень запущенная. Я сказал Жене, что ей надо уйти, уйти от мужа, точнее – выгнать его, она же закрыла мне рот узкой и сильной ладонью и прошептала, что он без нее помрет, что она никогда никого не предавала, ее предавали, она – нет, поздно начинать, уйти – к кому? – ко мне, что ли? – в эту комнату – она отняла руку от моего рта, – с двумя детьми?
Наш разговор произошел вскоре после моего переезда. Женя заглянула на огонек. Ничего подобного тому волшебному соитию душной летней ночью, в лоджии, на большом надувном матрасе, на котором наши соки оставили неизгладимые следы, больше не происходило. Женя все-таки заходит выкурить сигарету, посидеть в кресле, заснуть, проснуться, неловко улыбнуться, сказать: «Извини, что-то устала…»
…Уезжать нужно было давно, сразу после – назовем это так – продажи фирмы, сразу после обмена, квартиру можно было бы сдать, она в прекрасном состоянии, мебели практически нет, я сплю на том же надувном матрасе, два кресла, телевизор, смотрю скаченные сериалы, изредка – новости, две книжные полки, кухня большая, холодильник новый, есть миксер, микроволновка, в ванной только не очень удобно чистить зубы, раковину мы отломали с Адой в те недолгие дни, что она жила у меня: Ада запрыгнула на раковину, раскрылась мне навстречу, я сжал ее шелковую попку – Потехин был прав, прав насчет кожи, у черных она другая, – был в полной готовности, тут все и обломилось.
Ада готовила рыбу с рисом. Остро, но вкусно. Сериалы ей не нравились, удивлялась тому, что смотрю я зарубежные, сама просила включить какую-то передачу, где одни люди жалуются на жизнь, другие их утешают, плохо понимала, о чем идет речь, и очень веселилась.
Но кто сейчас будет снимать однокомнатную квартиру в этом районе? Почти каждую ночь стрельба, с наступлением темноты солдаты у шлагбаума залезают в бронетранспортер, управляют шлагбаумом посредством пульта, иногда оставляя открытым на всю ночь, что не помешало им однажды разнести из крупнокалиберного пулемета одну машину, что-то не понравилось, может, номера криво были привинчены или немытая была, пассажиров, трех парней, просто разорвало, я вышел поутру за хлебом, если не подсуетишься, хлеба может не достаться, видел кишки этих парней на асфальте, занося хлеб Жене, объяснял ее сыну, что ночью он проснулся от того, что плохие мальчишки лупили под окнами железной палкой по железной бочке, но никто ни в кого не стрелял, что ему лучше послушаться маму и сейчас не идти гулять, а соседка напротив, маленькая старушка-библиотекарь, как всегда, начала совать монетки за хлеб и спрашивать – кого убили на этот раз? Да, если и найти съемщика, то платить он будет нерегулярно, а если уехать, то вовсе перестанет. Сейчас дураков нет. Подонков и святых выше крыши, дураки, основа основ, вымерли. Или – затаились, ждут, когда придет их время.
Хотя Лэлли звала. Уже несколько раз. Ее удивляет, что я не обратился за помощью к Игнацы: «Вы же родственники!» – говорит Лэлли. «Да, родственники, но не близкие», – отвечаю я, вспоминая, как Игнацы снимал для меня номер в отеле, когда я как-то решил прокатиться в Париж. Дешевенький номерок, далеко от центра, но, если я бы решил остаться, Игнацы помог бы с работой, для начала – уборщиком на его фабрике, двадцать девять человек наемного персонала, немаленькое предприятие по тамошним меркам, и он сам, владелец и главный инженер. Неужели ради меня Игнацы не уволил бы своего уборщика, старого араба? Уволил бы, конечно, но меня ждали заказы, крысы тогда плодились в геометрической прогрессии, жизнь казалась интересной, еще полной загадок.
Оказалось только, что у всех загадок схожие отгадки. Все превращается в труху, рассыпается в прах, гниет, распадается. Поголовье крыс пошло на спад. Нарушилась гармония между крысами и людьми. Крысам стало достаточно ловушек и яда, они поглупели, жрали отраву, лезли в западню и охотно дохли, приносили себя в жертву. Пришло время потери воли к жизни, крысы оказались главным индикатором этого этапа. Их поголовье уменьшилось не из-за излучения антенн мобильной связи, крысы не тараканы, они сложнее, нечувствительны к прямому человеческому воздействию, у них свои законы, в том числе – по которым их количество растет или уменьшается. Я чувствую крыс, у меня с ними контакты тонкого свойства, уверен, что крысы просто разочаровались в людях, но, в отличие от людей, сумели сохранить ядро, элиту, ушли в более глубокое подполье, там их смогут достать только мои волки.
Фирму купить хотели давно; выжидая, я много потерял, искал достойного покупателя, а продал потомственному гэбисту. Гэбисты постепенно скупили абсолютно все, что не смогли или не захотели купить, то облапали, замазали, запачкали, обложили данью. Они сами, их потомки. Не исключено, что среди потомков есть потехинские дочки и сынки. Самые молоденькие, самые истовые, самая гнусь.
Бедняга Потехин думал своими сперматозоидами подпортить им породу. Их порода не подвержена порче. Их бабам хоть ведрами заливай, в какие угодно одежды ряди, рано или поздно мурло полезет, в любом обличье. Мой гэбист был выпускником университета, антрополог, весь из себя демократ и антисталинист, я думал, что уж этот-то обязательно обманет, а ведь не обманул и даже не торговался.
Вырученные за фирму деньги частью лежат в банке, процент небольшой, но я не верю в большие проценты. Странно, что банк еще не накрылся. Странно, что мне начисляют пенсию. Какие-то становые жилы еще работают. Какой-то запас еще существует. Приходят открытки – зайдите, получите гречку, зефир в шоколаде, растворимый кофе, треску в масле. Все тот же стандартный набор. Треску я выбрасываю сразу. Хотел однажды отдать одной старушке, та обиделась.
Плотная девушка предлагала провести уборку. Ее прислали районные власти. Была удивлена, по бумагам я был, оказывается, после операции и должен был с трудом передвигаться. Мы посмеялись, она предложила – раз уж пришла, – вымыть пол, выходя в лоджию покурить, я погладил ее по мягкому, горячему заду, девушка распрямилась, обещала пожаловаться, я сказал, что уж лучше бы она дала мне по физиономии шваброй, что жаловаться нехорошо, тем более я после операции, немощен и убог, мы вновь посмеялись, я угостил девушку чаем, она рассказала, что у ее сына врожденный порок сердца, отец сына, бросивший девушку, лишь только она забеременела, прислал деньги на лечение, он где-то воюет, присылал еще какие-то вещи, среди них она обнаружила хорошую замшевую куртку со следами крови на подкладке. У девушки было красивое, неумное лицо, крепкие ноги, узкие плечи, мне показалось, что она ждет, когда я еще раз положу руку ей на задницу, но пол был уже вымыт, чай выпит.
Большую часть вырученных денег за фирму и доплаты за квартиру я передал Лэлли, она открыла на мое имя счет. Отсюда деньгами я пользоваться не могу. Только на месте. Если все-таки уеду, бедствовать мне, хотя бы первое время, не придется. Можно будет даже пошиковать. Потом трава не расти. Таблетки. Веревка. Я еще не решил. Надо только встретить Илью. Дожить. Встречу, уеду, тогда решу.
Лэлли считает, что я, мои парижские родные – с ними она познакомилась дома у Рашели, когда шла череда празднований освобождения Потехина от объятий Красного Креста, а также моя мать – мы поехали к ней после возвращения Потехина в пределы отечества, Лэлли тогда переживала период увлечения джазом, прилетала с толпой разных саксофонистов-пианистов, – что все мы – странные люди, что у нас нет важнейшего человеческого свойства – семейной, родовой общности друг с другом, позволяющей сплотиться и выжить во враждебном мире. Мир враждебен, считает Лэлли. В этом я с ней согласен. Солнце поднимается на Востоке.
Лэлли, притом что принадлежит к одному из немногочисленных влиятельных христианских сенегальских родов, притом что училась в Австрии и пела на лучших оперных сценах, притом что считается одной из лучших исполнительниц камерных произведений великих композиторов, хотя сейчас она больше поет джаз, да так, что мороз по коже, а теперь еще и попсу и с нею делают клипы, она завоевала сумасшедшую популярность, притом что среди ее знакомых тьма знаменитостей и любой из них она может позвонить и ее соединят, притом что среди ее предков какие-то западноафриканские князья, они же цари, – при всем при этом Лэлли отличается склонностью к прописным истинам, граничащей с примитивностью, любовью к простоте, способностью удивляться вещам незначительным, примелькавшимся, в которых, однако, ухитряется находить что-то новое и неожиданное.
Помню, как она взяла с полки маленький, дешевенький колокольчик, купленный в сувенирном магазине по дороге к потехинской тетке, к которой мы с Потехиным ехали первый раз после его возвращения. Лэлли не знала, конечно, ничего об истории этого колокольчика, о том, где он был куплен и при каких обстоятельствах, а глаза ее засветились и она сказала, что ничего лучше, чем этот колокольчик, давно не видела. Возможно, Лэлли обладает каким-то глубинным зрением. Быть может, ее глубинная примитивность на самом деле способность видеть суть. Я ничего ей не говорил, тем более не цитировал Потехина – тот подкинул колокольчик на ладони, спросил, зачем я трачу деньги на такое говно, встряхнул колокольчик, он звенел глухо, Потехин поправил язычок, колокольчик стал звонче.
Лэлли была просто счастлива, когда я, все-таки сказав о том, что язычок поправлял Потехин, колокольчик ей подарил – если Лэлли звонит, из Парижа, из Кливленда, из Тронхейма, – то обязательно, разговаривая со мной, машинально тянется к колокольчику, который теперь всегда с нею. Длинь-длинь! Длинь-длинь!
Лэлли появилась в Москве через год после смерти Потехина. На похороны не смогла, гастрольный тур, потом у нее что-то было в семье, в Сенегале, потом контракт – пела свою попсу аж в Вегасе, это признание покруче Ла Скала. То было время крысиного раздолья, задолго до крысиного кризиса, заказы сыпались золотым дождем, пришлось нанять помощника и шофера. Тогда я еще и не думал об обмене квартиры, отложенные на развитие фирмы деньги тратил на проституток.
С первой, той, которая приоткрыла их кажущийся простым мир, я познакомился на автобусной остановке – выдался свободный день, я шел мимо с пакетом, в пакете овощи, хлеб, кусок мяса, бутылка, в такие дни часа в четыре я жарил мясо, выпивал полстакана, ложился спать, – и я шел, представляя, как разрезаю мясо, как из него выступает прозрачный ароматный сок, а из автобуса вышла невысокая шоколадная девушка в кепке с большим козырьком, множеством косичек, ярко-розовыми губами и в красных коротких сапожках.
Ей нужна была автомойка, та, что видна из лоджии моей нынешней квартиры. Там мыли и мой фургон, точнее – была бы видна, автомойку спалили чуть раньше, чем магазин «Цветы» и салон мобильной связи, я ходил на пепелище, в толпе никак не могли понять, зачем на втором этаже автомойки было нужно столько зеркал, я хотел поделиться знанием, потом ушел прочь, а эта девушка была такая трогательная, говорила, слегка шепелявя, с очень сильным акцентом, ее зубы казались ослепительно-белыми, но если присмотреться, то они были желтоваты, а глаза, чуть раскосые, были полуприкрыты набрякшими веками. Она выглядела утомленной.
Я вызвался ее проводить. Не по пути, да, не по пути. На нас все глазели. Была середина обыкновенного, буднего дня. Моя шоколадная была из Нигерии. Она спросила – знаю ли я, где такая страна? Я ответил, что в Африке, что в России играл один очень хороший нигерийский футболист, чье имя я забыл. Меж нами установилось взаимопонимание, хотя Аданье, она же – Ада, футбол никогда не нравился. Мы подошли к автомойке. Слишком быстро подошли. Ада сказала, что хотела бы как-то меня отблагодарить, я ответил, что, мол, не стоит благодарности, но она настаивала, и я продиктовал номер мобильного. Она скрылась за узкой боковой дверью, из больших ворот, занавешенных пластиковыми лентами, вышел худой с выпирающим брюхом парень, спросил – не хочу ли я воспользоваться их услугами? – и оказалось, что на втором этаже работают девушки, призванные скрасить клиентам время ожидания, а могут просто принять жаждущих ласки в жаркие объятия. Брюхастый был поэтичен. Я спросил о цене, пообещал непременно воспользоваться приглашением, ушел жарить мясо, на следующий день меня приняла говорливая молдаванка.
– Давно не было женщины? – спросила она.
– Вечность, – ответил я.
– Бедный вы, бедный!
Не хватало только всплакнуть на ее округлом плече.
Дня через три, после возвращения от клиента, я решил было повторить попытку, в случае неудачи удовлетвориться молдаванкой, но Тарзан получил несколько серьезных травм, надо было обработать раны, удалить полуотгрызенные пальчики на левой задней лапке, зашить рану на правом боку, и Ада позвонила сама: ей и одной ее товарке нужно было где-то перекантоваться, пока автомойку шерстила миграционная служба. Она звонила, как признавалась потом, наудачу, была удивлена и обрадована моей отзывчивостью. Подружка Ады была намного темнее, по-русски говорила очень плохо.
Мы пообедали куриным бульоном и гречневой кашей с грибами, я вызвал подружке такси, она уехала в общежитие, Ада осталась у меня, и оставалась еще много раз, навещала, и когда я переехал, говорила, что скучает по моим волкам, даже когда автомойку спалили, Ада все равно появлялась, пока не уехала в Италию, откуда написала несколько писем с вложениями – Ада и фонтан Треви, Ада и Колизей, Ада и наряженный гладиатором уличный актер. Так что, когда Лэлли появилась у меня, шикарная, благоухающая, в длинном бежевом пальто с большими накладными карманами, сопровождаемая охранником, соседка, выглянувшая на шум – они, выйдя из лифта, над чем-то громко и весело смеялись, – приняла Лэлли за Адину коллегу.
Лэлли купили петь на частных вечеринках. Гастроли, концерты отменили по соображениям безопасности. Хозяева вечеринок думали, что Лэлли была готова на все ради денег. Они мерили по себе.
Первый раз Лэлли приезжала, когда Потехин жил у тетки в Калужской губернии, и о ее приезде рассказал возле роддома, в котором родился Петенька. Она тогда пела в большом концертном зале. Сумасшедший успех. Второй – когда мы с нею вместе поехали к Потехину на могилу.
Тогда началась осень. Дождливо, ветрено. Я подъехал к отелю раньше оговоренного времени – суббота, центр был практически пуст. При повороте с набережной меня на несколько мгновений ослепило выскочившее из-за недавно достроенного высотного дома солнце: оно пустило луч в купол отреставрированной церкви, я зажмурился, в носу защипало. Лакей в ливрее начал махать руками – мол, здесь только для наших машин, мол, уезжайте скорее, – но я, опустив стекло, сказал ему, что машину подогнал для мировой знаменитости и буду стоять столько, сколько понадобится. Лакей позвал человека в костюме, тот спросил – как зовут знаменитость? – услышав ответ, пожал плечами, хмыкнул, и тут тоже раньше оговоренного времени появилась Лэлли – высокие каблуки, узкие джинсы, красная кожаная куртка, мягкая кепка надвинута на глаза – подставила щеку для поцелуя, ее длинная, крепкая нога встала на подножку, пристегнулась, закурила, сделала две затяжки, заснула и проснулась, когда мы были уже в области.
О смерти Потехина Лэлли узнала от меня. Она прилетела, набрала его номер, услышала непонятные русские слова. Ей перевели, что номер больше не обслуживается, позвонила мне, я как раз был у серьезного заказчика, оказавшегося ее фанатом, собиравшегося на ее концерт, и когда я сказал, что Потехин убит, что его застрелили вместе с известным адвокатом, что адвокат был целью убийц, а Потехин попался им под руку, что похоронен на маленьком кладбище в Калужской губернии, Лэлли проговорила несколько фраз на каком-то совсем непонятном языке и заплакала.
Она сказала, что должна побывать на его могиле. Мы договорились о поездке. Заказчик спросил – не совпадение ли, что человека, с которым я говорил, зовут так же, как его любимую певицу, узнав, что не совпадение, что это один и тот же человек, спросил – смогу ли я познакомить его с Лэлли после концерта? Я обещал. Обещание сдержал. Этот клиент считает себя обязанным по гроб жизни. Часто звонит, спрашивает – не нужно ли что? Странный человек…
…В кафе при заправке мы выпили кофе. На Лэлли все пялились. Вряд ли потому, что за маленьким столиком сидела мировая знаменитость. В России знаменитости на хрен никому не нужны. И пялились даже не потому, что Лэлли была черная, а из-за исходившего от Лэлли ощущения богатства, не денежного, богатства жизни, ее полноты, многогранности, в России недостижимого, никому по сути не нужного, в других нелюбимого, возбуждающего странную зависть, зависть к тому, к чему ты сам стремиться не будешь, обладать чем никогда не станешь.
Лэлли съела булочку с сыром – нот бед, фак ми, нот бед! – отломила половину от моей, с мясом, попросила вторую порцию кофе и плитку горького шоколада, сказала, что уехала, предупредив только секретаря-гримершу-помощницу, что через полчаса должна давать интервью для телевидения, что у нее съемка для журнала. Я предложил вернуться, она потрепала меня по щеке. Знаменитости, что Лэлли, что Вальтер, наплевательски относились к своим обязанностям. Я бы не смог пропустить интервью для телевидения. Только ни один из каналов не собирается брать у меня интервью.
Я хорошо помню все, что было потом: пробку перед поворотом на бетонку у памятника Космодемьянской – Лэлли поинтересовалась – кто это? почему вокруг памятника столько венков? – я как мог объяснил – рили? оу, май год! ши воз со янг! ю хэв зэ факест хистори ин зэ уорлд! зэ факест! – потом медленную езду за трейлером до ответвления на Верею, мою попытку трейлер обогнать в зоне запрещенного обгона, пресеченную откуда ни возьмись дэпээсником, который, посмотрев мои права и документы на машину, пошел к своей, вернулся с Лэллиным блюзовым диском, пиратским, конечно, в стекле, попросил оставить на неряшливо отпечатанном вкладыше автограф, отдал документы и права – оу! фак! фак! фак! полис ноуз ми, полис ин вис факест плэйс! Потом мы поехали мимо вспаханных полей, мимо новеньких коттеджных поселков, нас обгоняли чистые, новые, мощные машины, подпрыгивающие на колдобинах, и Лэлли сказала, что Россия удивительная страна, что здесь самые дорогие машины и самые разбитые дороги, что стольких «Мерседесов» и «Порше» она никогда не видела на сельской дороге ни во Франции, ни в Швейцарии, ни, конечно, в Сенегале, тут мне позвонил фермер, спросил, приедем ли мы все-таки или нет, я ответил, что вот– вот, подъезжаем, мы съехали на грунтовую дорогу, переехали по деревянному мостику через темную быструю речку, я повернул направо и увидел тетку Потехина. Опершись на костыль, она стояла у крыльца продуктовой лавки.
Она на удивление легко и быстро подошла к машине, мне, вместо приветствия, сказала: «Купи водки!» «Здравствуйте! – сказал я и указал на Лэлли. – Это…» Потехинская тетка позволила мне открыть заднюю левую дверь, закинула в машину костыль, ловко забралась на сиденье и заговорила с Лэлли по-французски.
Я закрыл дверь, перепрыгнул через лужу, открыл дверь лавки. Там было полутемно, пахло сладким, но не было тонкого запаха керосина, который всегда в моей обонятельной памяти соответствовал подобным местам. «Дайте две бутылки, – сказал я скучающей продавщице, ее веки почти закрывали глаза, она смотрела, откинув голову назад, и вид ее был высокомерным. – Две «Столичной». Продавщица повернулась к стеллажу, взяла с полки бутылку, поставила на место: «Столичная» паленая, – сказала она. – Берите местную, «Екатерину Великую». Она легкая. Лучше сразу три. И стаканчики. И нарезку. Вас на кладбище уже ждут. Фермер там…» «Четыре?» – спросил я. «Будет в самый раз, – кивнула продавщица. – Пакет?» «И что-нибудь запить. Да, давайте пакет…» Я расплатился и вышел из лавки.
На кладбище нас ждали фермер Сергей, какой-то худой парень в расстегнутой куртке и несвежей майке с Джеймсом Дином, серолицый человек в брезентовом плаще с капюшоном, две женщины – тонконогая, с мосластыми коленями жена Сергея и крашеная блондинка с синяком на высокой скуле. Сергей, набычившись, подошел к машине, открыл дверцу, протянул руку и помог Лэлли выйти. Каблуки ее туфель глубоко ушли в землю. Опираясь на руку Сергея, Лэлли пошла между могил. Мне пришлось немного помучиться с костылем тетки Потехина: она сначала хотела вылезти сама, без посторонней помощи, потащила костыль за собой, он уперся в потолок, она потянула его слишком сильно, испортив обивку, костыль застрял. «Извини!» – тихо сказала тетка Потехина, она уже стояла возле машины. «Ничего, – сказал я. – Мелочи!» «Про твоего сына здесь никто не знает, – так же тихо, вытаскивая из узкой пачки тонкую сигарету, сказала она. – Сколько ему еще сидеть?»
Высвобождая костыль, я пытался точно высчитать оставшийся Илюшин срок. Шестнадцать? Семнадцать? Семнадцать с половиной? Еще вчера я бы ответил с точностью до дня, теперь, под взглядом тетки Потехина, запутался в расчетах, все прежние, такие точные и скрупулезные, выветрились.
– Девятнадцать, – ответил я, ощутив, как по груди потек пот, обручем сдавило голову, язык прилип к небу. – Почти девятнадцать. Я не знал. Это случилось тогда, когда… Если бы он со мной… – Не надо, – сказала она. – Не надо ничего говорить.
– Я понимал, что с ним что-то не то… Он отказывался общаться с матерью потому, что ее бывший муж, его отец, я, я – еврей. Он говорил, что должен искупить этот грех.
– Ну какой ты еврей, – она стряхнула пепел, я посмотрел на Сергея и Лэлли, увидел, как блондинка с синяком догнала их, тронула Лэлли за плечо, протянула руку, до меня донесся ее надтреснутый голос: «Вэлкам! Вэлкам вери матч!»
– Самый настоящий, – сказал я и вытащил костыль из машины. – Моя бабушка, мать моей мамы – еврейка. Он сказал мне, что мечтает, чтобы я сдох.
– Он твой сын, – сказала тетка Потехина. – Это не он убил моего Колю.
– Я знаю…
– Молчи! Здесь никто ничего не должен знать. Эта, – она указала рукой с сигаретой на Лэлли, – эта знает?
– Нет. Собираюсь сказать.
– Не говори… И еще… Колины марки. Он бы хотел, чтобы коллекция была у тебя. Забери, забери сегодня же…
– Я… Я не могу… Она слишком дорогая…
– Какая дорогая! Дорогая! Маленькие клочки бумаги… А если и дорогая – еще попробуй продать. Земская почта. Ничего больше нет, а бумажки остались. Забери! Если продашь – купишь мне новый бак для подогрева воды. Мой забился накипью…
Тетка Потехина отбросила окурок, отстранила мою руку, опираясь на костыль, пошла вслед за всеми. На могиле Потехина стоял бетонный блок с вделанной в него мраморной плиткой. Плитка была без надписи, ее пересекала извилистая трещина. Невдалеке стояла недостроенная часовня. Сквозь ее пустые окна туда-сюда пролетали потревоженные сороки. Земля была жирная, распустившаяся после заморозков. За часовней зеленел забор садовых участков. Из-за него доносился прогорклый аромат шашлыков. Я раздал стаканчики, свинтил крышку с бутылки «Екатерины Великой». Фермер, против ожидания, выпил. Парень в майке с Дином передернулся, скривился. Лэлли посмотрела в стаканчик и выпила тоже. Фермер сказал, что плитку заменит весной, надпись ему обещали сделать. Лэлли спросила – что он говорит? – и я перевел.