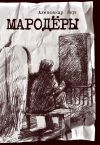Текст книги "Крысиный король"

Автор книги: Дмитрий Стахов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц)
…Андрею поменяли халат, дали новые чоботы, отвели в лепившийся к крепостной стене старый корпус, в одиночку, в полуподвал. Сырость, темно, лампа под высоким потолком, вонь из параши. Сорокаминутная прогулка раз в два дня, халат меняют раз в месяц, тогда же баня. В прогулочном дворике Андрей ходил по кругу, останавливаться нельзя, солдат на стене передергивал затвор, надзиратель окрикивал: «Ходи-и!»
На одной из прогулок, по недосмотру надзирателя, Андрей оказался вместе с Лихтенштадтом. Того должны были вывести из дворика, но забыли, и Лихтенштадт, увидев Андрея, поправил очки и улыбнулся. Он сначала Андрея не узнал. Потом эти подозрения, будто Андрей присвоил деньги партии. Андрей решил не отвечать на оскорбление. Будет время, будет подлинный, справедливый партийный суд, все встанет на свои места, но от Лихтенштадта Андрей узнал, что Зимберг находился в отпуске, шалила печень, за границей пил воды и крепостью управлял заместитель, Талалаев.
У Зимберга от крика брыла дрожали, но продолговатая остзейская физиономия оставалась бледной. Талалаев наливался кровью, глаза заслонялись толстенными щеками. Заглянув через зарешеченное окошко в прогулочный дворик, Талалаев приказал открыть калитку, большой свой кулак поднес к носу надзирателя: куда смотришь? заелся? Надзиратель подскочил к Лихтенштадту, развернул того, толкнул в плечо, Лихтенштадт, гремя кандалами, упал. Другой надзиратель, прибежавший по знаку Талалаева, схватил Андрея за воротник халата, потащил к выходу. Андрей слышал, как возмущается Лихтенштадт, как Талалаев кричит: «Что?! Карцер! Темный карцер! Тридцать суток! Хлеб и воду через день!»
«Вы! Вы! Не имеете права!» – неожиданно высоким голосом закричал Андрей, ловким движением, заученным по учебнику джиу-джитсу, освободился от хватки. «Свисти!» – приказал Талалаев, и во дворик вбежали дежурные надзиратели. Андрея повалили, подтянули пятки к заведенным за спину рукам, подняли, понесли, бросили в камеру.
Когда дверь захлопнулась, Андрей с трудом сел, подумал, что теперь говорить, что вышел срок кандалов, бессмысленно. Раз в две недели кандалы должны были снимать на сутки, он отмечал дни ногтем, можно проверить его счет, отметки на нижней поверхности пристегнутого к стене топчана, а уже заканчивается третья неделя, если хотят кандалы оставить, пусть дадут подкандальники, лодыжки натерты в кровь. Лампа под потолком, забранная в прочную решетку, помигала. Потом огонек успокоился, свет стал еще тусклее. Муха, старая знакомица, вылетела из темного угла, закружила вокруг закопченного стекла лампы. Андрей прислонился к стене, самое теплое место камеры, возле параши.
Морщась от тяжести ручных кандалов, Андрей попытался отогнать муху. Та отлетела, сделала по камере круг, спланировав на окно с толстой решеткой, вернулась, села на руку. Андрей тряхнул рукой, цепь звякнула.
Лось говорил: «Ты должен дожить до торжества социализма! Обещай!» Андрей обещал, но, когда собиралась тройка на Аптекарский остров, просил Лося поставить его вместо Забельшанского. «Ну посмотри на себя! – ответил Лось. – Ну, какой из тебя жандармский ротмистр! Придет твое время!» «Мешке! Скажи!» – повернулся Андрей к Закгейму. Закгейм покачал головой, Андрей почувствовал, что еще чуть-чуть и он расплачется, в самом деле – расплачется.
Расплачется так, как расплакался сейчас – Андрей отмахнулся от мухи, ему показалось, что она упала на асфальтовый пол, затерялась среди трещин. Он лег и начал осматривать пол, сдувая мелкий мусор. В поднявшейся пыли вверх взлетело мушиное крылышко. Андрей попытался поймать его, но оно ускользнуло. «Неужели, – подумал Андрей, – неужели я ее убил?!» Он тяжело поднял скованные руки, вытер глаза рукавом халата, но слезы продолжали литься: «Прости! Прости, пожалуйста!»
Ему было очень жалко муху, было обидно. Лихтенштадт не только заподозрил в присвоении партийных денег, а еще назвал «подаванцем». Да, он написал прошение на Высочайшее имя, и Лихтенштадт тонко улыбался, мол, испугался за свою шкуру, самый, как говорил Лось, надежный человек и – испугался. Андрей вжимал голову в плечи, морщился, никак не мог сказать в ответ, что сам Лихтенштадт не такой уж герой, что приписывает себе чужие заслуги, бомбы делал эсдэковский техник на квартире писателя Горького в Москве, к Лосю они от Лихтенштадта только попали, но никак не им, Лихтенштадтом, сделанные, а он, Андрей, даже имени своего не называл до тех пор, пока не написал прошение, Лихтенштадт же сразу и назвался, и с речами выступал перед жандармами, клеймил самодержавие, нарывался на побои, которые ему, настырному, были предоставлены. «Подаванец! Ну, здравствуй, подаванец! Подаванец, как спалось?» – сказал Лихтенштадт…
…Дверь камеры открыли, надзиратель – Андрей сразу про подкандальники, тот, улыбка в сторону, сказал, что с него совсем снимут кандалы, – сообщил, что его благородие заместитель коменданта Талалаев распорядился перевести Андрея из одиночки в общую, к уголовным. «Как к уголовным? Почему? – Андрей отшатнулся к стене. – Я… Я по политической статье, я революционер, мне…» За надзирателем в камеру вошли еще двое. Надзиратель схватил Андрея за плечо: «Молчать! Пойдешь в общую, будешь протесты устраивать – и розги получишь, и вот это, – он поднес к лицу Андрея кулак. – Я два раза бью, третьего уже не надо, понял?» «Потрудитесь обращаться на «вы», – выкрикнул Андрей. – Ни в какую общую…»
Надзиратель стоял у дверей, лупили младшие надзиратели, редкий случай – можно было бить политического, звеня цепями, Андрей летал от одного к другому, – поволокли по коридору, никто из политических – Лихтенштадт, прознавший о переводе, простучал – не заступаться! – никто и не заступился, никаких акций не было, никаких, во дворе с Андрея сбили кандалы, потащили дальше, забросили в «зверинец», в большую камеру на двадцать пять человек, с выходившей в коридор стеной-решеткой.
Андрей пришел в себя на полу, перевернулся на бок, с трудом сел. Над ним стоял высокий человек с большим лбом, скошенным подбородком. Человек присел на корточки. Протянул Андрею сильную руку. «Патрикей-Казимир, – сказал человек. – О’Бриенн де Ласси. Можете ко мне обращаться Казимир Петрович. Вы же тот самый, кто ограбил и убил Кульмана? Приятно познакомиться!» Казимир Петрович помог Андрею встать. «Кульман должен был меня освободить от тюрьмы, но, деньги взяв, отказался от дела…» – он повел Андрея по камере, в дальний угол, где стояли двухъярусные койки, остановился возле одной из них. «Верхняя свободна. Тот, кто спал на ней, получил второй месяц карцера. Обычно после такого попадают на кладбище. Если выживет, все равно залезть не сможет. Так что располагайтесь. В одиночке у вас не было имущества? Ни ложки, ни плошки? Сейчас организуем. Кульман обладал магией. Присяжные ловили каждое его слово, а меня он бросил. Так что я вам благодарен». «Я Кульмана не убивал, – попытался перебить Казимира Петровича Андрей. – Я стрелял в потолок, для устрашения…» – «Милый мой! В крепости сидите вы, значит, вы и убили. Не преступление первично, а наказание. Над каждым из нас висит его дамоклов меч. Я ваш должник, сам бы убил, но приговорили к бессрочной каторге. Они, понимаете ли, решили, что я отравитель. Ради денег. Это же так естественно! Ведь вы тоже убивали Кульмана ради денег, да?» – «Да, но я…» – «И у меня та же коллизия, как у вас. Есть отравленный, а травил не я. Не лично я. Тестя, жену, брата жены. Представляете, жена выжила! У вас без срока? Будет о чем поговорить! Здесь очень неприятное общество, очень!»
Де Ласси, отравитель, игрок, великосветский бездельник, обладатель сокрушительной силы, пробивавший ударом указательного пальца боковину тюремной кружки, стал защитником и опекуном. Андрей заметил, что де Ласси больше ни с кем в камере не разговаривал. Только с Андреем. Защищать же было от кого. В первый же вечер Андрей увидел при раздаче ужина – каши с куском хлеба – улыбающегося ему каторжника, того, с кем он был скован на барже, столкнувшего Андрея в воду.
Стоян, улыбаясь, указывал взглядом на Андрея угрюмому здоровяку, заросшему под самые глаза рыжей, почти красной бородой. Здоровяк закинул опорожненную миску в бак, отталкивая бывших на пути, подошел к Андрею, сидевшему рядом с де Ласси на нижней койке, потянулся к его куску хлеба: «Тебе много, – произнес здоровяк неожиданно высоким голосом, – а я еще голоден». Де Ласси отвел его руку. «Это Гордеев, недавно как переведенный в наше узилище, – сказал он Андрею. – Читали в газетах про грабителя и насильника? Который у девочки лукошко с лесными ягодами отнял, а девочку изнасиловал и убил? Потом пошел по дороге, из лукошка ягодки кушал, по лукошку опознали и так побили, что чуть не помер? Нет? А много писали…»
Де Ласси встал. «Господин Гордеев уже успел попасть под обаяние примы камеры четырнадцатой, разрубателя икон и дешевого вора, – продолжал де Ласси. – Вон, видите, кивает? Где-то тут, в каком-то вонючем углу их третий, Комов…» Андрей тоже поднялся, саданулся головой о верхнюю койку, но де Ласси уже резко ударил широко замахнувшегося Гордеева в правую часть живота, Гордеев охнул, согнулся, упал. Де Ласси сел, взял свою миску, зачерпнул ложкой кашу, проговорил так, словно ничего не случилось: «Вы наверняка знали Энгельгардта, Николая Александровича. Автора «Очистки человеков». Он опубликовал ее под псевдонимом. Клюев, Крылов, Пирогов, как-то так…» Он отставил миску: «Подойду к иконоборцу, предупрежу, а то он продолжит свои провокации. Вы же провокаторов не любите? Наслышан о вашем процессе, про господина Статковского знаю; вы у него столько агентов поубивали, бедный Статковский…» – «Я делал это не для денег, не чтобы удовлетворить…» – начал Андрей, но де Ласси его не слушал.
Вскоре он вернулся. Отталкивающе некрасивое лицо его выражало полное удовлетворение. «Представляете, Стоян считает долгом своим вас наказать за то, что вы умышляли против существующего положения вещей. Ну, не так выражаясь, но идея такова. Пришлось кое-что ему объяснить. А именно – в случае эксцессов господин Талалаев всех рассадит по карцерам, учинит следствие и всех накажет, кроме тех, конечно, кто во время эксцессов отдаст богу душу, что, несомненно, произойдет. Я свою вечную крепость хотел бы прожить спокойно, с наименьшими неудобствами…» «Мне кажется, вы ошибаетесь», – сказал Андрей. Высокий лоб де Ласси избороздили морщины, тонкие брови поползли вверх – мол, в чем же? как я могу ошибаться? да неужели?
«Ошибаетесь в имени-отчестве Энгельгардта. «Очистку человеков» написал не Николай, а Михаил, его брат…» Де Ласси ухмыльнулся: «Да, в самом деле… Как мог деятель Русского собрания написать такое. Но согласитесь – один брат революционер, ваш вот идеолог, другой – опора трона, почти, можно сказать, мракобес…» Лицо де Ласси превратилось в непроницаемую маску. «Я вас проверял, Каморович, проверял, – сказал он. – Вы кому-нибудь верите? Я никогда никому не верил. Никому. И вам не собираюсь. Ну как я могу вам верить? Вы сын смерда, пролетарий, изгой, я – древняя порода, потомок шотландских королей. Вы за справедливость, для меня справедливость пустой звук, к тому же справедливость всегда требуется распределять, что изначально подразумевает наличие каких-то людей, якобы больше других в справедливости понимающих. Я отравил и признаю это, а вы… Как вы изволили выразиться недавно?» – «Что именно?» – «Ну, вы так витиевато, про то, за что попали навечно в крепость…» – «Ничуть не витиевато, а вполне ясно. Я действительно считаю, что посадили меня за правду, за то, что, вкусив от древа познания добра и зла, я понес эти плоды к таким же пролетариям, как я сам. Заметьте – к пролетариям, не к таким, как вы. Мы с вами отличаемся во многом, но главное – по морали. Так я думаю и так писал Михаил Энгельгардт. И распадение общества на морально различные расы намного важнее рас антропологических. Скажем, глупый с умным могут ужиться, если оба хорошие люди, но злой с добрым, честный с негодяем – никогда. И, если вы помните, Энгельгардт писал также, что у худших, злейших эгоистов, с прирожденной склонностью к хищничеству, угнетению, истязанию людей – например, у всех этих полицейских чиновников, жандармов дети будут такими же, злыми, жестокими, подлыми, хищными и жадными. Их внуки – тоже, их подлые свойства даже возрастут. Если взять лучших самопожертвователей, ну как, скажем, Балмашев или Спиридонова, у них свойства другие – великодушие, самоотвержение, человечность. И расы эти идут по разным дорогам, расходящимся в разные стороны…»
Де Ласси подпер голову рукой и, словно пригорюнившись, смотрел на Андрея. «Продолжайте, – сказал он, – это очень интересно…» «Да вы все сами знаете, если читали эту работу. Есть такие наивные люди, что верят, будто в будущем исчезнут моральные признаки талалалевской расы, будто постепенно все станут человечными. Но хорошие вымирают, а эгоисты выживают и размножаются. Вот если бы они вымерли вместе с семьями, то тогда бы произошло улучшение человечества. А так прирожденные злецы, палачи, угнетатели, хищники, деспоты живут и размножаются, при любом удобном случае выпускают когти. Да еще находят другие, новые способы проявить свою природу. Находят новые формы рабства. Торгуют женщинами, например. Находят новые способы эксплуатации трудящихся. И ждут случая впустить свои когти в лучших. Социализм должен устранить хищников».
«Лучшие, как следует понимать, это вы, Каморович, и устранять будете тоже вы. Так?» «Я не лучший, – поморщился Андрей. – Я всего лишь пытаюсь… Но вижу отчетливо – выживает цепкая посредственность или просто сволочь. Хищность и эгоизм гораздо лучше для успеха в житейской борьбе, чем высокие моральные качества. Мы вроде движемся вперед, но лучшие выбывают. Остаются посредственности и ничтожества. В России остаются люди без совести, чести, сладострастно-жестокие, подлые и лживые. Двуногие звери. На них опираются талалаевы, сами таковыми являясь. Они все готовы продать, на всем нажиться. Сколько их? – спросите вы. Миллионов семь, не меньше. Социалистическое преобразование общества должно соединиться с очисткой человечества. Пока худшие существуют, преобразование в социалистическом смысле невозможно…»
«Браво! Браво! – де Ласси лениво и небрежно похлопал в ладоши. – Это, Каморович, реабилитация Смердякова, попытка показать величие этой породы, которой, тут я с сожалением признаю, будущее и будет принадлежать…» – «Смердяков? Я такой фамилии не слышал. Наверное, уже в крепости сидел, когда его судили…» – «Каморович! Будет вам!» – «Хорошо, я читал, но почему реабилитация? Вовсе нет…» Де Ласси похлопал Андрея по плечу: «Уже лучше, лучше… Есть печенье. Хотите? Держитесь меня, Каморович, не пропадете, а про очистку забудьте, нам не дожить…»
9
Моя мать сказала, что на похороны не пойдет – надо прибраться на балконе, разморозить холодильник, протереть пыль, – добавила, что я окончательно спрыгнул, если думаю, будто ей больше нечего делать, как встречаться с когда-то робкой и худенькой студенткой-практиканткой, теперь – толстой и наглой ведущей литературных передач канала «Культура», которая помимо критики – кому интересно мнение этой свиньи? – занимается каким-то телебизнесом, просто пухнет от денег, а тут – если я не в курсе, – подорожало лекарство от давления.
Я ответил, что думал только о том, что если она пойдет на похороны, то я ее отвезу, что на похороны со мной пойдет Потехин, неожиданно приехавший, как всегда – с пожитками, со своей коллекцией марок, – что с Потехиным ей было бы комфортно, он и поддержит, и пошутит, она ведь всегда любила Потехина, ведь правда?
– Передавай Коленьке привет! – сказала она и повесила трубку…
…Не думаю, что она когда-нибудь любила Шихмана. Он был настолько красив, что его красота отвращала. В дочь врага народа Михаил Шихман влюбился, когда та была студенткой медицинского, он – майором эмгэбэ. Шихманы жили в Царицыне, там у Леонтия, деда Михаила, была часовая мастерская. Он даже выпускал часы из швейцарских комплектующих, на циферблат ставил «Леонтий Шихман. Царицын нВ». То есть – на Волге, чтобы никто не спутал.
Все Шихманы были маленькие, большеголовые, тонкорукие. Часовые мастера, обувщики, к которым заказчики приезжали даже из Баку, скрипачи, пробивавшиеся в хорошие оркестры, а один, закончивший консерваторию в Вене, с безвольным ртом, играя Брамса, гастролировал по миру. Шихманы обладали удивительной способностью к выживанию. Отчим рассказывал, что ни во время революции и Гражданской войны, ни в то время, когда моего деда Андрея били на допросах, ни во время войны Отечественной, ни после, когда всяких манов, бергов и штейнов начали прессовать, ни один из Шихманов не пострадал, не погиб, не пропал без вести, не был арестован, разве что дядя Арон, которого арестовали году в тридцатом и дали пять лет потому только, что на строительстве канала нужен был дармовый сапожник для руководящего состава. Арону даже привозили мерку Ягодиных ступней, лодыжек и икр, сточанными Ароном для Ягоды сапогами восторгался Сталин, он завидовал Ягодиным сапогам, возможно, именно поэтому участь Ягоды была предрешена, но, в отличие от птиц высокого полета, в основном Шихманы умирали от старости, угасали в своей постели, засыпали и не просыпались, дети рождались болезненными, но их кормили – съешь котлетку, съешь! – беспрестанно таскали по врачам, и они укреплялись, маленькие тела становились мускулистыми, большие головы наполнялись простыми, понятными мыслями, тонкие руки приобретали необходимую ловкость и сноровку.
Михаил был не такой. Выродок. Мутант. Его отец сразу разглядел в нем отличие от прочих Шихманов, был настолько прозорлив, что записал имя Михаил и в свидетельство о рождении, всегда звал сына Мишей, а не Моше, и даже не хотел делать ребенку обрезание, чем вызвал прямо-таки панику среди родни. Высокий, плечистый, узкобедрый, длинноногий, Михаил Шихман обладал огромной силой. Из СМЕРШа, в котором он, хорошо знавший немецкий язык, окончил войну, его откомандировали в специальное подразделение, натренировали, еще раз, серьезней, чем в прочие, проверили – не служил ли кто-то из Шихманов врагу, внутреннему и внешнему, более страшному и опасному, не состоял ли в сношениях с врагами народа, прямых или косвенных? – и он начал возить к столу гения всех времен атэнское зеленое, без него Иосиф не мог обедать, кушать рагу с баклажанами, перченый полусуп, а называл он атэнское «соком», пил с соратниками литрами, и возили его в маленьких бочонках, которые надо было держать на руках, чтобы легкое вино это не взболталось, не скисло, не утеряло маленькие пузыречки газа, держать всю дорогу, от самого селения Атэни, до аэродрома, держать в самолете, держать по дороге от аэродрома до ближней дачи.
Возили атэнское офицеры не младше подполковника. Все в орденах, наверняка за расстрелы и надзор за зэка, фронтовиков не брали – ненадежные, много о себе понимают, Шихман-то хоть нюхал порох, рассказывал, что, пусть и смершевец, но и в атаку ходил, и контратаку отражал, и ему дали майора, к медалям прибавили орден Отечественной войны третьей степени, и он был самым младшим по званию и самым молодым в подразделении. Единственным холостяком. Единственным бездетным. Единственным евреем.
Мою мать он впервые встретил в булочной. В той, которую многие называли «Филипповской». Забавно, что второй раз они встретились там же, через несколько лет, когда мать была беременна мной, только она из булочной выходила, и Шихман не подошел, а за нею проследил. В первый же раз подкатился сразу: мать купила калач, собиралась съесть, запивая кофе с молоком, Шихман встал рядом, положил на мрамор стойки два пакетика, полученных в распределителе для МГБ – один с тонко нарезанной ветчиной, другой с тонко нарезанным сыром, раньше называвшимся швейцарским, но в борьбе с космополитизмом это свое имя потерявшим, – сказал, есть калач без сыра и ветчины скучно, просил не смущаться, что ему много, класть некуда, не в карман же пальто, жирные пятна, ему так нарезали-взвесили, сам тоже купил кофе и калач.
Моя мать была красива: голубые глаза, густые русые волосы, высокая и стройная. Коричневый берет. Из-под него куделечки. Темно-синее пальто. Бабушку тогда взяли повторно, пять лет, сразу добавили еще, за какие-то старые знакомства, она сидела под Тверью, под конвоем каждое утро ее отвозили на кирпичный завод, выполняла обязанности начальника планового отдела, вела всю бухгалтерию.
Шихман был в штатском. В форме, при орденах он только летал за атэнским. К тому же его временно отстранили. Должны были куда-то назначить. Кассирша в булочной сделала замечание – мол, нечего приходить и закусывать принесенным: «Вы бы еще, гражданин, бутылку достали!» Шихман, подойдя к кассе и оттеснив плечом очередь, что-то тихо-тихо кассирше сказал, после чего она сначала покраснела, потом побелела.
Мать и Шихман вышли из булочной вместе, мать привела Шихмана в свою комнату в коммуналке не таясь. Соседки стояли на кухне, щурились от дыма папиросок. Мать была уверена, что бабушку взяли по их доносу. Она ошибалась – ни тетя Шура, прожженная торговка, готовая за пол квадратных метра или за пятьсот рублей убить, чей сын Феликс с утра брал сто пятьдесят с прицепом на углу Ленивки, а потом спал до вечера у какой-то лярвы в Котовке – я помню и Феликса и тетю Шуру, – ни Алифатова, якобы из благородных, содержавшая когда-то номера с девочками, ее я тоже помню, у Алифатовой были часы под стеклянным колпаком, никаких доносов не писали, они могли орать на кухне, были хабалками, но внешне, это была маска, защита, хабалки выживали, а машине уже не нужны были доносы, в частности – доносы на бабушку. Открывали ее дело, смотрели так называемый «круг» – с кем, когда и как дружила-общалась? – и все становилось ясно: друг семьи Мария Спиридонова, расстрелянный муж собирался вызволить из ссылки Ирину Каховскую, общую их подругу еще по Киеву, на предложение большевиков взорвать Киевский оперный театр, когда там находился Деникин, ответил, что, мол, мы революционеры, а не мясники, или это сказал не он, а повторил чьи-то слова, но все равно – надо брать, сажать, сажать, сажать, суки, какие подлые суки, чтобы у ваших дочерей, внучек и правнучек повыпадали матки, а у сыновей, внуков и правнуков хрены завязались узлом.
В первую встречу между Шихманом и моей матерью ничего не было – мать рассказывала, что на огонек заглянули ее школьные друзья, в кармане шихмановского пальто оказалась та самая бутылка, которую кассирша в «Филипповской» предлагала поставить на стойку, много смеялись, танцевали, уходя, Шихман попросил телефон, записал его на листке, который вскоре съел…
…Потехин заказал нам машину. Мы позавтракали. Потехин достал из рюкзака сверток, извлек из него черный костюм, черную рубашку, черный галстук, черные туфли. Я вышел из туалета, увидел его перед зеркалом. Костюм сидел как влитой. Гладить было не нужно.
– Машина ждет, – сказал Потехин в зеркало.
– Спускайся, я сейчас…
Потехин стоял возле чисто вымытой «девятки» с тонированными стеклами, курил, когда подносил сигарету ко рту, появлялся идеальный манжет с золотой запонкой. Золото на черном. Я сел сзади. Внутри машины пахло благовониями. Потехин отщелкнул сигарету точно в урну.
– Они спросили – «Мерседес»? «Опель»? Нет, ответил я, только наше, только родное, нам «Опель» не нужен, – сказал Потехин, усевшись на переднее сиденье.
– Здравствуйте! – сказал водитель, смуглый юноша с детским лицом.
– Привет, – ответил я.
– Можно ехать, – сказал Потехин юноше, юноша тронул с места.
– Что у тебя в пакете? – спросил Потехин.
– Так, не важно, – я тронул юношу за плечо, он вздрогнул.
– Нам надо на берег Москвы-реки. Выедете на проспект, второй поворот налево, дальше я покажу.
– Сказали – в центр. Больница Управления делами. У меня записано, – юноша с опаской посмотрел на Потехина.
– Это ненадолго. У вас есть лопата?
– Есть, – юноша поежился. – В багажнике.
По-русски он говорил хорошо, но с сильным акцентом.
– Мне она будет нужна, – сказал я и откинулся на спинку сиденья.
– Что у тебя в пакете? – повторил вопрос Потехин.
В пакете у меня лежал сдохший ночью Акелла, Акелла шестнадцатый, понятное дело – вместо него во главе крысиных волков вставал семнадцатый, король-волк умер – да здравствует король, но Акеллина смерть накануне похорон Михаила Шихмана меня расстроила. Очень расстроила. Акеллу надо было похоронить первым.
Мы заехали на стоянку над рекой, спустились вниз, Потехин поскользнулся на сырой траве, успел схватиться за ветки разлапистого куста, спас костюм, но испачкал и оцарапал руку. На моей маленькой полянке, возле старой березы, было кострище, лежали пустые бутылки, смятая пачка сигарет, огромный использованный синий презерватив.
– Тут у вас просто слоны сношаются, – сказал Потехин, указывая на презерватив, водитель, которому Потехин сказал идти с нами, воткнул в землю лопату с коротким черенком.
– Где копать? – спросил он.
– Вон там, за камнем, – сказал я.
Потехин что-то сказал водителю, тот подошел к камню, Потехин попросил меня указать точно место, снова что-то сказал водителю.
– Я никогда не слышал, как ты говоришь на пушту, – сказал я.
– Это дари, водителя-пуштуна у них не было.
– Ты и дари знаешь?
– Я много чего знаю. Моя голова забита таким говном!
Лопата стукнулась о твердое. Я забрал у юноши лопату, подкопал лист толстой фанеры, прикрывавший захоронение. Гробики с Акеллами лежали один на другом. Я достал из пакета новый гробик.
– Когда ты успел его сделать? – спросил Потехин.
– У меня есть запас. Заказал с расчетом. В похоронной мастерской. Крысы вообще живут недолго, а мои короли…
– В мастерской, наверное, обалдели…
– Не без этого!
Я положил гробик на свободное место, накрыв все фанерой.
– Засыпай! – сказал я юноше.
Он не шелохнулся. Потехин посмотрел на него. Юноша начал закапывать погребение. Потехин его остановил.
– Хочешь что-то сказать? Или могу я? Помолимся?
– Помолимся над телом моего отчима.
– Хорошо. У тебя есть платок? – он показал мне раскрытую ладонь: она была в крови.
Я дал Потехину платок.
– Он чистый, – сказал я.
Потехин обтер ладонь платком, протянул мне руку, я платок завязал.
– Не туго?
– Нормально, – он повернулся к юноше, что-то ему сказал.
– Пошли, – Потехин взял меня под руку.
– Что ты сказал?
– Что ждем его у машины. И перестань, япона мать, спрашивать, что я сказал, очень тебя прошу, ты меня задолбал, понимаешь? Задолбал!
– Ага, – кивнул я, и мы поехали в морг больницы Управления делами…
…Шихмана поселили в центре с тех пор, как поставили возить атэнское, дали комнату в коммуналке, отстранили в разгар кампании по борьбе с космополитами, он лежал день-деньской, глядел в высокий потолок с остатками лепнины, композиция «Торжество разума», частью уходившей к соседу справа, частью – к соседке слева, когда-то вся квартира была квартирой какого-то профессора Московского университета, – потом вернули на службу – но он уже возил не вино, возил арестованных по делу сионистского заговора в МГБ, тонкое психологическое воздействие, еврей-эмгэбист евреев-эмгэбистов арестовывает, наверняка поставили бы и расстрельщиком, но – обнаружилась язва, резкие боли, прободение, потеря сознания на коммунальной кухне, падение навзничь у кухонной плиты, увезли в госпиталь как был, в пижаме и тапках, с одной стороны – удобно, с другой – возникли проблемы при выписке, некому было принести во что переодеться.
Операцию сделали неудачно, он провалялся в госпитале чуть ли не полгода, потом направили в санаторий, оттуда он, наконец, попал в камеру, арестовали как был, опять же таки – в пижаме и тапках, уже санаторных, на первом допросе били полным собранием сочинений Михаила Юрьевича Лермонтова в одном томе, в мягкой обложке, по щекам и по затылку. Лермонтов не помог признаться в участии в сионистском заговоре, тогда взяли резиновую палку и ею били по ногам, в камеру вернулся с распухшими икрами и физиономией, но тут Хозяин помер, и Шихмана освободили, мало того – вернули погоны, даже – из-за знания языка, стойкости, силы, тупой преданности начальству и верности ему, – взяли в девятый, новый отдел МВД, для координации работы с коллегами из молодой демократической ГэДээР.
Несколько месяцев он был загружен работой, но сумел найти мою мать – она уже работала по распределению, анализировала фекалии в районной больнице в далекой Якутской АССР, – и организовал в тайне от нее перевод в лабораторию одной из лучших московских клиник, собирался как бы случайно в лаборатории оказаться, занести собственный кал на анализ, или встретить после работы, или утром, якобы случайно, столкнуться при выходе моей матери из дома, отвезти до клиники на служебной машине, которая была в его распоряжении, но тут шихмановского начальника Судоплатова обвинили в пособничестве Берии, и Шихман за компанию вновь оказался в тюрьме.
Все уже стало серьезнее. Держали в сыром подвале, обвиняли в шпионаже, Шихман ни в чем не признавался, ничего не подписывал, тогда в одно и то же время к нему в подвал стали спускаться двое, и, сменяясь, лупили Шихмана уже не Лермонтовым и даже не резиновой палкой, а простыми крепкими кулаками, потом окатывали холодной водой и оставляли на полу. В его незамутненном, чистом сознании начали появляться первые, заполненные сомнением каверны. Потом про него словно забыли, он ждал расстрела, а его освободили, вернули в коммуналку, выплатили компенсацию. Он не знал – что ему делать, чем заняться? Вернуться в Сталинград, где теперь вновь жили Шихманы? На что жить?
И тут он встретил случайно мою мать – выйдя из булочной, она шла по Горького с отрешенным выражением лица, платье с большими красными маками, лента в волосах, белые босоножки, он пошел следом, она вошла в гостиницу «Центральная», что-то сказала преградившему путь швейцару, прошла к лестнице, а швейцар все рассказал, ведь коллег из демократической ГэДээР селили здесь, Шихман хорошо знал швейцара, тот не знал, что Шихман уже за штатом: она приходила сюда часто, номер триста девятый, постоялец записан как Зубрович, Борис Зубрович. Шихман знал этого Зубровича, не Бориса, а Карла, хорошо знал…
…– Зачем? – Потехин аж хлопнул ладонью по «торпеде». – Ну, зачем?
Юноша вздрогнул.
– Через переулки быстрее, – сказал он, с опаской косясь на Потехина.
– Зачем ты все это рассказываешь? – Потехин повернулся ко мне.
– Чтобы… У нас были сложные отношения. Михаил очень много сделал для меня, но я оставался для него чужим. Он женился на моей матери, когда я уже…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.

![Книга YE [VNUX] автора Марк Трахтенберг](/books_files/covers/thumbs_100/ye-vnux-264816.jpg)