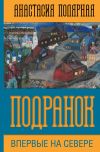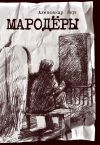Текст книги "Крысиный король"

Автор книги: Дмитрий Стахов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц)
Он как-то признался, что все-таки обижен, что его обошли, обходили и обходят, что его служба у Хекматияра была вынужденной, посмотрел бы он на, скажем, военкомовских, тех, кто говорил ему, мол, я вас туда не посылал; если их поставить на колени, упереть в затылок ствол, как бы они отказались от жизни, умереть он мог, но за что ему надо было умирать, почему надо было умирать? Он говорил о том своем выборе, стоя возле висевшего у меня на стене распятия, говорил, что вот он – Потехин указывал на изогнутое мукой тело Христа, – ему не понятен, был бы понятен, если бы отдал жизнь за хороших людей, за дорогих родственников, за любимых, за свет, за добро, но он-то пожертвовал собой ради каких-то тупых, злых, грязных людишек, предателей хуже Иуды, блядей грязнее этой, как ее, – Магдалины! – да вот ее, или той другой, которую собирались побить камнями, и так получается, что он за тех уродов, которые ходили к той телке трахаться, а потом, когда ее повязали, заготовили камни и собирались ее побить, лишь бы она на них не указала – вот у этого отсасывала, а этому в задницу дала, – да, да-да, продолжал Потехин, ничего я не передергиваю, не надо мне впаривать, что он умер за всех, он умер за всякое чмо и быдло, и я знаю, о чем говорю, потому что вот я не захотел умирать за чмо и быдло; конечно, я не Христос, ты мог этого не говорить, я это и без тебя знаю, но выбор христосовский делать приходится каждому, многие об этом и не догадываются, масштабы у такого выбора разные, последствия несопоставимые, но никого я не предавал, из-за моего согласия никто не погиб, мною отремонтированные танки стояли возле штаб-квартиры Хекматияра, никуда не выдвигались, Гульбеддин, в отличие от наших мудаков, понимал, что к чему, не собирался пускать танки по горным дорогам, да у него и экипажей не было, меня и подожгли на одной из таких горных дорог, меня не могли не поджечь, я был мясом, хорошо – мы были мясом для той сволочи, что не признала меня ветераном и не дала значок и орденок…
…Но в тот вечер Потехин был молчалив. Отказался от пельменей – я все равно сварил на двоих, – достал из рюкзака коньяк, мармелад, вяленое острое жесткое мясо, пряные лимоны, из кармана рубашки – две самокрутки. Попросил чаю. Заварил сам, крепкий, темный, плеснул на дно кружки молока. Мы поели за тем самым, крепким, на совесть сделанным столом, на котором – так мне сказала жена, – Потехин ей заделал ребеночка, пока я валялся в спальне, пьяный, у меня от тогдашней паленой водки перед глазами вспыхивали синие звезды, потом я протошнился, проплевался в туалете, умылся, зашел на кухню – они пьют кофеек как ни в чем не бывало. Потехин потом уехал к тетке, жена ушла, забрав Илью и Илюшину скрипочку, я остался один, с Акеллой и Тарзаном, ребеночек, Петенька, родился, как и положено, в срок, рыженький, как мы с Потехиным.
– Идешь на похороны? – спросил Потехин, наблюдая за тем, как я разливаю остатки коньяка.
– Как догадался?
– На стуле, в большой комнате, висит темно-серый костюмный пиджак. На сиденье стула – костюмные брюки. Сверху, на брюках, белая рубашка и завязанный в узел черный галстук. Ты же не пойдешь травить крыс в пиджаке и гаврилке. Кто умер?
– Отчим…
– Михаил Федорович?
Вот это да! Потехин помнил имя-отчество папы Миши. Последний раз я мог назвать их в Париже, в восемьдесят девятом, и Потехину тогда было не до моего отчима.
– Да, Михаил Федорович.
– Значит – умер. Сколько ему было? Наверное – за восемьдесят, да? Больше? Девяносто? Ого! Мы не доживем. Или доживем, а? – Похороны послезавтра, Потехин. Завтра ты мне поможешь. Заказ.
– Я могу с тобой и на похороны пойти. Поддержу тебя. Хочешь? Друзья для этого и существуют, верно ведь? Эх, Андрюха, вот если бы наш танковый экипаж собрался, вот было бы здорово, ты, я, Цой этот, Турло да Зазвонов. Все бы собрались, похоронили бы твоего отца…
– Отчима!
– Ну да! Да! Отчима! Цой бы приехал из Узбекистана своего, Турло бы… Откуда он был?
– Из Ивано-Франковска. Зазвонов сейчас в Англии. И нас пятеро получается.
– Три, пять, один хрен. Прилетит Зазвонов как миленький, к другу-то. К своему заряжающему. Прилетит, как думаешь?
– Обязательно!..
3
…Я всегда помнила, что старший Каффер, управляющий, высоченного роста, сухой, седоусый, женился поздно, на маленькой, полной ясноглазой девушке, дочери бывшего компаньона Адама Киркора. Так что арийская кровь Кафферов получилась сильно разбавленной: Киркор был поляк, конкурент моего прадеда, Аарона Ландау, владевшего типографией и переплетной мастерской. Стараясь его разорить, Киркор приобрел какие-то Аароновы черты, без этого невозможно, это мне еще в сороковом году объяснил Ганси Каффер – мы будто бы больше похожи на наших врагов, чем на наших союзников.
Ганси был уверен, что все обстояло гораздо хуже – у жены Киркора были еврейские предки, очень-очень давние, настолько давние, что их наличие, даже если бы их обнаружили по документам, не помешало бы Ганси носить красивую черную форму. Симпатию же ко мне – он всегда говорил именно так: «симпатия», «я тебе симпатизирую» и тому подобное – Ганси в порывах откровенности – насколько откровенность была ему доступна – это большой вопрос – объяснял тем, что в веке XVI какой-то жид засунул обрезанный член в одну из его прапрапрабабушек, из-за чего Ганси не только испытывал симпатию, но временами чувствовал в себе слабину, мягкотелость и прочее, что никак не приличествовало званию гауптштурмван – или бан, не помню, никак не могла запомнить эти эсэсовские чины, – фюрера.
Аарон был из рода знаменитого раввина Элиезера Ландау. Дед Исаак учился в Швейцарии и Франции, ему предложили лабораторию при Варшавском университете, он развелся со старой женой, уехал из Вильно, забрав моего отца, Илью, и меня, убившую при рождении свою мать, сноху Исаака. Отец показывал фотографию моей матери, говорил, что я точная ее копия. Он работал у деда ассистентом, был болезненным, худым, как-то проговорился, что у деда с моей матерью были особые отношения, но сам испугался своих слов. На похоронах умершего от сердечного приступа отца я встретила Пьера Карну, французского инженера. Моего Пьера, незабвенного.
Дед женился на дочке торговца фруктами. Ананасы, персики, груши. Потом его скрутил мышечный паралич. Он лечился, но без результата. Через много-много лет я читала роман одного польского еврея, успевшего убраться в Америку, где была изложена почти вся история моего деда, вплоть до его смерти. Этот еврей все, конечно, придумал. У него получилось очень трогательно. Если я скажу, что литература богаче жизни, то буду, наверное, не права, но, читая роман, я плакала. Вспоминая свою жизнь, в частности – деда, я лишь стискиваю челюсти, и протезы врезаются в десны.
Моя новая бабка, жена деда, была старше меня на каких-то шесть– семь лет. Тот еврей описал ее очень правдиво – роскошные, медь с золотом, волосы, раскосые зеленые глаза, тонкая талия, большая грудь. Широкие бедра, конечно. Ноги были длинными, она не била пятками по заднице при ходьбе, как многие еврейские красавицы. И была умной и очень доброй. Паралич параличом, но дед успел заделать дочке торговца фруктами близняшек, потом еще мальчика, Игнацы, который нашел меня после войны. Дед уже тогда, когда Пьер делал мне предложение, году в тридцать восьмом, ходил еле-еле. Его жена наставляла меня перед свадьбой: «Главное – оседлать. Остальное приложится. И не давать думать о постороннем и унывать. Иначе все ослабнет, и ты, мокрая и готовая к лучшему, останешься ни с чем».
Старая жена моего деда, моя родная бабка, оказалась в конечном счете в Киеве, где она, ее дети, мои дяди и тети, пережили революцию и погромы. Одна тетка, Софья, вышла замуж за фанатика, сумасшедшего революционера Каморовича, приехавшего в Киев то ли кого-то убивать своими руками, то ли делать бомбы для убийства. Кажется, бомба взорвалась, того, кого хотел убить Каморович, разорвало на куски, и тетка уехала с Каморовичем в Москву. Вроде бы году в двадцатом, за год до моего рождения.
Эта тетка, Софья, осталась единственной выжившей. Кого-то расстреляли во рву под Киевом. Ганси направили на Украину в командировку из Парижа как раз в это время. Кто-то успел убежать от немцев и украинцев, но попал под бомбежку. Один дядя, служивший секретарем знаменитого адвоката Григоровича-Барского и, собственно, забравший в Киев мать, братьев и сестер, умер от туберкулеза после войны. В России осталась дочь того Каморовича, его внук, а мой дед, молодая его жена и ее близняшки – мертвы.
Как подумаю, что они приходились мне тетушками, мне становится почему-то смешно, хотя от этих девочек и щепотки пепла не осталось. Мертвы и Пьер, и моя дочь. В романе польского еврея так примерно и описано. Надо будет перечитать. Откуда, откуда он все это узнал?
Каморовичи работали у Киркора, пока его типография не разорилась, вернее – пока ее, за сочувствие – так выражался губернатор Муравьев, – польскому делу не разорили, но работали лишь от случая к случаю. Каморовичи по большей части нанимались к старшему Кафферу: в яблоневых садах работы всегда было много, наверняка кто-то из них работает и сейчас, если только уцелели яблоневые сады и Каморовичи, хоть один из них.
Еще до отъезда из Варшавы вместе с Пьером я слышала, что Тышкевичи продали и сады, и даже свой дворец в Паланге, но все равно – хозяин-то какой-то должен быть. Того Каморовича, что нашел в Киеве мою тетку, звали Андрей, он попал в Киев хитрым путем, много лет сидел в крепости, на острове, чуть ли не в Сибири, а до крепости, уехав из-под Вильны или из Паланги, точно не знаю, работал в Петербурге, на напилочной фабрике Прейса.
У Софьи и Андрея родился сначала мальчик, который погиб на войне, потом девочка, которая умерла в лагере, уже после войны, ее посадил Сталин за какие-то стихи, несохранившиеся, хорошие были стихи, плохие – не узнать, да и писала она по-русски, на языке, который когда-то я знала плохо, а теперь совсем забыла. Об этом рассказывала приезжавшая в Париж моя московская сестра Эра, третий ребенок Софьи и Андрея. Ее поправил внук Софьи, получивший имя деда: сначала родилась девочка, Майя, она погибла в самом конце войны, потом мальчик, Лев, он погиб или пропал без вести в сорок третьем, потом – Эра. Майя действительно писала стихи, от которых не сохранилось ни строчки, но ни в каком лагере не сидела. Вот Софья сидела, недолго, правда.
Путаница, мне кажется, вполне извинительна, я общалась на твоя-моя английском и с сестрой Эрой, и с племянником Андреем. Эра, нервная женщина, курившая одну за другой крепкие сигареты, была в Париже в году, кажется, восемьдесят восьмом, рассказывала, что ее сестра умерла в лагере, где начальником был ее двоюродный брат, сын родного брата ее отца Андрея, Петра Каморовича. Тогда, помню, это показалось похожим на еще один роман, где герои между собой связаны не родством даже, не событиями и перипетиями, а чем-то таким, что от них не зависит, случаем и судьбой, о гибели Майи на войне рассказывал уже сын Эры Андрей, получились две истории, и вторая, как мне кажется, тоже для романа, только такого, где случай и судьба играют гораздо меньшую роль.
Я как-то взяла большой лист бумаги и попыталась вычертить не только мои родственные связи, но и – фломастером другого цвета, – связи все прочие, начала со своей семьи, пририсовала то, что знала про Каморовичей, что знала про Кафферов, запуталась, и получилась какая-то абстрактная картина, похожая на полотна Джексона Поллока. Это про нарисованную мной схему сказал племянник, старший сын Игнацы, и посоветовал побольше гулять. Я не обиделась.
Жена управляющего рожала каждый год. Это была настоящая машина по воспроизводству человеков. Когда родилась я, старшие дети в семье Кафферов уже отвоевали в кайзеровской армии – его первенец уехал учиться в университет, вроде бы в Гейдельберге поменял подданство, или сами уже рожали детей, или служили в армии царской, где, кстати, служил и мой самый старший брат, выкрест Эфраим Ландау, ставший Ефимом Ландиным, правофланговым в гвардейском полку и бывшим одно время третьим по росту в русской императорской армии после Маннергейма и великого князя Сергея.
Жизнь мне сохранил сын того, кто занял после умершего старшего Каффера должность управляющего, и внук того, с закрученными кончиками седых усов. Как-то, гуляя по рекомендации племянника, я забрела на кладбище – ненавижу кладбища! ненавижу! – где похоронена моя дочь, и, стоя над ее могилой, вспомнила, что сохранивший мне и дочери жизнь Каффер – его звали Иоганном, – учился на юридическом факультете, одновременно – в какой-то технической школе, приезжал к оставшимся в Литве родственникам. В Париже, во время оккупации, он об этих родственниках говорил с презрением. Называл их фольксдойче, будто сам был коренным германцем.
Он когда-то прекрасно играл на скрипке, терпеть не могу этот инструмент, на скрипке играет сын моего московского племянника, на скрипке играл какой-то знаменитый родственник его отчима, мировая величина, он мне про него рассказывал, а Иоганну, Ганси, прочили большое будущее, его светлые волосы спадали на высокий, белый-белый, чистый лоб, по щекам разбегался легкий румянец, губы были алые, длинные белые пальцы крепко держали смычок, потом, в Париже, я спросила – где твоя скрипка, Ганси? – и он ответил, что скрипка – еврейский инструмент, что он теперь играет на рояле, но прежде, когда он приезжал, я была так в Ганси влюблена, издалека, конечно, издалека, ранняя, детская, совсем детская влюбленность…
…Почти за год до того, как Ганси был послан на Украину, четвертого сентября сорокового, ранним утром приехал Пьер. Он был бледен, небрит, костюм в пыли, шляпа измята, сказал, что надо срочно возвращаться в Париж, что глава SAAMB, господин Марсель Блох, за несколько дней до объявления войны предлагавший Пьеру организовать производство, вчера лично встретился с ним и сказал, что теперь ни о каком серьезном деле речи быть не может, во всяком случае – о таком, которое требует строительства и обустройства нового цеха.
– Может, стоило передать документацию ему? – спросила я.
– Передать? – переспросил Пьер. – Без патента? Ты шутишь? Ни я, ни твой отец пока не имеем патента. Теперь, когда началась война, никто не скажет – когда нам его выдадут. Документация на лампочки – это наше будущее.
– Передать на хранение. Как-никак Блох представляет крупную государственную компанию. И потом, ты же сам говорил, что слишком много людей хотели бы завладеть документацией.
– Я все сохраню сам! – отрезал Пьер. Видимо, на моем лице отразилось сомнение. Пьер подошел, обнял меня.
– Я знаю, о чем ты думаешь, – сказал он. – Немцы через посредников предлагали твоему отцу хорошие деньги, но он сказал, что без моего согласия никаких переговоров вести не будет. Теперь они получат все его разработки за просто так, а если не получат бумаг, будут охотиться за тем, что есть у меня.
И тут я рассмеялась:
– Я поняла! Война началась из-за секрета производства маленьких лампочек! Из-за крохотных светлячков, помогающих летчикам рассмотреть показания приборов!
Мы выехали около полудня. Стояла жара, пахло свежескошенной травой, молоком и хлебом. Ветви яблонь ломились от плодов. Навстречу нам, с запада на восток, двигались полки. Мне показалось, что это были все те парни из родного городка Пьера, которые вчера собирались перед муниципалитетом после объявления мобилизации, успевшие за неполные сутки получить обмундирование, каски, ранцы, винтовки: один из солдат был вылитый сын мясника, другой был таким же носатым, как зеленщик, и я вспомнила, что осталась должна и мяснику, и зеленщику. Я сказала об этом Пьеру, он махнул рукой – мол, чепуха! – и, по приказанию офицера, остановился на обочине: мы пропустили колонну тягачей, тащивших пушки с короткими стволами, за ними – окончательно прогнавшие аромат сентября танки, маленькие, с казавшимися игрушечными башенками, из которых торчали опять же короткоствольные пушки. Я хотела спросить Пьера – почему у французской армии такие пушки? – но лицо его было сумрачным, он смотрел на проходивших, на проезжавших мимо немигающим взглядом, и свой вопрос я оставила при себе.
Мы поехали дальше, и вскоре нас остановили жандармы, которые сказали, что в связи с военным положением мне как иностранке для переезда из одного департамента в другой нужен специальный пропуск. Пьер покраснел, начал было показывать свои документы, но жандармы были неумолимы. Роза, мирно спавшая всю дорогу, проснулась и, увидев стоявших у машины жандармов, радостно засмеялась. Старший жандарм, подкручивая черный ус и подмигивая Розе, сказал, что лучше не тратить время на бесполезные споры, а поехать в жандармское управление департамента: пропуска выдаются только там и много времени это не займет.
Пьер был просто взбешен, но ничего иного, как отправиться в Реймс, не оставалось. По дороге у нас лопнуло колесо, приехали мы лишь к вечеру, и нам пришлось снять на ночь две комнаты в гостинице: в одной поселились Пьер, Роза и я, в другой – Мари. Пропуск был мне выписан на следующий день, но выехали мы только седьмого сентября: у Розы вдруг поднялась температура, она беспрерывно кашляла, приглашенный врач и вовсе советовал строгий постельный режим, по приезде в Париж я узнала, что немцы вышли к предместьям Варшавы и, как и было предписано в жандармском управлении Реймса, поехала в комиссариат, где полицейский чиновник удивленно пожал плечами при виде моего пропуска, сказал, что это была какая-то, неизвестная ему инициатива провинциальных жандармов, но все-таки зарегистрировал пропуск в большой тетради и выставил меня из кабинета.
Уже несколько дней я чувствовала странную дурноту, стучало в висках, дрожали руки, выйдя в коридор, я уселась на жесткую скамью с высокой прямой спинкой. В кабинет к чиновнику вошел его коллега, неплотно притворивший дверь, и я услышала их разговор. Они говорили о том, что зачем Франции заступаться за какую-то Польшу, что за всем этим стоят евреи, и мой чиновник посоветовал зашедшему выглянуть в коридор – мол, красивая еврейка с шикарной задницей как раз подходит к лестнице, мол, для того, чтобы сберечь деньги ее еврея-мужа и ее задницу, всем, и этим чиновникам в том числе, выдадут винтовки. Зашедший выглянул, посмотрел в сторону лестницы, потом увидел меня, сидевшую на скамье, сконфуженно улыбнулся.
Мне стало нестерпимо жарко, глаза наполнились слезами. Я хотела сказать, что мой муж не еврей, что он не богат, что нашу няню Мари оплачивает мать Пьера, вышедшая замуж за американца странная женщина, для которой начало войны стало поводом избавиться и от меня, и от внучки, якобы мешавших ей писать на берегу моря бесконечные этюды; что мы не выдаем винтовки и не хотим, чтобы из винтовок кто-то стрелял, но, понимая, что прозвучит глупо, жалко и бессмысленно, через силу поднялась, пошла к лестнице, виляя своей шикарной задницей, никогда не думала, что она у меня шикарная, мне никто никогда не говорил, что она шикарная, Пьер был на комплименты скуповат, и не только на комплименты…
…Вечером, после долгих попыток, я дозвонилась до квартиры деда. Трубку подняла его жена, она сказала, что все они: мой дед, она и ее дети – должны получить в американском посольстве бумаги, которые позволят им уехать в Швейцарию. Меня никогда не оставляло чувство, что она меня обманывала, что просто не хотела передавать трубку деду, но тем не менее мне стало как-то спокойнее. Только через много лет после войны я узнала, что, несмотря на полученные и предъявленные бумаги, эсэсовцы без лишних слов выбросили деда вместе с инвалидным креслом из окна. Их, видимо, совершенно не интересовали изобретенные каким-то еврейским профессором-электротехником пресловутые маленькие лампочки…
…Когда я попыталась узнать что-то о попавших под власть Советов братьях, племянниках и племянницах – окрестности Вильно и сам город были заняты Красной армией, – то посланное мной письмо вернулось с отметкой «Адресат выбыл». У меня даже появилась идея отправиться в советское посольство и попробовать сделать запрос. Когда я сказала об этом Пьеру, он пожал плечами. Это могло означать и «попробуй» и «не стоит», но, когда я стала просить все-таки высказать свое мнение, он скривился и сказал, что Советы, особенно после нападения на Финляндию, окончательно стали нашим врагом. – Ты что, уже забыла, что они сделали с твоей Польшей? – сказал он.
– С чего ты взял, милый, что Польша – моя?
– Хорошо, Польша – не твоя, но их усатый когда-нибудь дотанцуется с фюрером, оба они омерзительны, но мне – и это главное, – не хотелось бы, чтобы в эти дни мою жену видели входящей в советское посольство.
Утром Пьер сказал, что он вместе с друзьями, в складчину, снял дом, двести пятьдесят километров на юг: когда все побегут из Парижа, у нас будет где укрыться.
– Кто побежит, Пьер? Куда? Почему?
– Побегут парижане. Побегут куда глаза глядят. Побегут потому, что боши обойдут эту дурацкую линию Мажино и наложат нам по первое число…
– Что ты говоришь!
– Их ничто не остановит!
Прошло несколько месяцев, Советы успели положить в войне с Финляндией несколько сотен тысяч своих солдат и взамен получили несколько камней в Карелии, а пророчество Пьера сбылось: десятого мая я прочитала в утренней газете, что надежда на линию Мажино действительно оказалась такой же дутой, как и все прочие надежды. Пьер ушел очень рано, у него ставился какой-то опыт в лаборатории. Я позвонила ему и сказала, что собираюсь идти в комиссариат за пропуском.
– За каким пропуском?
– За пропуском для иностранцев. Пожалуйста, приезжай поскорее домой, нам надо собраться. Мы уезжаем.
– Куда? Зачем?
– Пьер! Очнись! В тот дом, что ты снял с друзьями!
– А! Да-да!
В комиссариате творилось нечто невообразимое. Почему-то к нужному мне окошку старались пробиться в большинстве своем русские эмигранты. Они смотрели на меня несколько удивленно, причем их удивление еще более возросло, когда я попыталась заговорить по-русски с одной высокой, с пепельно-серыми волосами дамой. Она или плохо поняла мои слова, или не хотела их понимать, спросила, откуда я вывезла такой чудовищный акцент; услышав, что из Виленского края, подняла тонкие выщипанные брови еще выше и больше вопросов не задавала.
Пьер вернулся поздно, сначала сказал, что ему необходимо кое– что закончить в лаборатории, потом и вовсе заявил, что должен остаться.
– Должен? И больше ничего не скажешь?
– Нет. Завтра за тобой и Розой заедут мои друзья.
– Ты понимаешь, что у меня с моими документами, с моей фамилией могут возникнуть проблемы?
– Только не говори, что мне надо было давно развестись, жениться на тебе и дать тебе свою фамилию!
– Нет, я это скажу, Пьер! Тебе надо было это сделать. Ты этого не сделал. Мой дед, вернее – моя молодая бабка спешили от меня избавиться. Ты подвернулся вовремя, я ни на чем не настаивала…
Мои слова обидели Пьера. Он поджал губы, совсем как его мать, вечно ходившая с поджатыми губами по дому и проверявшая – не испортила ли я гобелены, не переколотила ли фарфор. Желание испортить и переколотить возникало у меня постоянно. Эта аристократка не могла простить сыну, что он привез из какой-то Варшавы какую-то еврейку, ну переспал, так везти с собой зачем, его мать была уверена, что я забеременела нарочно – я и не отрицала, я так ей и сказала: да, потому что любила и люблю вашего сына! – да и вообще сомневалась, что Пьер – отец, я слышала, как она говорила своему мужу, старому алкоголику, что меня наверняка обрюхатил какой-нибудь раввин, а другие раввины, чтобы избежать позора, нашли Пьера, подсунули меня ему, а старый алкоголик отвечал, что раввины не католические священники, если раввин кого-то и обрюхатит, то его, может быть, и накажут, но не так, как священника, а мать Пьера спрашивала – откуда он это знает? – а тот говорил, что во время Великой войны знал одного раввина и был влюблен в его дочку, а мать моего мужа спрашивала – где это ты нашел раввина во время войны? – а тот уходил от ответа, говорил, что раввины бывают и во время войны, что раввины встречаются и в военное, и в мирное время.
Друзья Пьера заехали за мной и Розой рано утром. В красивой, принадлежавшей матери Пьера квартире осталась Мари. Когда машина тронулась, я обернулась: Пьер стоял у края тротуара, прядь волос упала ему на лоб, он поднял руку, помахал нам вслед.
Мы поехали по Орлеанскому шоссе. Сидевший за рулем Морис гнал как сумасшедший: завод, где он работал, получил предписание об эвакуации, Морису следовало вернуться в Париж к вечеру. Однако жандармы дали нам проехать совсем немного, после чего приказали свернуть на узкую дорогу, и вскоре мы нагнали бесконечную вереницу грязных машин, запряженных лошадьми повозок, людей, тащивших тележки и просто пеших, с чемоданами, узлами и свертками. Все были пропыленными, несмотря на раннее утро – уставшими. Морис сказал, что беженцы уже несколько дней двигались по дорогам, а беспечные жители Парижа пустились в бегство только сейчас. Во мне росло чувство раздражения, мне хотелось выйти из машины, пойти по обочине с Розой на руках, хотелось, выйдя, оставить Розу в машине, идя по обочине – оставить ее там, самой затеряться в толпе. Во мне росла, ширилась злость.
Морис оказался знатоком узких грунтовых дорог, отходящих от шоссе, по которому мы тащились, он свернул на одну из таких, сквозь стадо удивленных нашим появлением коров проехал до другой, утыкавшейся в шоссе, мы поехали быстро-быстро и доехали к полудню до нужного места и поселились в большом и просторном доме: я с Розой, жена Мориса с двумя маленькими мальчиками, жена другого коллеги Пьера, Аннет, с девочкой шести с половиной лет, тихой и косоглазой.
Меня просто с ума сводили самолеты, на небольшой высоте пролетавшие над домом. Говорили, что это итальянские – объявивший Франции войну дуче приказал летчикам летать как можно ниже, тем самым показывая французам, кто теперь хозяин в небе. Мимо дома проходили изможденные, пыльные, всего боящиеся солдаты. Многие были уже без оружия, просили воды, мы несколько раз поили их кофе, солдаты проклинали командиров, которые, по их мнению, попросту их бросили, все они говорили, что хотят добраться до своих домов, пока их не настигли передовые немецкие части.
Аннет принесла в дом одну из брошенных солдатами винтовок, сказала, что в кустах у дороги таких еще много, что умеет ею пользоваться и сможет всех нас при необходимости защитить. Мы с женой Мориса переглянулись и попросили отнести винтовку обратно в кусты. Аннет сначала отказалась, потом ее воодушевление прошло и она тихо унесла винтовку. Она шла, держа винтовку у груди двумя руками. Мы с женой Мориса смотрели ей вслед…
…Ночью в окно постучал приехавший на велосипеде жандарм. Я очень испугалась, мне казалось, что жандармы обязательно меня ищут как неблагонадежную иностранку, но оказалось, жандарм привез мне телеграмму, которую должен был доставить его брат, почтальон, внезапно заболевший. Телеграмма была от Пьера: «За вами заедет Морис. Целую. Пьер».
Заснуть я больше не смогла. Морис приехал утром, мы приготовили кофе, но тут же заухала артиллерия. Где она стояла, когда разместилась, никто не знал. Морис сказал, что неподалеку, возле моста через реку, заняли позиции танки. Возле танков окапывались еще не бросившие винтовки солдаты. Их командир, бравый капитан, решил дать немцам бой. Дети плакали. Стреляли винтовки, пулемет посек ветви молодых яблонь. Мы сидели на полу возле камина, понимая, что одного попадания снаряда в дом будет достаточно для всех. Потом все смолкло. Около полудня Морис пошел на разведку. Он вернулся, сказал, что немцы заняли городок, что французские позиции разбиты.
Мы покормили детей, собрали вещи, погрузили их в машину и поехали. Неподалеку от моста, возле окопа стояли двое немецких солдат, в больших касках, с винтовками. Один из них поднял руку, Морис остановился. Солдат подошел, заглянул в машину. У него были толстые щеки, собранные наподобие куриной гузки губы.
– Оружие? – спросил он.
Мы молчали.
– У вас есть оружие? Не понимаете? Ладно, проезжайте!
Мы медленно тронулись с места. На бруствере, запрокинув голову, лежал французский солдат. Одна нога его была без ботинка, через дырку в коричневом носке торчал белый большой палец.
Мы проехали по мосту, проехали вымерший городок.
– Куда мы поедем, Морис? – спросила я. – Пьер прислал странную телеграмму…
– Я знаю. Мы поедем на юг, – сказал Морис.
За городком нас снова остановили. На этот раз это были двое французских полицейских. Их велосипеды были прислонены к телеграфному столбу. Рядом со столбом стояла немецкая черная машина с открытыми дверцами, в ней сидели два немецких офицера и водитель. По другую сторону дороги стояло несколько немецких солдат, только не с винтовками, а с маленькими автоматами, в пилотках, с закатанными рукавами.
Полицейские приказали взрослым выйти из машины и предъявить документы. Они пролистывали их и возвращали быстро. Когда я протянула свое удостоверение, полицейский вскинул на меня взгляд.
– Ваше гражданство?
– Мой муж – гражданин Франции, – сказала я. – Началась война, и я не успела…
– Так все говорят, – ухмыльнулся он. Полицейский сличал фотографию в удостоверении с моим лицом.
– Я сама француженка, – сказала я, – просто так получилось, что…
Полицейский поднял на меня глаза, прищурился.
– Что у вас за акцент? И волосы вьются не по-галльски. Вы кто на самом деле?
Тут я увидела, что подошедший от машины офицер забирает мои документы у полицейского. Я его сразу узнала. Сразу. Несмотря на то, что он был во всем черном, в высоких сверкающих сапогах, весь перетянут ремнями, в фуражке с серебряным черепом, серебряные погоны со звездой. Это был он, сын управляющего имением Тышкевичей под Вильно, Иоганн Каффер, Ганси, Жук, или, как мы его дразнили, Ловчила. Ловчила слегка сжал пальцы левой руки, разжал их так, словно стряхивал капли воды, я узнала этот жест, он так делал, прижимая скрипку подбородком к плечу, приготавливал левую руку, чтобы потом взяться за гриф, прижать струны. Полицейский тут же отошел в сторону, и Ловчила тихо спросил:
– Так ты не вышла замуж, Рашель?
– Вышла. В машине моя дочь.
– Правда? Которая?
– Вон та, в синей блузке.
– Не похожа на тебя. Это неудивительно – дочки обычно похожи на отцов. Хорошие дочки. Ты вот очень похожа на своего отца. Ты же хорошая дочка, правда? Он умер, твой отец? Ну, не хочешь отвечать, не отвечай. Куда едешь, Рашель?
– Возвращаюсь в Париж. К мужу.